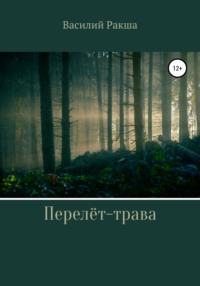Kitobni o'qish: «Перелёт-трава», sahifa 3
– Отчего же не взял? Была я там, за мужем-то. Любила его, как никто не любил, да вот черёд его пришёл рано, очень рано, только ребёночка народили, и на тебе – преставился мой виноградарь. Плакала я долго, всю красу свою выплакала.
– Глядишь, не всю. Любо-дорого смотреть.
– Перестань. Знаю, о чём толкую. Сын потом остался. Поднимать его принялась, наукам обучать, да хозяйство вести. Времени ни на что не оставалось. Да и желания, знаешь ли, после той любви и не было никакого. А как появилось – так уже и годы пролетели, увяла я в трудах вся. А как встрепенуться решила, счастье своё искать вознамерилась, не нашла ничегошеньки. Мужики, те, что городские, все капризные какие-то, или пьют – подливай только.
– Это беда буянская, конечно, ничего не попишешь.
– Не то слово – беда. – Ванда провела рукой по волосам, убрав послушные пряди за ухо. После поймала камнем на перстне отблески пламени костра и посмотрела на собеседника. Её терзали сомнения: попросить ли обещанный чудо-цветок и забыть о встрече, как о ночном кошмаре, или приличнее будет разузнать о мужике побольше? Он, вроде, проявил учтивость, и похвалил, и речами обласкал. Переборов желание поскорее убежать, она проговорила: – Что мы всё обо мне? У тебя небось, историй побольше интересных наберётся. Отчего ты бобылём ходишь? Ни уж то ни одна бабонька на тебя глаз не положила?
Откуда-то из-за пояса вмиг появилась бутыль, затерявшаяся, видимо, в лохмотьях, накинутых на мужицкие плечи. Он сделал большой глоток, зажмурился и шумно вдохнул воздух. Переведя дух, проговорил:
– Лучше бы не положила.
Он снова хлебнул белёсой жидкости, да так обильно, что бутыль осиротела наполовину. Предложил травнице, но та мягким жестом дала понять, что огненной воды не хочет.
– Это долгая история.
Она взглянула на него ещё раз. То ли от горячего ужина, то ли от самогона, может – от тяжёлых воспоминаний, тело его обмякло, а лицо и того сильнее помрачнело. Ей стало так жалко пастуха, казалось, ему было необходимо выговориться. Ванда скользнула взглядом по перелёт-траве и бодро произнесла:
– День закатился, в лесу стемнело, так что я никуда не тороплюсь. Да и дома некому меня ждать. – И удобно расположилась на корявом полене у костра.
– Слушай тогда. Окружил одну роскошью царской: и дары заморские нам привозили, и палаты все резные нам построил, платья чистого шёлка по ней шили. Сына нажили, печали не знали, но однажды смотрю – не весела моя зазнобушка. Я к ней с подарками, она всё артачится. И ласка не помогает, и разговор вести не желает. Один раз слёзы утёрла и раскрылась, говорит, мол, не мил ты мне, другого люблю, о нём день и ночь думаю. И так пронзительно сказала – что кинжал в спину вонзила. Я как от обиды отошёл – так и отпустил на все четыре стороны. А самому себе в тереме золотом места не находил. Ну и отправился странствовать. Хотел забыться, запил, крепко запил, как один наш русский мужик умеет. Обнаружил в один дождливый день себя в грязном хлеву, опустился, глядишь, совсем. Оказалось, попросился спьяну в крестьянскую избу на ночлег. Хозяин меня опасался, шутка ли – богатырь в сарай завалился. Дочь свою молодуху ко мне с пайком присылать стал. Мне тогда крынка молока и корка хлеба – этим меня ежедневно потчевали – казались неземными подношениями. Девка добрая была, вначале как на плаху приходила, а потом, как обвыклась, задерживаться стала, разговоры задушевные вести. Помню, ночкой звёздной появилась, косу распустила, да бутылку на лавку поставила. А сама не уходит. Выпили с ней. Проснулись вместе на моём продавленном сене. К полудню отец ейный прибежал, кричит, мол, как честный человек – обязан в жёны взять! А я что. Так и протрезвел в одно мгновение. Гляжу на него, объяснить пытаюсь, что не надобно ему проблемы такой, а он ни в какую, женись и всё тут. Поженились, свадьбу скромную сыграли, а она и понесла почти сразу. Думал, всё, заживём теперь тихонечко, а у неё откуда ни возьмись норов нарисовался, капризной стала, обленилась совсем. На печи лежит, только и делает что ест и указания раздаёт. А меня ж дальше сеней, как странника грязного, не пускали. Она и меня, и родителей своих до белого коленя доводила, то ей не так, то ей не этак. Вместе с тестем считали дни до родин. Разрешилась она, да видно за вредность наказание настигло: померла в родах. А мальчишка хороший получился. У меня же все мальчишки. Закручинились тесть с тёщей, да выставили с младенцем на порог, мол, порчу на неё навёл какую. А я перечить не стал, знали бы они, кто я, разговор совсем иначе бы вели. А я плюнул через плечо и ушёл. У коровы мальчика выкормил. И снова в странствие обратился. В тёмный холодный край. Думал, может там меня жизнь счастливая ожидает. Сынишку оставил родственникам, чтоб тот на морозе не страдал, хотел обосноваться, ну и забрать, как окрепнет малый. – Он снова булькнул жидкостью и вытянул руку, рассматривая склянку на просвет. Содержимого почти не осталось. Горько вздохнув, он продолжил: – А там… встретил деву прекрасную, холодную, что взгляда не оторвать. Она, как ни странно, вмиг благосклонность свою проявила. Тут же страсть неземная закрутилась, я и опомниться не успел, как голову от неё потерял. В тереме отдельном поселила и являлась ко мне еженощно. Наказала без лишней надобности никуда не ходить. Но в четырёх стенах долго молодца буянского не удержишь: собрался я как-то приятное ей сделать – цветов нарвать да преподнести перед жаркой ночью. Вышел в чёрный город, но цветов нигде не видать; но вместо них нашёл то, к чему готов не был: узнал, что девица моя – не простая девица, царица она тех краёв, да за владыкой, страшным дряхлым стариком замужем. Обрыдла ей такая жизнь, а во мне, тогда ещё молодце видном, разглядела она спасение. И ненасытная была, бывало, за ночь пять раз… ну того. Ты поняла. Я как не старался, всё ей мало было. Утомился совсем, а тут, вроде, подвезло: муженёк ейный всё прознал, потребовал выставить меня за врата чёрного города. Она появилась в ту ночь позднее обыкновенного, взгляд холоднее льда, да молвит, что мне теперь в схватку с владыкой вступить надобно, умертвить его и на трон сесть. И меч мне протягивает. – Остатки огненной воды отправились в желудок. Он вытер рот и медленно изрёк: – А я что? Мирный я. Котомку собрал и под брань отборную ушёл, куда глаза глядели. С тех пор я живу себе отшельником, вдали от рода человеческого, скот пасу, хотя мог бы не то что царством, всем Пятимирием верховодить! Меня ведь не только бабы, но и мужики обманывали. Другом называли, а потом до нитки обворовывали, пользовались моей доверчивостью.