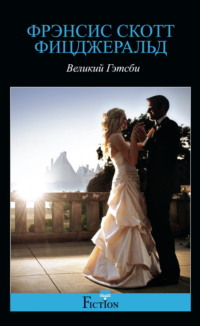Kitobni o'qish: «Великий Гэтсби»
И снова посвящается Зельде
Надень-ка ты золотую шляпу – вдруг сердце ее растает;
А может, нужно прыгнуть повыше – она об этом узнает.
Узнает и крикнет: «Чудесная шляпа! И ты так высок к тому же!
Приди же скорее в мои объятья! Любимый, как ты мне нужен!»
Томас Парк Д’Инвильерс1

Fransis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby
A Novel

© Перевод, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
Глава 1
В далеком детстве, когда я еще был ранимым ребенком, отец дал мне совет, над которым я размышляю до сих пор.
«Когда тебе захочется кого-нибудь покритиковать, – сказал он мне, – просто вспомни, что далеко не у всех на этой земле есть то, что имеешь ты».
Вот и все, что он сказал, но мы всегда понимали друг друга без лишних слов, и я знал, что он подразумевал гораздо больше, чем произнес. Именно поэтому я взял за правило склонность не высказывать свои суждения вслух – привычка, которая позволяла мне увидеть много любопытного в людях, но она же часто делала меня жертвой неприятных, назойливых людей. А ведь даже едва тронутый нездоровьем разум сразу отмечает это качество, когда оно проявляется в нормальном человеке; еще в колледже меня несправедливо обвиняли в политиканстве из-за того, что даже нелюдимые и замкнутые студенты посвящали меня в свои тайные печали. Большую часть их секретов я узнавал случайно; я частенько притворялся спящим или целиком погруженным в свои мысли или мною овладевало неуместное веселье, когда вдруг безошибочный знак указывал мне на то, что вот-вот настанет минута для очередных задушевных откровений; ведь задушевные откровения молодых людей, по крайней мере то, как именно они их выражают, обычно представляют собой плагиат, да еще и страдающий всякого рода недомолвками. Умение мыслить про себя и не высказываться вслух дает безграничные возможности. Я до сих пор немного боюсь что-нибудь упустить, если забуду, что (как с долей снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю я) не все в равной степени от рождения наделены чувством основных моральных ценностей.
И вот, погордившись таким образом своими способностями, я все же должен признать, что они ограниченны. Поведение человека может основываться на разных вещах – на любви к тяжелому року или к слезливым маршам, но в какой-то момент я утратил интерес к тому, на чем именно оно основано. Когда я прошлой осенью вернулся с Востока, мне хотелось, чтобы мир оделся в военный мундир и замер по стойке «смирно». Я более не желал никаких увлекательных путешествий с привилегией проникать в человеческие души. Только Гэтсби – человек, именем которого названа эта книга, – стал исключением из правила, Гэтсби, воплощавший все то, что вызывало у меня когда-то презрительную усмешку. Если рассматривать личность как некую череду успешных ее проявлений, то в нем было что-то совершенно потрясающее, какая-то выразительная чувственность, обещание жизни, как будто он был связан с одним из тех затейливых механизмов, которые регистрируют землетрясение на расстоянии десяти тысяч миль от него. Эта восприимчивость не имела ничего общего с невыразительной впечатлительностью, которая удостоена названия «творческий темперамент»; это был необыкновенный дар надежды, романтическая мягкость, какой я никогда не встречал в других людях и вряд ли когда-либо снова встречу. Нет, Гэтсби под конец оправдал себя – вернее, не он, а то, что его терзало, та пыль, что запорошила его мечту, – вот что заставило меня на некоторое время утратить всякий интерес к быстро проходящим людским печалям и кратковременным радостям.
* * *
Вот уже три поколения моей довольно состоятельной семьи играют важную роль в жизни нашего городка, что на Среднем Западе. Карравей – это нечто вроде клана, ведущего свое начало, согласно семейной легенде, от герцогов Бэклу. Но на самом деле настоящим родоначальником нашей ветви был брат моего деда, который в 1851 году приехал в эти места, послал вместо себя наемника в федеральную армию и открыл собственный бизнес по оптовой торговле скобяными товарами (им сейчас занимается мой отец).
Прадеда своего я никогда не видел, но все говорят, что я на него похож, если судить по довольно суровому лицу, изображенному на портрете, что висит в кабинете отца. В 1915 году я окончил университет, вернулся из Нью-Хейвена – ровно через четверть столетия после моего отца, и некоторое время спустя принял участие в долгой тевтонской миграции, более известной под названием «Великая мировая война». Я так увлекся контрнаступлением, что, и вернувшись домой, все никак не мог найти себе покоя. Теперь уже Средний Запад казался мне не кипучим центром мироздания, а задворками Вселенной, поэтому я решил отправиться на Восток и начать изучение кредитного дела.
Все мои знакомые занимались именно облигациями, значит, и еще один человек сможет на этом заработать себе на хлеб. Мои тетушки и дядюшки так рьяно бросились обсуждать эту проблему, будто выбирали для меня подготовительную школу, и наконец, придав лицу важное и одновременно нерешительное выражение, они сказали: «Ну почему бы и нет». Отец согласился в течение года оказывать мне финансовую поддержку, и после разного рода задержек и препятствий весной двадцать второго года я отбыл на Восток, как мне тогда казалось, навсегда.
Разумнее всего было найти комнату в городе, но стояла теплая погода, а я только что покинул страну не тронутых человеком лужаек и тенистых деревьев, а потому, когда один парень в офисе предложил мне с ним на паях снять жилье где-нибудь в пригороде, я посчитал эту идею замечательной. Он сам нашел этот дом – непрочное потрепанное бунгало за восемьдесят долларов в месяц. Однако в последнюю минуту фирма направила его в Вашингтон, и мне пришлось отправляться туда одному. У меня была собака (правда, пес прожил со мной всего несколько дней и куда-то убежал), старенький «додж» и финка, которая убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плитке, бормоча себе под нос какие-то ужасно мудрые финские пословицы.
Дни я проводил в одиночестве, пока однажды утром какой-то мужчина, по-видимому прибывший сюда еще позже меня, не остановил меня на дороге.
– Не подскажете, как можно попасть в Вест-Эгг? – спросил он меня беспомощным голосом.
Я объяснил, и, когда продолжил путь, чувство одиночества исчезло без следа. Отныне я стал гидом, первопроходцем, старожилом. Вот так, мимоходом, он даровал мне свободу жителя здешних мест.
Солнце припекало, и почки на деревьях распускались прямо на глазах, будто смотришь замедленную съемку в кино; и мне казалось, что летом каждый раз жизнь начинается снова.
Мне предстояло немало прочитать, а также подкрепить свое здоровье, напитавшись этим бодрящим свежим воздухом. Я купил дюжину книг по банковскому и кредитному делу, а также и по инвестированию, и они стояли у меня на полке, блистая красным золотом, будто только что отчеканенные новенькие монетки, обещая раскрыть все секреты, которые были доступны лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Кроме того, я определенно намеревался прочитать и много других книг. В колледже у меня открылись довольно приличные литературные способности (за год я написал целый ряд напыщенных и банальных статей в «Йельский вестник»), и теперь я собирался вновь обратиться к этому занятию и опять стать самым что ни на есть узким специалистом в этом вопросе и вообще, что называется, «всесторонне развитым человеком». И дело здесь не просто в афоризме: лучше всего ты видишь жизнь из единственного окна.
Так случилось, что я арендовал дом в одном из самых своеобразных местечек Северной Америки. Оно находится на узком островке с пышной растительностью, который протянулся точно на восток от Нью-Йорка и где среди других естественных достопримечательностей есть и два необыкновенных участка земли. В двадцати милях от города, где-то на задворках пролива Лонг-Айленд – самого цивилизованного водоема с соленой водой во всем Западном полушарии, – в море вдаются два огромных овальных мыса, одинаковые по форме и разделенные лишь небольшой бухточкой. Нельзя сказать, что они представляют собой идеальный овал: подобно Колумбову яйцу они будто сплюснуты в том месте, где соединяются; но они так поразительно повторяют друг друга очертаниями, что, наверное, и чайки, летающие над ними, не устают поражаться этому сходству. Для бескрылых же существ сей феномен менее заметен, поскольку, за исключением формы и размера, эти мысы не имеют ничего общего.
Я жил в Вест-Эгге, на том мысе, что считался менее фешенебельным из двух, хотя этот словесный ярлык не может выразить тот странный и даже несколько зловещий контраст между ними. Мой дом располагался на самом острие мыса, всего лишь в пятидесяти ярдах от береговой линии залива и был втиснут между двумя роскошными виллами, которые сдавались за пятнадцать – двадцать тысяч на сезон. Та, что находилась справа от меня, с любой точки зрения была великолепна – почти полная имитация какой-нибудь Hotel de Ville2 в Нормандии; с одной стороны виллы возвышалась башня, проглядывающая сквозь негустые заросли молодого плюща, и располагался мраморный бассейн, а лужайка и сад простирались более чем на сорок акров земли. Это и был особняк Гэтсби. Но поскольку тогда я еще не знал его владельца, то для меня это был особняк некого джентльмена по имени Гэтсби, дом, в котором поселился я, если и был бельмом на глазу, то совсем маленьким, не сразу и заметишь; он стоял выше, а потому я мог любоваться морем и отчасти соседской лужайкой, а также утешаться непосредственной близостью миллионеров – и все это за восемьдесят долларов в месяц.
На другой стороне залива у воды блестели белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга, и история этого лета на самом деле началась именно в тот вечер, когда я приехал туда, чтобы пообедать с Томом Бьюкененом. Дейзи приходилась мне кем-то вроде троюродной сестры, а Тома я знал еще по колледжу. Как-то вскоре после войны я два дня гостил у них в Чикаго.
Ее муж обладал многими физическими достоинствами, а кроме того, считался еще и сильнейшим левым крайним игроком среди тех, что когда-либо играли в футбол в Нью-Хейвене. Он был в некотором роде гордостью нации, одним из тех мужчин, которые к двадцати одному году достигают пика совершенства в какой-то области, а затем, что бы они ни делали, все кажется спадом. Его семья была чрезвычайно богата (еще в колледже его упрекали за манеру сорить деньгами), но он оставил Чикаго и перебрался на Восток, сделав это с потрясающим размахом: например (а вот здесь затаите дыхание!), привез из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно даже представить, что человек моего возраста имел достаточно денег для подобных прихотей.
Я понятия не имею, зачем они переехали на Восток. Год они провели во Франции, тоже без всякой цели, а затем долго кочевали повсюду, куда съезжаются богачи, чтобы вместе поиграть в поло. Это был просто их очередной, но окончательный переезд, как сказала мне Дейзи по телефону, правда, я ей не поверил. Конечно, я не мог заглянуть Дейзи в душу, но чувствовал, что Том будет бесконечно метаться с места на место в слегка окрашенной тоской жажде всплеска эмоций, какой бывает на напряженном футбольном матче.
Вот как вышло, что одним теплым ветреным вечером я приехал в Ист-Эгг, чтобы повидаться с двумя старыми друзьями, которых я вообще-то едва знал. Их особняк оказался даже более вычурным, чем я ожидал, – веселенький красно-белый дом в георгианско-колониальном стиле, возвышающийся над заливом. Лужайка начиналась прямо от воды и поднималась в сторону центрального входа на четверть мили вверх, перепрыгивая через солнечные часы, посыпанные кирпичной крошкой дорожки и яркие клумбы, и, наконец, добравшись до дома, будто с разбегу, взлетала по стене зарослями винограда. Ряд французских окон, сияющих отраженным золотым светом, прорезал фасад по всей длине; они были широко распахнуты в этот теплый ветреный день. А на парадном крыльце стоял, расставив ноги, Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.
Он изменился со времен Нью-Хейвена. Сейчас это был крепкий мужчина лет тридцати, с соломенными волосами, довольно резко очерченным ртом и высокомерным видом. На лице его выделялись надменно блестевшие глаза, и создавалось впечатление, что он как-то агрессивно подался вперед. И даже женоподобное щегольство его одеяния для верховой езды не могло скрыть необычайно сильного тела: казалось, его икрам тесно в высоких глянцевитых ботинках и шнуровка вот-вот лопнет, а когда он двигал плечами, то становилось заметно, как под тонкой одеждой перемещается гора мышц. То было тело, способное на многое – жестокое тело.
Он говорил хриплым, грубым тенором, весьма подходившим к тому впечатлению, которое производил, – человека с тяжелым характером. Даже в разговоре с теми, кто ему нравился, в его голосе сквозили нотки презрительной снисходительности, и в Нью-Хейвене многие его терпеть не могли.
«Так и быть, я не претендую на то, что мое мнение в этом деле непререкаемое, – казалось, говорил он, – только потому, что я сильнее тебя и настоящий мужчина». На старших курсах мы с ним состояли в одном и том же студенческом обществе, и, хотя никогда не были особенно близки, у меня сложилось впечатление, что он мне симпатизировал и пытался – пусть по-своему, с каким-то беспокойным вызовом – подружиться со мной.
Мы немного поболтали, стоя на залитом солнцем крыльце.
– У меня здесь неплохое местечко, – сказал он, беспокойно водя глазами по сторонам.
И, слегка надавив на мое плечо (так, чтобы я повернулся), он широким движением другой руки обвел открывавшуюся взору панораму: и парадную аллею, и залитый солнцем итальянский сад, и пол-акра пряно благоухающих колючих роз, и горделиво задравшую нос моторную лодку, которая покачивалась у берега на волнах прилива.
– Все это принадлежало Деймену, нефтянику. – Он снова нажал на мое плечо, одновременно вежливо и резко, и произнес: – Пойдем в дом.
Через холл с высоким потолком мы прошли в ярко-розовое помещение, со всех сторон ограниченное прозрачными французскими окнами. Они были приоткрыты и поблескивали белым на фоне сочной молодой травы снаружи, так что казалось, будто она растет и в самом доме. Легкий ветерок, гуляющий по комнате, задувал шторы на одном конце ее, а на другом раздувал их, словно какие-то светлые флаги, скручивал, поднимая к потолку, похожему на покрытый глазурью свадебный торт, а затем, вообразив себя морским бризом, пускал рябь по винно-красному ковру, бросая на него тени.
Единственно, что было неподвижным в комнате, это огромная кушетка, на которой, как на привязанном к якорю воздушном шаре, балансировали две молодые женщины. Обе были в белом, и их платья колыхались и трепетали, будто они только что опустились сюда после короткого полета по дому. Должно быть, я простоял несколько минут, прислушиваясь к биению и хлопкам занавесок и скрипу картин на стене. А потом что-то стукнуло: Том Бьюкенен захлопнул дальние окна, и пойманный в ловушку ветер вдруг затих в комнате – занавески, ковры и две молодые женщины плавно заскользили к полу и обрели недвижимость.
Ту, что была помоложе, я не знал. Она вытянулась на диване во весь рост и лежала совершенно неподвижно, лишь ее подбородок был приподнят, будто на нем балансировал какой-то предмет, а она старалась удержать его. Если она даже и видела меня уголком глаза, то никак не показала этого, и от растерянности я чуть было не начал бормотать извинения, что побеспокоил ее своим приходом.
Другая девушка – Дейзи – сделала попытку встать: она слегка наклонилась вперед с озабоченным выражением на лице, а затем рассмеялась звонким и очаровательно нелепым смешком, и я тоже засмеялся и шагнул к ней.
– Я совершенно п-п-парализована от счастья.
Она снова рассмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, на секунду задержала мою руку, посмотрела на меня с таким видом, словно я единственный человек в мире, которого она так сильно жаждала видеть. Это было вполне в ее стиле. Мурлыкая, она прошептала, что балансирующая на диване девушка носит фамилию Бейкер. (Злые языки говорили, будто Дейзи шептала лишь для того, чтобы заставить людей наклоняться к ней; бессмысленная критика: это ничуть не лишало ее очарования.)
Так или иначе, но губы мисс Бейкер шевельнулись, она едва заметно кивнула мне и затем опять быстро откинулась назад – наверное, балансирующий предмет покачнулся и она испугалась, что он упадет. И снова извинения едва не сорвались с моих губ. Меня всегда смущало любое проявление апломба и независимости.
И я опять перевел взгляд на кузину, которая начала задавать мне вопросы низким, волнующим тоном. Ее голос заставлял прислушиваться, как будто все ее слова были некоей мелодией, которая больше никогда не повторится. Лицо Дейзи имело выражение печали и привлекало каким-то особенным блеском – блестящие глаза и великолепный чувственный рот. А в голосе ее звучало особенное волнение, так что мужчины, питающие к ней интерес, долго не могли его забыть: необъяснимое влечение, шепот «Послушайте», обещание чего-то радостного, волнующего, только что миновавшего и еще ожидающего впереди.
Я рассказал ей, что по дороге на Восток я на день останавливался в Чикаго и что дюжина человек передавали ей самые сердечные приветы.
– Они обо мне скучают? – с упоением вскрикнула она.
– Город безутешен. У тамошних машин левое заднее колесо окрашено в черный цвет в знак траура, а на всем северном побережье по ночам раздаются непрекращающиеся стенания.
– Восхитительно! Давай вернемся, Том. Завтра же! – И затем вне всякой связи прибавила: – Ты должен посмотреть малышку.
– С удовольствием.
– Она уже спит. Ей два годика. А разве ты ее не видел?
– Никогда.
– Ну, так ты обязательно должен ее повидать. Она…
Том Бьюкенен, беспокойно ходивший по комнате, остановился и положил руку мне на плечо:
– Чем теперь занимаешься, Ник?
– Ценными бумагами.
– У кого?
Я сказал ему.
– Никогда не слышал, – высокомерно заметил он.
Я начал раздражаться.
– Услышишь, – резко ответил я. – Услышишь, если останешься жить на Востоке.
– О, не беспокойся, я останусь здесь, – сказал он, бросив взгляд на Дейзи, а затем снова посмотрел на меня, будто предупреждая о чем-то. – Черт, не такой я дурак, чтобы отсюда уехать.
В этот момент мисс Бейкер произнесла: «Абсолютно», и сделала это так неожиданно, что я вздрогнул: это было первое слово, которое она произнесла, с тех пор как я вошел в комнату. По всей видимости, она и сама удивилась не меньше моего, поскольку зевнула и, сделав несколько быстрых, ловких движений, встала.
– Я прямо одеревенела, – пожаловалась она. – Сама уже не помню, сколько времени валяюсь на диване.
– Не надо на меня так смотреть, – возразила Дейзи. – Я все утро пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк.
– Нет, спасибо, – сказала мисс Бейкер четырем коктейлям, только что появившимся на буфетной стойке. – Я в полном порядке.
Хозяин дома с недоверием взглянул на нее.
– Ну да! – Он осушил свой стакан одним глотком, будто там и было-то всего на донышке. – Понять не могу, как тебе вообще это удается.
Я посмотрел на мисс Бейкер, чтобы понять: а что, собственно говоря, ей «удается». Мне нравилось глядеть на нее. Она была стройной девушкой с небольшой грудью и горделиво вздернутой головкой, что еще более подчеркивалось привычкой отклоняться назад и расправлять плечи, точно юный кадет. Она опять посмотрела на меня своими серыми, прищуренными от солнца глазами, и на ее бледном, очаровательно раздраженном личике угадывалось нечто похожее на ответное любопытство. И в этот момент я понял, что уже где-то видел то ли ее саму, то ли ее фотографию.
– Вы живете в Вест-Эгге? – слегка презрительно протянула она. – Я там знаю кое-кого.
– А я там не знаю ни…
– Вы наверняка знаете Гэтсби.
– Гэтсби? – требовательно поинтересовалась Дейзи. – Какой такой Гэтсби?
Только я собрался ответить, что это мой ближайший сосед, как доложили, что кушать подано, и Том Бьюкенен, в очередной раз властно надавив мне на локоть, увлек меня прочь из комнаты так, будто передвинул фигуру на шахматной доске.
Обе женщины, легко покачивая бедрами, грациозно и томно пошли впереди нас на розовую веранду, из окон которой был виден закат. Четыре свечи на столе чуть дрожали от слабого ветерка.
– К чему эти свечи? – нахмурившись, сердито возразила Дейзи и затушила их пальцами. – Через две недели будет самый долгий день в году. – Она окинула нас лучистым взглядом. – У вас было так, что ждешь самого долгого дня в году, а он вдруг раз – и миновал? Вот лично со мной так случается каждый год: жду-жду и все равно пропускаю его.
– Нам нужно что-нибудь придумать, – зевнула мисс Бейкер, присаживаясь за стол так, словно она ложилась в постель.
– Хорошо, – согласилась Дейзи. – Какие у нас планы? – И она беспомощно повернулась ко мне. – Что люди обычно придумывают?
Но прежде, чем я успел ответить, ее взгляд, выражающий ужас, переметнулся на ее же собственный мизинец.
– Посмотрите, – жалобно протянула она. – Я ударилась.
Мы все взглянули на палец: сустав стал черно-синим.
– Это ты виноват, Том, – сказала она обвиняющим тоном. – Я знаю, что ты не хотел, но сделал же. Это все потому, что я вышла замуж за брутального мужчину, огромного и очень неуклюжего, неловкого…
– Ненавижу это слово – «неуклюжий», – резко возразил Том, – даже в шутку.
– Неуклюжий, – настаивала Дейзи.
Время от времени она и мисс Бейкер перекидывались фразами – насмешливыми и бессодержательными, так что это и не было похоже на легкую болтовню, а их белые платья и бесстрастные глаза, казалось, не выражали вообще никаких желаний. Они сидели здесь и благосклонно терпели меня и Тома, делая вежливые попытки развлекать нас и развлекаться самим. Они знали, что обед закончится, а немного позже и этот вечер кончится и незаметно уйдет в прошлое. Все это было совсем не так, как на Западе, где всегда торопишь вечер, час за часом гонишь его к концу, печально и нервно ожидая и боясь того, что он вот-вот закончится.
– Дейзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком, – признался я после второго бокала легкого, но отнюдь не безобидного кларета. – Не могли бы вы говорить об урожае или о чем-нибудь в этом роде?
На самом деле я не хотел сказать ничего особенного, но мое замечание имело неожиданные последствия.
– Цивилизация идет к черту, – грубо вмешался Том. – Я стал ужасным пессимистом насчет всего этого. Ты читал «Подъем цветных империй» этого автора – Годдарда?
– Нет, а что? – ответил я, весьма удивленный его тоном.
– Ну, это отличная книга, все должны ее прочесть. Идея в ней состоит в том, что если мы не будем бдительны, то белая раса полностью-полностью сойдет на нет. И все научно. Все доказано.
– Том становится таким мудрым, – произнесла Дейзи с выражением беззаботной печали. – Он читает умные книги с такими длинными словами. Какое слово мы никак не…
– Да, научные труды, – настаивал Том, раздраженно глядя на нее. – Этот парень создал целую теорию. По ней мы, господствующая раса, должны быть настороже, иначе другие займут наше место.
– Мы должны их сломить, – прошептала Дейзи, картинно подмигивая пылающему солнцу.
– Тебе нужно жить в Калифорнии, – начала было мисс Бейкер, но Том перебил ее, с шумом передвинув свой стул:
– Дело в том, что мы представители нордической расы. Я, и ты, и ты, и… – Секунду поколебавшись, он легким кивком включил в этот круг и Дейзи, и она снова мне подмигнула. – И именно мы сделали все то, что привело нас к цивилизации, – да, науку, искусство и тому подобное. Понимаешь?
В его сосредоточенности чувствовалось что-то патетическое, будто бы ему уже было мало упоения собственной личностью, даже столь сильно возросшего с годами. И когда где-то внутри дома зазвонил телефон и дворецкий ушел с веранды, Дейзи не преминула заполнить образовавшуюся паузу и наклонилась ко мне.
– Я тебе расскажу об одной семейной тайне, – прошептала она с энтузиазмом. – Это насчет носа нашего дворецкого. Хочешь послушать про нос дворецкого?
– Я сюда именно за этим и пришел.
– Так вот, он не всегда был дворецким. Раньше он работал полировщиком серебра у каких-то людей в Нью-Йорке, где столового серебра было на две сотни человек. Ему приходилось полировать его с утра до ночи, пока наконец у него не развился страшный насморк…
– Ситуация становилась все хуже и хуже, – подсказала мисс Бейкер.
– Да, ситуация становилась все хуже и хуже, и ему пришлось оставить эту работу.
В этот момент последний солнечный луч бросил романтический отблеск на ее сияющее лицо; ее голос заставил меня, затаив дыхание, податься вперед, а затем сияние померкло: лучи покидали ее медленно и неохотно, словно не желая уходить, как это делает ребенок, которому нужно с наступлением сумерек вернуться с милой сердцу улицы домой.
Снова пришел дворецкий и пробормотал что-то Тому на ухо, Том нахмурился, отодвинул стул и, не сказав ни слова, ушел внутрь дома. Его уход будто что-то оживил: Дейзи снова наклонилась, и ее голос стал теплым и певучим.
– Мне так приятно видеть тебя за этим столом, Ник. Ты напоминаешь мне… розу, чистую розу. Ведь правда? – В поисках подтверждения она повернулась к мисс Бейкер. – Чистую розу?
Какая глупость. Я даже отдаленно не похожу на розу. Она просто сказала первое, что пришло ей в голову, но от нее исходило такое тепло, словно ее душа стремилась прикоснуться к тебе, спрятавшись за этими волнующими, заставляющими трепетать сердце словами. Потом она вдруг бросила свою салфетку на стол, извинилась и ушла в дом.
Мы с мисс Бейкер обменялись быстрыми и ничего не выражающими взглядами. Я уже было начал говорить, когда она внезапно встала и встревоженным голосом произнесла: «Шш!» В соседней комнате слышалось тихое взволнованное бормотание, и мисс Бейкер подалась вперед, совершенно не смущаясь того, что подслушивает. Голос был едва различим, затем затих и снова стал слышим, а потом и совсем пропал.
– Этот мистер Гэтсби, о котором вы говорили, – он мой сосед, – начал я.
– Помолчите. Я хочу послушать, что там происходит.
– А что-то происходит? – невинно поинтересовался я.
– Вы хотите сказать, что не знаете? – искренне удивилась мисс Бейкер. – Я думала, все знают.
– Я – нет.
– Ну, – сказала она, поколебавшись, – Том завел женщину в Нью-Йорке.
– Завел женщину? – тупо повторил я.
Мисс Бейкер кивнула:
– Могла бы она иметь хоть каплю совести и не звонить во время обеда. Правда?
Не успел я осмыслить услышанное, как шуршание платья и скрип кожаных ботинок возвестили о том, что Том и Дейзи возвращаются к столу.
– Неотложное дело! – вскричала Дейзи с наигранной веселостью. Она села, внимательно взглянула на мисс Бейкер, а затем на меня и продолжила: – Я на минутку вышла на улицу, там так романтично. На лужайке птичка поет. Думаю, что это наверняка соловей. Прибыл с последним «Кунардом» или «Вайт Стар»3. Он поет… – И ее голос тоже стал певучим. – Это так романтично. Правда, Том?
– Очень романтично, – согласился он и, будто в поисках спасения, обратился ко мне: – Если после обеда еще будет светло, то я покажу тебе конюшни.
В доме пронзительно зазвонил телефон, и, когда Дейзи, глядя на Тома, решительно покачала головой, разговор о конюшнях, да вообще обо всем, прервался и повис в воздухе. Последние пять минут за столом остались у меня в памяти какими-то обрывками, и я лишь припоминаю, что снова зачем-то зажгли свечи и мне ужасно хотелось смотреть на всех в упор, но так, чтобы ни с кем не встречаться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Том и Дейзи, но очень сомневаюсь, что мисс Бейкер с ее явно выраженным скептицизмом могла не замечать трескучей стальной навязчивости этого пятого «гостя». Ситуация выглядела настолько интригующей, что мне отчаянно хотелось позвонить в полицию.
Само собой, о лошадях уже больше и не упоминали. Том и мисс Бейкер, разделенные сумерками, повисшими между ними, снова направились в библиотеку, словно бы для бдения над невидимым, но вполне реальным покойником, в то время как я, стараясь выглядеть любезным, заинтересованным и слегка глуховатым, последовал за Дейзи на переднее крыльцо сквозь целый ряд сообщающихся веранд вокруг дома. С мрачным видом мы уселись рядом на плетеный диванчик.
Дейзи охватила лицо руками, словно ощупывая его изысканные черты, и ее взгляд постепенно смещался куда-то в бархатную даль сумерек. Я видел, что ее одолевают тяжелые чувства, и потому решил немного отвлечь ее вопросами о маленькой дочке.
– Мы не так уж хорошо знаем друг друга, Ник, – сказала она, – хотя и родственники. Ты даже не был на моей свадьбе.
– Тогда я еще не вернулся с войны.
– Верно. – Она поколебалась. – Понимаешь, Ник, мне сейчас трудно, и я довольно цинично смотрю на вещи.
Судя по всему, у нее были на это причины. Я ждал, но она больше ничего не сказала, и через некоторое время я довольно неуверенно свел разговор к ее дочери:
– Наверное, она уже разговаривает… и ест… и все такое.
– О да. – Она бросила на меня рассеянный взгляд. – Слушай, Ник, хочешь знать, что я сказала, когда она родилась. Хочешь?
– Очень хочу.
– Ты поймешь, что я чувствовала по… по поводу всего этого. Ну вот, ей было еще меньше часа, а Том находился бог знает где. Когда я очнулась, я совершенно ничего не чувствовала и только сразу же спросила медсестру:
«Мальчик или девочка?» Она сказала, что девочка, и я тут же отвернулась и заплакала. «Ну и хорошо, – сказала я, – очень рада, что девочка. Надеюсь, она вырастет дурочкой, потому что в нашем мире девушке лучше всего быть прелестной глупышкой».
– Видишь ли, мне кажется, что нет на свете ничего хорошего, – убежденно продолжала она. – Все так думают, даже самые умные люди. И я это знаю. Ведь я везде была, все видела и все испытала. – Глаза ее дерзко засверкали, подобно тому как это делал Том, и она нервно и презрительно засмеялась. – Умудренная опытом, боже, я умудренная опытом!
Как только она замолчала, очарование требовательности, принуждавшее меня слушать и верить, исчезло, и я почувствовал глубокую фальшь ее слов. Мне стало так неловко, словно весь этот вечер был чем-то вроде шутки, призванной вызвать во мне сочувствие. Я ждал, совершенно уверенный в этом, и действительно, в этот момент на ее прекрасном личике появилась вполне самодовольная ухмылка, будто ей удалось доказать свое право на принадлежность к некоему высшему тайному обществу, в котором они состояли вместе с Томом.
* * *
А внутри дома малиновая комната утопала в свете лампы. Том и мисс Бейкер сидели рядом на длинной кушетке, она читала ему вслух что-то из «Сатердей ивнинг пост», и ее слова складывались в убаюкивающую колыбельную песенку. Свет лампы падал на его ботинки, тусклым золотом подсвечивал ее волосы цвета желтых осенних листьев и вспыхивал на страницах журнала, когда она переворачивала их уверенным движением порхающих тонких пальцев.