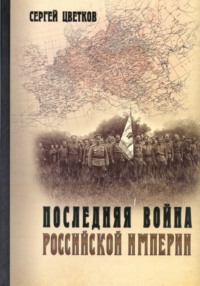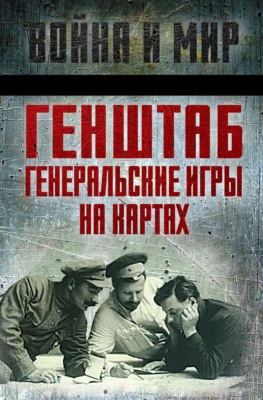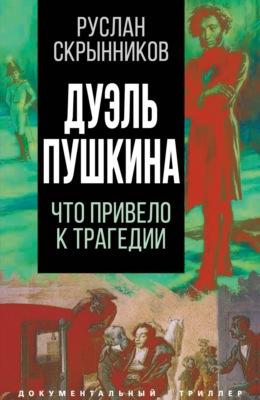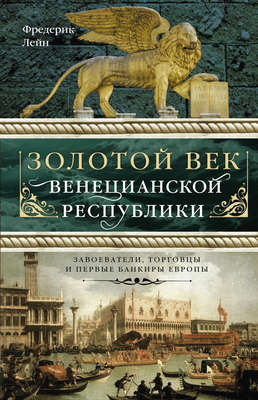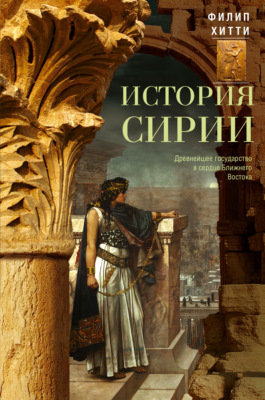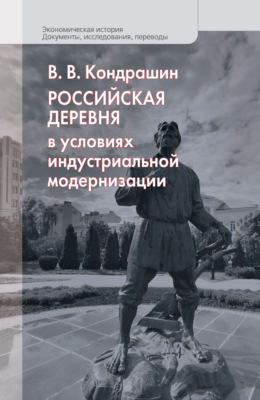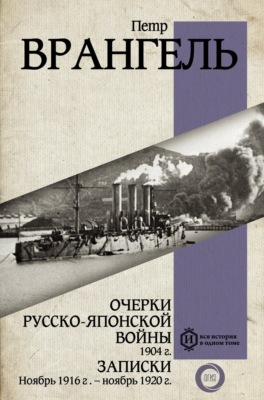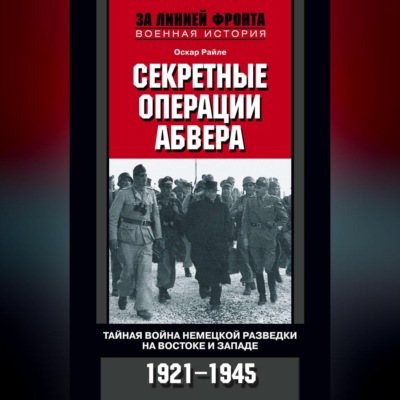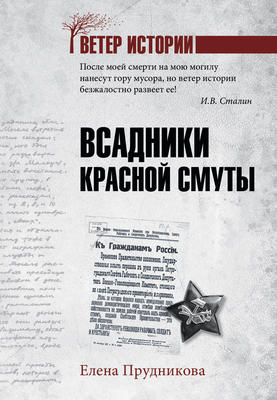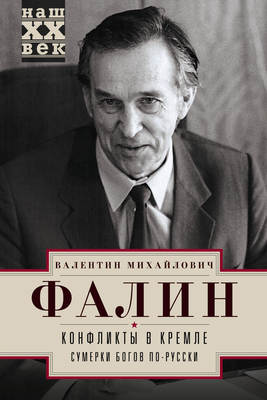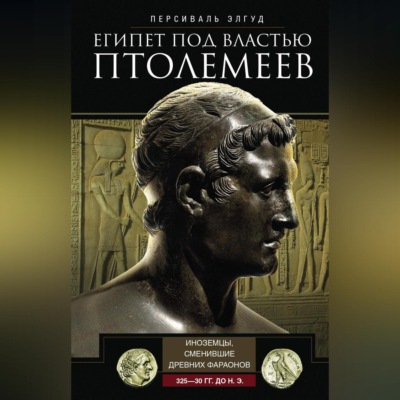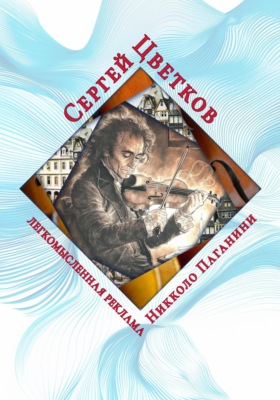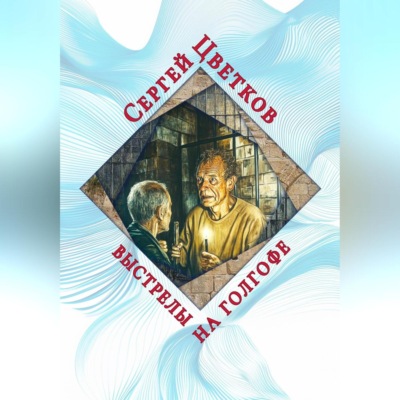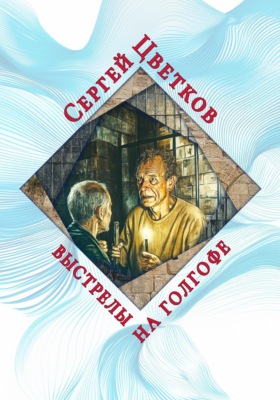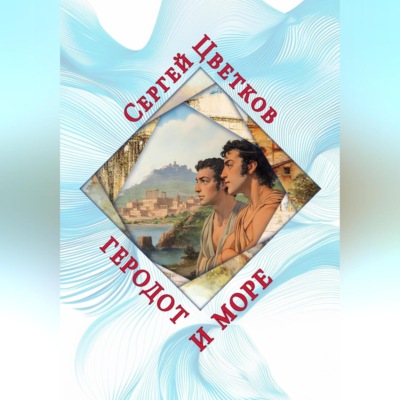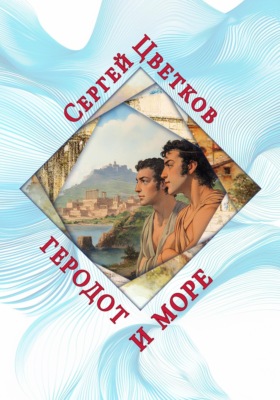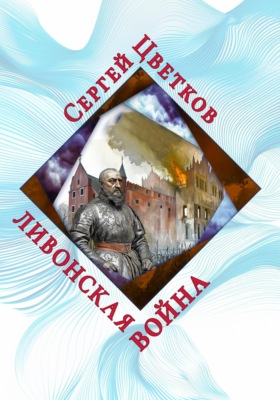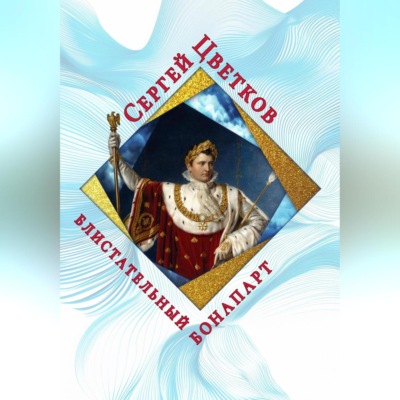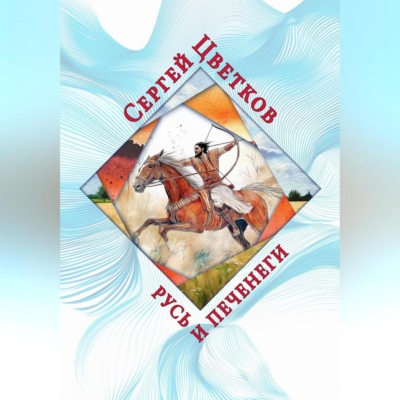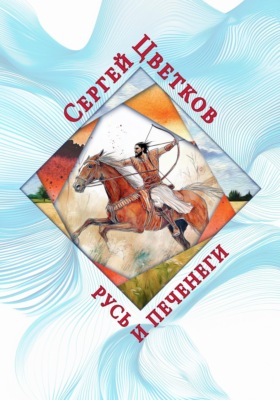Kitobni o'qish: «Последняя война Российской империи», sahifa 3
На летнем Красносельском смотре 1892 года место Вильгельма II занял начальник французского Генерального штаба генерал Рауль Франсуа Буадефр. 17 августа Александр III благословил начальника Главного штаба русской армии генерала Николая Николаевича Обручева на подписание с его французским коллегой секретной военной конвенции. Первая ее статья гласила, что если Франция или Россия подвергнется нападению Германии или ее союзников, то вторая сторона «употребит все войска, какими может располагать для нападения на Германию». Начало мобилизации в одной из стран Тройственного союза должно было служить сигналом для немедленных ответных действий. Союзники обещали не заключать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное сотрудничество между русским и французским Главными штабами. Подписанию конвенции предшествовал крупный французский заем на военные нужды русской армии.
В октябре 1893 года в Тулоне уже французы принимали русских моряков. Город обуяло праздничное безумие. Во время торжественной встречи причал превратился в людской муравейник; возникла чудовищная давка, в которой пострадали десятки человек. Исполнение русского гимна было заглушено криками: «Да здравствует царь!», «Да здравствует Россия!».
Начальник эскадры вице-адмирал Федор Карлович Авелан с командирами кораблей и многими офицерами посетил Париж, где в их честь также были устроены блестящие праздники. Газеты во всех подробностях публиковали не только бесконечные тосты за благоденствие Франции и России, но и диковинные меню праздничных обедов: «Бульон из дичи, маленькие пирожки. Мусс из парижских омаров. Вырезка по-беарнски. Фазаны а lа Перигор. Салат из трюфелей с шампанским. Дичь по-тулузски». Парижанки целовали встречных русских моряков и давали им поцеловать своих детей. Беспрерывно переходя в продолжение двух недель с одного праздника на другой, русские гости дошли до совершенного изнурения.
Тулонские и парижские торжества стали пышной демонстрацией негласного франко-русского альянса. Совместные маневры французского и русского флотов вызвали «Средиземноморскую панику»: в прибрежных государствах – Италии, Испании, Турции, а также в Лондоне всерьез опасались, что русско-французская эскадра готовится к нападению на Константинополь и Суэцкий канал. Но даже когда паника улеглась, английское правительство, ввиду случившегося, посчитало нужным в ближайшие пять лет обзавестись 160-ю новыми броненосцами, крейсерами, линкорами и торпедными катерами.
1893 год закончился ратификацией конвенции Обручева-Буадефра в Париже и Петербурге.
Кошмары Бисмарка начинали сбываться.
VIII
«Кто пишет историю глупостей германской политики со времени увольнения Бисмарка… тот, к сожалению, пишет историю германской политики», – так выразился однажды выдающийся германский дипломат барон Герман фон Эккардштейн.
Эта эпоха глупостей совпала с началом «der wilhelminischen Aera» – «вильгельмовской эры» германской истории, как ее окрестили немецкие историки и публицисты. Впрочем, глупости тогда совершали не одни немцы.
Личность Вильгельма II, безусловно, наложила яркий отпечаток на свое время. Благодаря ему немецкая внешняя политика определялась не продуманными планами, а жаждой самоутверждения и глубоко укоренившимся чувством неполноценности.
Последний кайзер Германского рейха, несмотря на свой невысокий рост (около 165 см) и парализованную левую руку, обладал броской, запоминающейся внешностью: лицо, облитое холодным величием, надменная посадка головы, пронзительные голубые глаза, упрямый, с характерной ямкой, подбородок. Благодаря ежедневным усилиям его парикмахера усы Вильгельма имели форму буквы «W», с которой, по случайному совпадению, начиналось имя кайзера. В Германии повальная мода на такую форму усов держалась вплоть до отречения Вильгельма в 1918 году.
По своим природным наклонностям он был, в сущности, недурной человек. Подлость была не в его натуре, он часто говорил то, что думал, ценил искусство, интересовался науками, за все время своего правления ни разу не нарушил конституцию, терпеливо сносил критические речи депутатов рейхстага и газетные нападки. Германию он любил и искренне хотел ей блага. К несчастью, самые запоминающиеся черты его характера не были самыми привлекательными.
Вильгельма буквально пожирала жажда популярности. Он не мог жить без восторгов толпы и упорно добивался их всеми способами. Самореклама лежала в основе всех его действий, в большом и в малом, в главном и в мелочах. Приковать к себе внимание – к этому, по сути, сводилась вся его политика, внутренняя и внешняя. Злые языки говорили: «Император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе – невестой, на каждых крестинах – новорожденным, на каждых похоронах – покойником». Все его царствование было озарено ослепительными вспышками камер фотокорреспондентов, запечатлевшими германского венценосца на бесконечных парадах, охотах, торжественных обедах, парусных регатах, приемах депутаций, при освящении знамен и замков, спуске броненосцев, открытии новых учреждений, в разъездах по германским землям и ко дворам своих зарубежных родственников.
Уверенный, что «династические чувства германского народа неискоренимы», он любил разыгрывать из себя самодержца22, хотя всегда уступал, столкнувшись с твердой волей своих подданных. Как и положено самовластному государю, Вильгельм не уставал напоминать о Боге, который руководит его поступками и благословляет Германию на процветание под его скипетром. «Я веду вас навстречу великолепным временам», – уверял он немцев. Это был очень покладистый Бог – его воля всегда совпадала с желаниями кайзера. «Мы, Гогенцоллерны, являемся исполнителями воли Божьей», – говорил кайзер другим европейским монархам, которые только с недоумением пожимали плечами, – а чью же тогда волю исполняют они?
Мать Вильгельма еще в пору его юности заметила, что ее первенец «более чем высокого мнения о самом себе, просто-таки наслаждается собой». По мнению знатоков придворной жизни, золотое правило общения с кайзером состояло в том, чтобы беспрестанно выражать восхищение его талантами. Дипломат Иоахим фон Райхель, хорошо изучивший кайзера за многие годы общения, писал о неумении и нежелании Вильгельма слушать собеседника, навязчивом стремлении с дилетантским апломбом выносить безапелляционные приговоры по самым различным вопросам, отмечал его манеру «излагать свои мысли в стиле высокой патетики, где полнейшая беспардонность соседствовала с дешевой сентиментальностью».
Хотя некоторые из близких к кайзеру людей и говорили о его выдающихся задатках, это мнение, увы, нечем подкрепить. Слова и дела Вильгельма свидетельствуют о неглубоком уме, средних способностях, поверхностном образовании. В сочетании с неумением надолго сосредоточиться на одном вопросе и природной ленью эти качества делали Вильгельма неспособным ни к какому усидчивому труду, ни к какому мало-мальски серьезному усилию мысли. Его министрам ни разу не удалось заставить кайзера выслушать доклад до конца.
Как дипломат он поражал своей наивностью, неумением разбираться в людях, истовой верой в решающее значение личных отношений в политике, болезненным пристрастием к мелочам, категорическим нежеланием считаться с фактами и принимать во внимание действительность. Противник (равно как и союзник) всегда оказывался в его представлении гораздо глупее, чем на самом деле. Это хорошо видно по его письмам и телеграммам к Николаю II, в которых кайзер неуклюже пытался манипулировать «кузеном Ники», наделяя его сознанием коронованного идиота. «Безбожная республика, запятнанная кровью монархов, не может быть подходящей компанией для тебя… Ники, поверь моему слову, Бог проклял этот народ навеки», – такими аргументами Вильгельм думал поколебать франко-русский союз.
Другой бедой были периодически обуревавшие кайзера приступы политического красноречия. Бравурно-трескучие речи Вильгельма неприятно били по нервам иностранных правителей, дипломатов и заставляли хвататься за сердце его собственных канцлеров. Образцом несдержанности кайзеровского языка была «гуннская речь» 1900 года. Напутствуя войска, отправлявшиеся в Китай для подавления восстания ихэтуаней, Вильгельм призвал своих солдат уподобиться гуннам Аттилы, которые «тысячу лет назад обрели славу непобедимых воинов, дожившую до наших дней». Точно так же и немцы должны своей жестокостью оставить по себе в Китае такую память, «чтобы ни один китаец не посмел бросить косой взгляд на христианина». Каково после этого немецким политикам было рассуждать о «цивилизаторской миссии» Германии?
Дошло до того, что в 1908 году, когда очередное громкое выступление кайзера вызвало бурю негодования в Германии и привело к обострению отношений с Англией, рейхстаг заставил Вильгельма подписать унизительное обязательство – не создавать больше проблем стране своими публичными высказываниями.
Наследник прусских монархов, Вильгельм по традиции обожал военную атрибутику. В его гардеробе хранилось не менее трехсот мундиров немецких полков, не считая форменной одежды иностранных армий, в которой он принимал послов из соответствующих стран. К началу ХХ века Вильгельм состоял шефом трех австро-венгерских полков, трех российских, одного британского и одного португальского; он имел звание адмирала британского, шведского и датского флотов23.
Из всего этого вороха военного обмундирования кайзер наиболее ценил мундир британского адмирала. Еще охотнее он облачился бы в немецкий адмиральский мундир. Но в пору его воцарения германский флот представлял собой музей опытных образцов, по выражению самих же немецких моряков.
Вильгельм был одержим идеей сделать из Германии великую морскую державу. Сам он страстно увлекался мореплаванием несмотря на то, что страдал морской болезнью. Вопреки заветам Бисмарка, считавшего колониальные захваты бесполезным занятием, кайзер полагал, что процветание Германии связано с созданием колониальной империи – «наше будущее находится на воде». (Подобным же образом тогда думали о своих странах все европейские правительства, даже король Бельгии.) Но при мысли о том, что немцам придется вступить в морское соперничество с Англией, его охватывал ужас: «Весь наш огромный коммерческий флот, бороздящий моря и океаны под нашим флагом, – он ведь совершенно бессилен перед лицом ста тридцати британских крейсеров, которым мы можем гордо противопоставить четыре – всего четыре – наших!».
Кайзер был полон решимости изменить такое положение дел. В 1897 году во главе военного ведомства был поставлен Альфред фон Тирпиц, командующий Балтийским флотом, признанный специалист в области торпедных атак и минного дела. В следующем году рейхстаг одобрил первые громадные кредиты на «судостроительную программу». За этой программой последовала вторая (1900) и третья (1907). Морской бюджет Германской империи к началу ХХ века увеличился в 9 раз. Для пропаганды строительства военного флота была создана «Морская лига», пользовавшаяся финансовой поддержкой крупного капитала. Спустя десять лет в ее рядах насчитывался почти миллион членов24 – в основном бюргеров и рабочих, в том числе вполне сухопутных жителей Южной Германии.
У Тирпица не было иллюзий относительно возможностей Германии на море: сравняться по мощи с английским флотом в обозримом будущем она не могла. Его расчет был основан на том, чтобы увеличить силы германского флота до такого уровня, который позволил бы при любом исходе борьбы нанести тяжелые потери английскому флоту. По мысли Тирпица, это должно было отбить у англичан охоту нападать на Германию. На первых порах он полагал достаточным иметь к 1904 году 17 линейных кораблей, 9 броненосных, 26 легких крейсеров и соответствующее число мелких судов.
Вильгельм всячески подчеркивал, что строительство флота не направлено против Англии: «Наша политика – это политика мира». И в самом деле, с германской стороны это был странный шантаж с целью добиться дружбы. Состоя в родстве с английским королевским домом, Вильгельм25 стремился установить тесные союзнические отношения с Великобританией. Он искренне любил свою бабку, королеву Викторию, числил среди своих ближайших друзей дядю, принца Артура Коннаутского, и графа Лонсдейла, и его крайне обижало то обстоятельство, что англичане упорно отказывались рассматривать Германию в качестве равного партнера. «Мы приведем Англию в чувство, только создав гигантский флот, – говорил кайзер. – Когда Англия смирится с неизбежным, мы будем лучшими друзьями».
А пока что он пытался убедить английских политиков в том, что Британия и Германия политически дополняют друг друга, «sine Germania nulla salus» – без Германии (для англичан) нет спасения. Во время одного из своих приездов в Лондон Вильгельм прямо заявил: «Мы должны создать англо-германский союз, причем вы будете присматривать за морями, а мы – за сушей. При наличии такого союза ни одна мышь в Европе не сможет пискнуть без нашего соизволения…».
Вместе с тем Вильгельм время от времени делал Англии маленькие гадости для того, чтобы показать ей, что Германию лучше иметь в друзьях.
На рубеже XIX—XX веков такая политика едва не принесла плоды. В 1897 году английское правительство само обратилось к кайзеру с предложениями заключить союзный договор, которым оно намеревалось шантажировать Францию и Россию. Однако эта инициатива была отвергнута. Вильгельм посчитал, что союз будет неравноправным: «В условиях практического отсутствия у нас флота нам пришлось бы довольствоваться теми объедками, которые англичане свысока бросали бы нам. Таковы законы мировой политики и мировой экономики. В то же время на континенте мы приняли бы на себе весь риск, связанный с предназначенной для нас ролью британского меча».
В 1901 году англо-бурская война вызвала шок в английском обществе, показав, что империя уязвима. Стремясь разорвать дипломатическую изоляцию, в которой оказалась Великобритания, министр по делам колоний Джозеф Чемберлен вновь предложил Германии союз. Правда, в качестве предварительного условия он потребовал, чтобы кайзер порвал со своими союзниками и отказался от морской программы.
На этот раз против англо-германского сближения выступил канцлер Бюлов. Как верный продолжатель бисмарковских традиций, он стремился избегать любых политических комбинаций, которые могли вызвать осложнение отношений с Россией. Ему удалось убедить кайзера, что англо-германский союз превратит Германию в «солдата Англии на континенте», после чего война с Россией и Францией станет неминуема. Между тем, в случае возникновения большой европейской войны, вся ее тяжесть ляжет почти целиком на Германию, а Британия в итоге окажется в роли верховного судьи над истощенными и обескровленными державами континента. Мало того, она же и не допустит окончательной победы Германии над Россией и Францией.
Получив отказ на свое предложение, Чемберлен предостерег немецкую сторону, что если Великобритания не достигнет сейчас общего соглашения с Германией, то она будет добиваться такового с Францией и Россией. Однако Бюлов пропустил эти слова мимо ушей.
Попытки устроить союз между Великобританией и Германией окончательно рухнули.
В разговоре с французским послом кайзер поделился с ним своим настоящим образом мыслей: «В нынешних обстоятельствах я вынужден соблюдать строжайший нейтралитет. Прежде всего мне надо создать флот, и лет через двадцать я буду говорить другим языком».
В конце концов военно-морская программа Тирпица была выполнена, и к 1914 году Германия сделалась второй морской державой в мире после Британской империи. Пошло ли это ей на пользу?
Помимо того, что германский флот стал камнем преткновения в отношениях с Англией, он еще и поглощал треть оборонного бюджета. Из-за этого немцы не сумели довести свою сухопутную армию до необходимой численности в условиях войны на два фронта. Ограниченные финансовые ресурсы Германии позволили ставить под ружье не более половины призывников. В результате даже Франция, с ее 40 миллионами жителей, смогла содержать такую же по численности армию, как и Германия, население которой перевалило за 60 миллионов.
Между тем германский «Флот открытого моря», состоявший из самых современных и дорогостоящих кораблей, почти всю войну простоял на своих базах, из-за того что немецкое командование не хотело подвергать риску свои стратегические морские силы. В ноябре 1918 года команды немецких линкоров восстали, вызвав революцию и крах империи Гогенцоллернов.
IX
Потерпев неудачу в переговорах с Англией, Вильгельм с удвоенной силой стал обхаживать молодого русского самодержца Николая II. Ему казалось, что, наладив дружеские отношения с «кузеном Ники», он сможет оторвать Россию от союза с Францией.
Постигнуть характер последнего царствующего Романова было нелегко. Николай II вел замкнутый образ жизни, не имея ни склонности, ни способности к созданию широковещательной шумихи вокруг своего имени. У него не было ни одного из качеств, импонирующих толпе. Русское общество его не любило и даже не находило нужным это скрывать. Николаю II ставили в вину бессердечие и слабоволие. Чехов выразился о нем в том смысле, что государь не плох и не хорош – «обыкновенный гвардейский офицер».
Однако этот отзыв не вполне несправедлив. Если Николай и был обычным человеком, то с весьма симпатичными чертами характера – «честный, бесхитростный человек средних способностей и доброй натуры, – по словам Уинстона Черчилля, – опорой всей его жизни была вера в Господа». В нем не было ничего «царского» – ни любви к роскоши и комфорту, ни каких-то необычных пристрастий в еде и одежде. Он охотно занимался физическим трудом – пилил дрова, убирал снег. Полученное им образование действительно ничем не отличалось от образования гвардейского поручика. Но, наделенный здравым умом и аналитическими способностями, он на лету схватывал все, что ему говорили. Неплохо владел иностранными языками – немецким, французским и английским, грамотно писал и говорил по-русски. Был усердным читателем: его интересовала как легкая развлекательная литература, так и серьезные научные труды, в том числе на исторические темы; он выписывал русские и зарубежные газеты и журналы. Из русских писателей больше всех ценил Гоголя.
Предпочитая тихую жизнь в кругу семьи и близких, Николай никогда не замыкался в узком мирке Царского Села. В программу его образования входили поездки по России и зарубежным странам. В бытность свою наследником престола он посетил Грецию, Египет, Индию, Цейлон, Сингапур, Яву, Китай, Японию. Поездка по Стране восходящего солнца едва не стоила ему жизни. В небольшом городке Отсу, после завтрака у местного губернатора, на цесаревича напал японский полицейский – религиозный фанатик-самурай, посчитавший оскорблением посещение Николаем храма богини Аматерасу. Впоследствии, унаследовав престол, Николай охотно посещал европейские страны.
Так называемых светских удовольствий царь не любил. В молодости он неплохо играл на фортепиано, обучался игре на скрипке, принимал участие в театральных постановках, рисовал. Живопись понимал, как немногие, в том числе современную, и был одним из первых в России ценителей французских импрессионистов. Также обожал спорт: в юности увлекался плаваньем на байдарке, позже предпочитал теннис и бильярд. И всю жизнь был страстным охотником.
Подобно любому из своих подданных, Николай отдавал увлечениям только свободное время, которого у него было немного. Он жил по раз навсегда установленному строгому распорядку, занимаясь государственными делами с большим тщанием и пунктуальностью (так, никогда не имея личного секретаря, сам ставил печати на письма). Только тяжелое недомогание кого-нибудь из членов семьи могло заставить его отменить прием министра или отложить ознакомление с очередным докладом.
Семья, домашние были его кумирами. Николай и его супруга Александра Федоровна являли собой образец семейных добродетелей – редкий случай в династии Романовых.
Добавьте к этому привлекательную внешность, неизменно вежливое, без тени высокомерия, обхождение с нижестоящими, превосходное самообладание. Никто из знавших его людей не отрицал исключительного обаяния его натуры. Сергей Юльевич Витте находил, что «отличительные черты Николая II заключаются в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный. Я могу сказать, что я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император».
Как государю Николаю много вредили его природные застенчивость и нерешительность. Ему претили любые формы давления на подчиненных. В разговорах, даже важных, он легко уступал, так как никогда не мог заставить себя огорчить собеседника. Но, как заметил, английский посол в России Джордж Уильям Бьюкенен, царь был «слаб во всем, за исключением своего самодержавия». Победоносцев слышал, как Николай однажды сказал кому-то из своего окружения: «Зачем ты всегда споришь? Я всегда со всеми соглашаюсь, а потом все делаю по-своему».
Совершенно непохожий физически на своего отца, от которого он не унаследовал ни роста, ни колоссальной силы, Николай был совершенной его копией в своих взглядах на место и роль самодержавия в государственной системе Российской империи. «В каждой складке шинели этого маленького офицерика сидит самодержец», – как-то сказала о нем великая княгиня Мария Павловна еще при жизни Александра III. Близко знавшие Николая люди говорили о «бархатной перчатке, надетой на стальную руку». Французский президент Эмиль Лубе писал: «О русском императоре говорят, что он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский император сам проводит свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У него есть зрело продуманные и тщательно выработанные планы. Над осуществлением их он трудится беспрестанно». Такое же мнение о русском государе сложилось у принца Генриха Прусского: «Царь благожелателен, любезен в обращении, но не так мягок, как зачастую думают. Он знает, чего хочет, и не дает никому спуску». Его соотечественник адмирал Хопман утверждал: «На первый взгляд царь кажется робким, но затем вы понимаете, что это человек серьезный, вдумчивый и тактичный. Он всегда выглядит благожелательным, но, для мужчины, пожалуй, чересчур мягким. Но внутренне он гораздо более сильный и непреклонный, нежели видится окружающим».
Эти свидетельства, впрочем, не следует преувеличивать. История царствования последнего Романова показывает, что по всем важнейшим государственным вопросам он в конце концов уступил нажиму людей или давлению обстоятельств.
Сознавая свою внутреннюю неустойчивость, Николай II вполне полагался только на тех людей, о которых твердо знал, что они не выйдут за пределы, очерченные его волей. Область международной политики царь рассматривал как свою вотчину и желал сам быть своим министром иностранных дел.
Это полностью устраивало Вильгельма, поспешившего завязать дружескую переписку с русским «кузеном». Он обращался к царю: «дорогой Ники», а подписывался: «любящий тебя друг Вилли». В то время кайзер искренне считал, что с Россией нужно иметь хорошие отношения. Мольтке-младший однажды услышал от него характерную фразу: «На Россию лучше не нападать; это все равно что объявить войну целому континенту».
В отношениях с русским императором Вильгельм бесцеремонно отвел себе роль старшего друга, который вправе давать по всякому случаю ценные советы неопытному молодому человеку (один из них по праву заслужил бессмертие в веках: «Советую тебе – побольше речей и побольше парадов, речей и парадов»). Подобно тому, как недавно он заверял Англию в необходимости англо-германской гегемонии над миром, так и теперь убеждал царя теснее сблизиться с Германией, чтобы держать англичан и остальные нации в повиновении: «Если мы решим, что должен быть мир, так оно и будет, и все смогут насладиться его благами».
Между тем они плохо ладили даже в личном общении – минуты доверительного настроения сменялись периодами взаимного раздражения и утомления. Царь находил кайзера «нервным и дурно воспитанным», его страшно раздражала ужасная привычка Вильгельма толкать собеседника локтем под ребра или хлопать, словно школьника, по спине. Бывало, что одна мысль о встрече с «кузеном Вилли» вызывала у него тошноту, по собственному признанию. Впрочем, при личной встрече он всегда тушевался, позволяя германскому кузену вести себя так, как ему заблагорассудится. Императрица Александра Федоровна подогревала недовольство своего супруга. Она находила несносной манеру кайзера обращаться с ней не как с русской царицей, а как с мелкой немецкой принцессой. Вильгельм, в свою очередь, был преисполнен презрения к государственным способностям своего русского кузена – «простофили» и подкаблучника, который, по его мнению, был годен лишь на то, «чтобы жить в деревне и выращивать репу».
Кайзер настойчиво подчеркивал, что у России нет прочных интересов в Европе. Ее историческое призвание – активная восточная политика. В 1901 году, на свидании с царем в Ревеле, он патетически приветствовал «дорогого Ники» как «адмирал Атлантического океана – адмирала Тихого океана». Оба звания были употреблены несколько преждевременно. Пугая Николая «желтой опасностью», Вильгельм заявил, что Германия и Россия – «миролюбивые державы», которым противостоят «ненавидящие христианство японские вояки».
Правда, Вильгельм здесь ломился в открытую дверь. Мысль о создании «Желтороссии»26 (присоединение Маньчжурии и Кореи) была близка царю и без его внушений. Если германский кайзер полагал, что «будущее Германии – на морях», то Николай мог бы выразить свое видение судьбы подвластной ему империи словами: «будущее России – в Азии». Во время Ревельского свидания он сказал Вильгельму, что рассматривает укрепление и расширение русского влияния на Дальнем Востоке как задачу своего правления.
Кайзер заверил его, что в случае войны с японцами Россия может рассчитывать на дружественный нейтралитет Германии, и не соврал. Уже на следующий день после нападения японцев на Порт-Артур канцлер фон Бюлов передал русскому послу, что «российский император может видеть в Германии честного и лояльного соседа». Свое личное отношение к русско-японской войне Вильгельм выразил в собственноручной пометке на секретном докладе германского посланника в Японии, графа Арко: «Русские защищают интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилья желтой. Поэтому наши симпатия должны быть на стороне России».
Его благожелательная позиция, особенно контрастирующая с недружелюбным поведением Франции и Англии, которые запретили эскадре адмирала Рожественского заходить в свои порты, была вознаграждена согласием царя на заключение нового торгового договора с Германией (действие предыдущего истекло в 1902 году; его продлению препятствовали разногласия в тарифной политике). Английская «Morning Post» расценила это соглашение как возобновление «договора перестраховки» между Россией и Германией.
Раздражение Николая против Англии и в самом деле зашло так далеко, что он предложил Вильгельму «набросать» проект союзного франко-германо-русского договора. Кайзер охотно сделал это и даже сам перевел текст составленного им документа на английский язык. Суть соглашения он выразил словами: «Давайте встанем рядом. Это будет союз, конечно, чисто оборонительный, направленный исключительно против агрессора или агрессоров в Европе, нечто в виде страховки от пожара».
Из этой затеи, однако, ничего не вышло. Царь, ознакомившись с проектом, попросил у Вильгельма разрешение на то, чтобы показать его французскому правительству. Кайзер был против такого шага из опасения, что если до подписания договора сообщить его текст французам, то «в тот же вечер ее напечатают в «Times» и «Figaro», а тогда делу конец». Он написал канцлеру Бюлову: «Его величество начинает прошибать холодный пот из-за галлов, и он такая тряпка, что даже этого договора с нами не желает заключить без их разрешения… Такой оборот дела очень огорчает, но не удивляет меня: он (Николай II. – С. Ц.) по отношению к галлам – из-за займов – слишком бесхребетен».
Дело ограничилось тем, что Россия гарантировала вооруженную помощь Германии в том случае, если у нее возникнет конфликт с Англией из-за угольных поставок русскому военному флоту.
«Набросанный» кайзером проект договора был обречен на неудачу прежде всего потому, что 8 апреля 1904 года было подписано секретное англо-французское соглашение, положившее начало «союзу сердечного согласия» – по-французски, L'Entente cordiale или, просто, Антанте. Две давние противницы договорились уладить между собой все недоразумения и счеты во всех частях земного шара – Африке, Азии и Америке. Важнейший пункт соглашения касался Северной Африки: Франция отказывалась от каких бы то ни было притязаний на занятый англичанами Египет; Англия, в свою очередь, признавала право Франции на аннексию Марокко (французский министр иностранных дел Теофиль Делькассе почему-то считал присоединение этой нищей земли к Французской колониальной империи делом первостепенной государственной важности).
Канцлер Бюлов, внимательно наблюдавший за ходом переговоров кайзера с царем, был одержим мыслью о том, чтобы уронить международный престиж Франции. В это время он имел огромное личное влияние на Вильгельма, который признавался, что «обожает» своего канцлера. «Я предоставляю Бернгарду Бюлову полную свободу действий; с тех пор, как он есть у меня, я могу спать спокойно», – писал он другим своим друзьям. Они были так близки, что канцлер выдал кайзеру ключ от черного хода в свой дворец.
Бюлов собирался использовать слабость своего повелителя к эффектам. Он убеждал Вильгельма решиться на яркую демонстрацию – в ходе своего обычного средиземноморского круиза кайзер должен был внезапно высадиться в Танжере и сидя верхом на коне произнести речь в защиту независимости Марокко. Марокканский султан, заранее оповещенный об этом плане, обещал организовать высокому гостю торжественную встречу. По замыслу Бюлова, Франция не осмелилась бы в ответ объявить войну и таким образом обнаружила бы перед всеми свою слабость, снизив свою привлекательность как военного союзника.
Уговорить Вильгельма на этот шаг оказалось нелегко. Кайзер откровенно трусил. Он боялся испанских анархистов, которыми, по сообщениям секретной службы, был наводнен Танжер, боялся, что ему придется влезть на необъезженную берберскую лошадь – дело крайне опасное ввиду того, что кайзер мог управлять поводьями лишь здоровой правой рукой. И главное, он совсем не был уверен, что задуманная его канцлером выходка не приведет к большой войне, – а ее Вильгельм считал нежелательной, так как в то время германский флот уступал французскому в мощи.