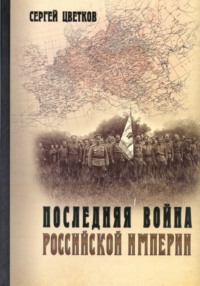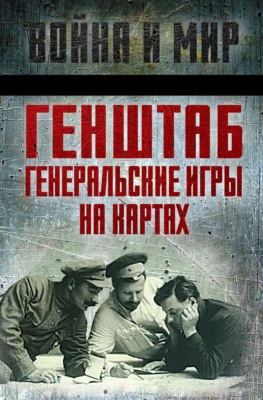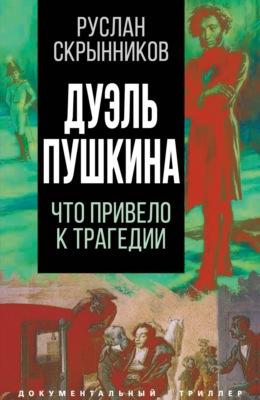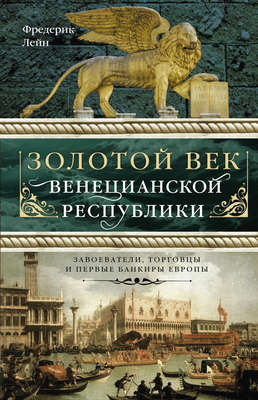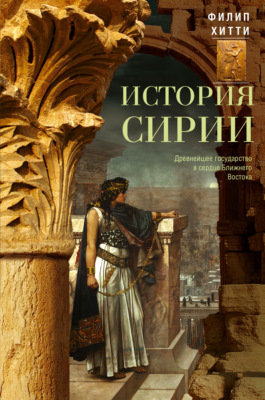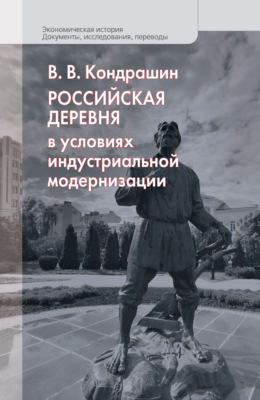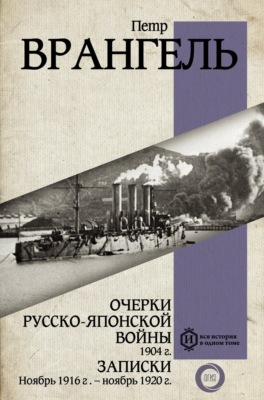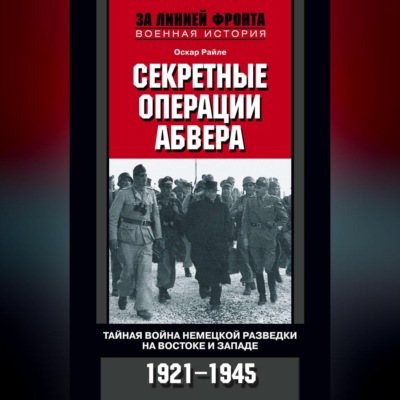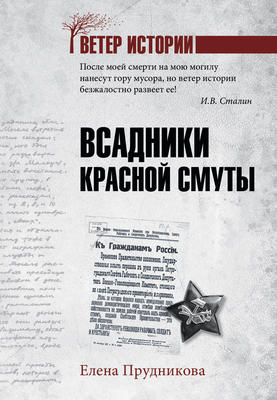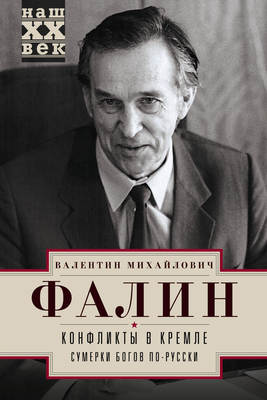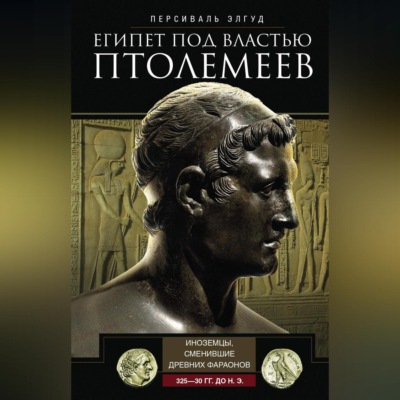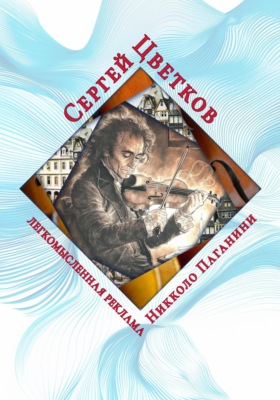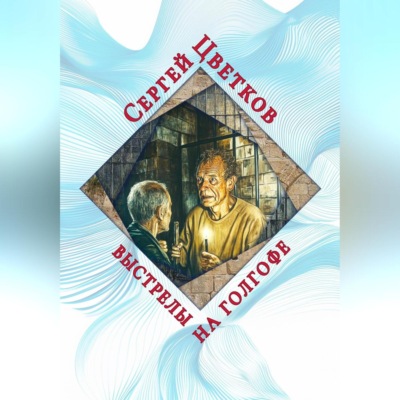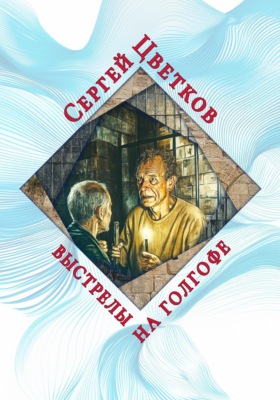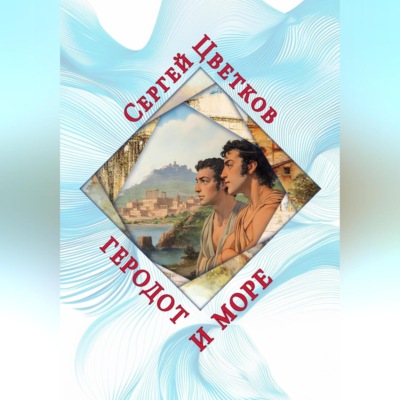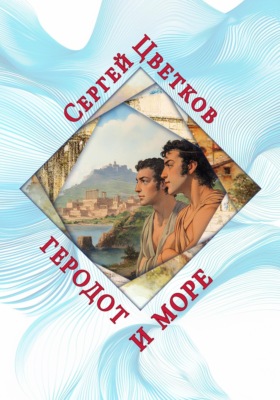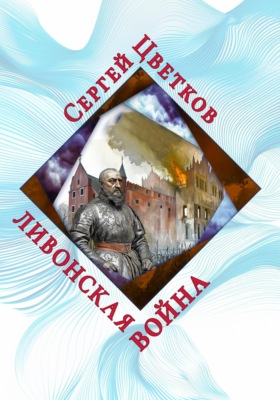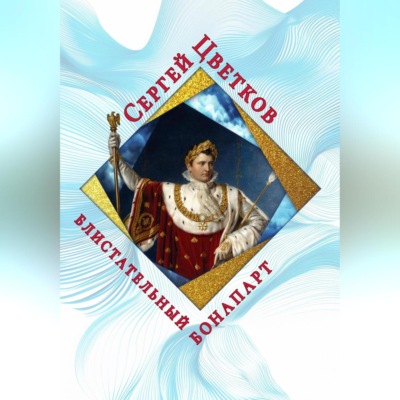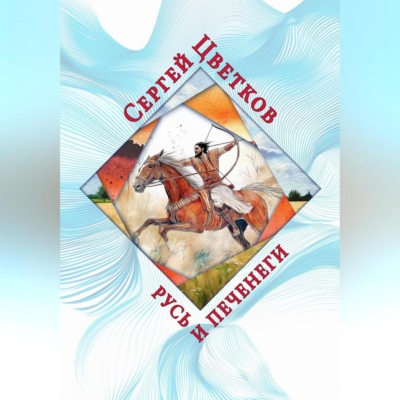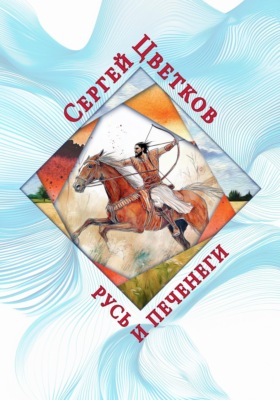Kitobni o'qish: «Последняя война Российской империи», sahifa 2
По меткому выражению Вильгельма II, в течение предвоенных десятилетий европейский мир напоминал больного-сердечника – «он может себе жить и жить, даже очень долго. А может с той же вероятностью в любой момент умереть – внезапно и неожиданно».
К августовской катастрофе привела не та или иная причина и не их совокупность, а длинная цепочка событий и поступков, скрепленных отнюдь не безусловной связью. И все, что мы можем – это перебирать их, как четки, на которые нанизаны зерна разного размера и достоинства.
IV
Начать придется издалека.
13 июня 1878 года в Берлине начался последний в XIX веке политический спектакль монархической Европы. В берлинском дворце Радзивиллов, незадолго до того переоборудованном князем Бисмарком в рейхсканцелярию, приступил к работе международный конгресс, который должен был подвести итоги русско-турецкой войны.
Все дела на нем вершили Германия, Россия, Англия, Австро-Венгрия, Франция и Италия. Делегации великих держав возглавляли министры иностранных дел или же премьеры – Бисмарк, Горчаков, Дизраэли (лорд Биконсфильд), Андраши, Ваддингтон и Корти. Представители балканских государств были допущены на заседания в качестве наблюдателей. «Турки сидят чурбанами», – записал в дневнике один из членов русской делегации. Бисмарк обливал болгар, сербов и греков холодным презрением, во всеуслышание сокрушаясь о том, сколько энергии и времени уходит на обсуждение судьбы разных «вонючих гнезд» – под ними он подразумевал балканские города.
России этот конгресс был не нужен, так как отдавал плоды русских побед в чужие руки. Фактически речь шла о пересмотре русско-турецкого мирного договора в Сан-Стефано, выгодного для России и балканских славян. Но канцлер Российской империи князь Александр Михайлович Горчаков вынужден был согласиться на проведение конгресса – отчасти под нажимом Австро-Венгрии и Англии, открыто угрожавших России войной, если она не пойдет на уступки, отчасти из-за собственного тщеславия. Заслуженный восьмидесятилетний дипломат откровенно говорил, что «не может предстать перед Святым Петром, не будучи председателем хотя бы самого малого конгресса в Европе». Однако судьба не сделала ему этого подарка. Председательствовал на конгрессе все-таки не он, а князь Бисмарк, в качестве хозяина и «честного маклера» – роль, которую он сам себе отвел.
Все важные решения были приняты главными участниками конгресса задолго до его открытия, в ходе секретных переговоров. Россия и Англия полюбовно уладили свои разногласия, подписав три конвенции.
Это нисколько не помешало главам делегаций со знанием дела разыграть для публики своих стран полноценное драматическое представление. Наиболее жаркие споры разгорались по второстепенным вопросам, вроде того, кому достанется Алашкертская долина, которую никто из спорящих не мог отыскать на картах. Именно в такие минуты Дизраэли упоминал о «казус белли»11 и в знак того, что время слов закончилось, демонстративно заказывал экстренный поезд для отъезда, а князь Горчаков гневно бросал на стол свой разрезной нож из слоновой кости и старческим голосом изрекал на отличном французском языке приличествующую случаю историческую фразу. «Честное маклерство» Бисмарка выражалось обыкновенно в том, что он умывал руки, предоставляя противным сторонам самим прийти к какому-нибудь согласию.
Заседания конгресса продолжались ровно месяц. В результате публика узнала странные вещи. Неожиданно самые жирные куски отхватили страны, в войне вовсе не участвовавшие, а заявлявшие о себе как о миротворцах – Англия и Австро-Венгрия. Освобожденные русскими войсками славянские земли большей частью снова возвращались под турецкий протекторат.
Итоги Берлинского конгресса были признаны позорным дипломатическим поражением России, уступившей давлению западных держав. Князь Горчаков в записке на Высочайшее имя заметил: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». Царь приписал на полях: «И в моей тоже».
На самом деле это было не так. Россия почти ничего не потеряла из собственно своих приобретений, закрепленных за ней Сан-Стефанским мирным трактатом – Южной Бессарабии и закавказских областей (Карс, Ардаган и Батум). Пришлось расстаться лишь с пресловутой Алашкертской долиной и крепостью Баязет – и то за определенную компенсацию, да умерить аппетит при определении размера турецкой контрибуции. А балканские славяне, хотя и в урезанном виде, но все-таки получили государственную независимость.
Подлинные результаты Берлинского конгресса стали ясны лишь спустя 36 лет после его окончания, когда разразилась Первая мировая война. Выяснилось, что политические лидеры Австро-Венгрии и Англии как будто нарочно сделали все, чтобы облегчить условия ее возникновения. Все их победы и приобретения в самой недалекой перспективе обернулись поражениями для их стран.
Австро-Венгрия бескровно оккупировала (а спустя три десятилетия официально присоединила) Боснию и Герцеговину. Именно в этой области находился неприметный городок Сараево, в котором 28 июня 1914 года выстрел Гаврилы Принципа разбудил и сорвал с мест все силы ада. С поглощения этих земель начался отсчет последних дней существования лоскутной империи Габсбургов.
За Англией и лордом Биконсфильдом современники числили сразу три блестящие победы. Первой из них было приобретение Кипра, который турецкое правительство «добровольно» передало Великобритании в обмен на обещание защитить территориальную целостность Османской империи от посягательств России. Англичане бесцеремонно заняли остров, даже не дождавшись выхода султанского фирмана, возвещавшего о передаче Кипра под их юрисдикцию. Благодарность турок не замедлила себя ждать. Присоединение Турции в 1914 году к противникам Антанты было во многом «отплатой за Кипр». Расплачиваться за эту «победу» Дизраэли пришлось тысячам английских солдат, павшим в годы Первой мировой войны на Ближнем Востоке.
Вторым его триумфом был раздел Болгарии. По Сан-Стефанскому договору вся Болгария получала независимость и становилась единым самостоятельным государством. Настаивая на разделе Болгарии, Дизраэли намеревался ослабить Россию, которую он искренне считал историческим врагом Великобритании (в немцах он видел безобидную нацию романтиков и философов, не способную причинить ущерб его стране). Россия вынуждена была согласиться с тем, чтобы южная Болгария осталась под властью Турции. Но глубокомысленные планы лорда Биконсфильда и тут не выдержали испытания временем. Не прошло и восьми лет после окончания Берлинского конгресса, как обе части Болгарии воссоединились – уже без чьей-либо помощи. А в начале ХХ века Англии пришлось срочно пересматривать свои взгляды на исторических друзей и врагов.
Наконец, третьей английской победой было изъятие у России Алашкертской долины и Баязета и передача их Турции, которая в 1914 году использовала эти территории для действий против сил антигерманской коалиции.
За эти неоценимые услуги, оказанные Дизраэли Англии, королева Виктория наградила его высшим знаком отличия Британской империи – Орденом Подвязки.
Что касается России, то она после Берлинского конгресса перестала рассматривать Германию и Австро-Венгрию в качестве политических друзей. В 1880 году русский Главный штаб разработал первый стратегический план на случай войны с западными соседями, одобренный императором Александром II.
V
Основу прочного европейского мира политики видели в той или иной комбинации четырех великих держав – Германии, Англии, Франции и России. Очевидно, что наиболее действенным средством сохранения равновесия был бы англо-германский союз или альянс трех континентальных государств. Однако на пути этих соглашений неприступной стеной стоял национализм, уже сдобренный изрядной долей новейшего научного заблуждения – расизма.
В наибольшей степени национальным чванством страдала Англия – единственная европейская страна, взрастившая расистскую идеологию на почве собственной политической культуры. Слишком многие распоряжения и деяния английской колониальной администрации имели все признаки расовой сегрегации и геноцида12.
Идея национального превосходства над другими народами преподносилась в английских учебных заведениях как непреложный закон бытия. Крупнейший расовый теоретик конца XIX – начала XX века Хьюстон Стюарт Чемберлен, сын адмирала и племянник фельдмаршала сэра Невилла Чемберлена, вспоминал: «Я с раннего детства впитал это чувство гордости… Меня учили… считать французов более низким сортом людей и не упоминать их наравне с англичанами». Другие народы должны завидовать индийцам и ирландцам, имеющими счастье быть подданными британской короны. «Сам Бог не смог бы выбить из англичанина чувство собственного превосходства»13.
Перебравшись в Германию, где он сделался зятем Вагнера, Чемберлен издал свой труд «Основы девятнадцатого века» (1899). История человечества была рассмотрена им с расовых позиций. Он не был здесь первооткрывателем, задолго до него над этим вопросом трудились многие его соотечественники. Их разыскания, однако, не пользовались авторитетом по ту сторону Ла-Манша. Научное же обаяние книги Чемберлена было таково, что расовое учение отныне было безоговорочно принято немецкой профессурой (поклонниками Чемберлена в Англии были Уинстон Черчилль и Бернард Шоу, называвший его труд «шедевром действительно научной истории»).
Посеянные зубы дракона дали обильные всходы. После выхода сочинения Чемберлена расистская литература в Германии и Австрии перешла в разряд популярного чтения (сами «Основы девятнадцатого века» выдержали 10 переизданий за 12 лет; до 1914 года было распродано 100 тысяч экземпляров).
Чемберлен утверждал, что германцы спасли Европу от «вечной мглы», в которую она погрузилась после распада Римской империи. Это – избранная раса господ: «Вступление германца… во всемирную историю пока еще далеко от завершения: германцу еще предстоит вступить во владение всем миром». Романские и прочие народы Средиземноморья он считал полукровками и «пародией на людей». Славян ненавидел всех скопом, хотя русских больше, чем остальных, видя в них «новое воплощение вечной империи Тамерлана». Русская литература вызывала у него чувство брезгливости. Чемберлен сформулировал ближайшую историческую цель для «тевтонского духа» – борьба с «янкизированным англосаксонством и татаризированным славянством».
В Германии идеи Чемберлена упали на благодатную почву. Немцы были преисполнены гордости за свои блестящие победы 1866 и 1870 годов, а ошеломительные успехи германской науки, промышленности и торговли рождали в них сладкие мечты о культурном праве на руководство остальным миром.
На пути к мировой гегемонии, разумеется, стояли «естественные враги» Германии. Борьба с ними воспринималась в рамках теории о борьбе рас. Французы, впрочем, больше не вызывали беспокойства – их откровенно презирали. Считалось, что «латинские народы прошли зенит своего развития, они не могут более ввести новые оплодотворяющие элементы в развитие мира в целом» (Мольтке). Неприязнь к Англии пока что выражалась в подчеркивании лицемерия английской политики, ее приверженности исключительно меркантильным интересам. Общим местом в немецкой историко-публицистической литературе стало сравнение Англии с дряхлеющим Карфагеном, а Германии – с поднимающимся Римом.
Но вот в отношении к России, к русским уже начинали звучать параноидальные нотки. На великого восточного соседа, так много способствовавшего созданию единой Германии, смотрели с ненавистью и страхом. Коренными свойствами русского народа считались отсталость, дикость, деспотизм, неспособность к историческому творчеству. Одновременно немецкие историки всячески превозносили роль германского элемента в русской истории – начиная от пресловутых варягов и заканчивая остзейскими (прибалтийскими) немцами, заполонившими русские канцелярии, министерства, военные штабы и университеты. Наиболее одиозным выразителем подобных взглядов был пангерманист В. Хен, утверждавший в своей книге «De moribus Ruthenorum» (1892), что у русских «нет традиций, корней, культуры, на которую они могли бы опереться», «все, что у них есть, ввезено из-за границы»; сами же они не в состоянии сложить два и два, души их «пропитал вековой деспотизм», поэтому «без всякой потери для человечества их можно исключить из списка цивилизованных народов». Эти чудовищные глупости находили ценителей во всех слоях немецкого общества, и даже лидер социал-демократической фракции рейхстага Август Бебель говорил неоднократно, что, если понадобится, он возьмет ружье на плечо и пойдет воевать, чтобы защитить родину от русского деспотизма.
Англичане, французы и русские платили немцам той же монетой.
Жителей Британских островов с конца XIX века терзал иррациональный страх перед германским вторжением, подогреваемый прессой и писателями-фантастами, вроде Уильяма Ле Кьё, посвятившего этой теме два своих романа – «Великая война в Англии в 1897 году» (1894) и «Вторжение в 1910 году: С полным отчетом об осаде Лондона» (1906). Еще больше германская «опасность» была видна на рынке, где она проявлялась в засилье немецких товаров, грозящих подрывом английской промышленности, торговли, морского транспорта.
Французы не могли простить немцам поражения под Седаном и аннексии Эльзаса и Лотарингии. Травмированные этим неслыханным унижением, они предпочитали «никогда не говорить об этом, но постоянно думать». Катастрофа 1870 года рассматривалась как случайная уступка «галло-римского заслона» варварскому натиску германизма. В будущем, по словам Виктора Гюго, «Франция будет стремиться только к одному – восстановить свои силы, запастись энергией, лелеять свой священный гнев, воспитать молодое поколение так, чтобы создать армию всего народа, работать непрерывно, изучать методы и приемы наших врагов, чтобы стать снова великой Францией 1792 года, Францией идеи с мечом. Тогда в один день она станет непобедимой. Тогда она вернет Эльзас-Лотарингию». Присоединение утраченных провинций связывалось с возвращением Франции подобающего места в концерте великих держав.
Во французской массовой литературе насаждался образ врага – немца. Популярные романы были населены многочисленными немецкими шпионами (французские литераторы даже всерьез утверждали, что из всех народов Европы немцы более всего склонны к шпионству). В дело шли стереотипные изображения национальных характеров: латинской веселости и свободолюбию противопоставлялось варварское убожество толстых немецких «свиней», помешанных на пиве и порядке и вдобавок дурно пахнущих.
В русском обществе по отношению к «немцу» традиционно господствовала безотчетная неприязнь, так полно выразившаяся в знаменитом восклицании: «Подлецы – немцы!»14. Но отдельных русских мыслителей, писателей, журналистов уже начинала тревожить брутальная воинственность немецкого характера. Салтыков-Щедрин в книге «За рубежом» делился своими впечатлениями от поездки по Германии (1881): немецкая «застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость – ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство, скромность – неудачным стремлением подкупить иностранцев мещанской роскошью новых кварталов…». Свое отвращение перед германским милитаризмом он выразил в следующих словах: «Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства»; «вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: Главный штаб…».
Между тем Достоевский уже оплакал «европейское кладбище»: Германия – это «изживший свои силы народ, <…> мертвый народ и без будущности…», «Франция – нация вымершая и сказала все свое», а в Англии «то же самое, что и везде в Европе – страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни».
По мысли писателя, между Россией и Европой разверзлась непреодолимая пропасть отчуждения. «Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы!» – восклицал он в одном из заграничных писем. Немцы, «пусть они ученые, но они ужасные глупцы!.. Весь здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, глуп, туп, с самыми низменными интересами». Достоевский всей кожей ощущал «ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебность к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами…». «Европа нас ненавидит»; «Европа презирает нас, считает низшими себя, как людей, как породу, а иногда мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями»; «мы для них не европейцы, мешаем мы им, пахнем нехорошо». Европейцы «не могут никак нас своими признать. <…> Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина: идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество – вот причина!». Всех славян вообще «Европа готова заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях»; «в Европе порешили давно уже покончить с Россией. Нам не укрыться от их скрежета, и когда-нибудь они бросятся на нас и съедят нас». И чтобы не быть съеденными, надо самим съесть Европу. Таково русское христианское «всеслужение человечеству».
После Берлинского конгресса ожесточенные нападки на Германию и немцев стали обычным делом в славянофильской и либеральной печати. Бисмарк в 1888 году писал о «десятилетней фальсификации общественного мнения русской прессою, которая в читающей части населения создавала и питала искусственную ненависть ко всему немецкому…». Германский посол в Петербурге Лотар Швейниц сожалел о неспособности русского правительства справиться с антигерманскими кампаниями собственной прессы.
Под влиянием этих выступлений антипатия россиян к Германии приняла более выраженные формы. В 1887 году Александр III поделился с министрами своими наблюдениями об антигерманских настроениях своих подданных: «Прежде я думал, что это только Катков15, но теперь убедился, что это – вся Россия».
Фобии, терзающие большие европейские нации, в немалой степени содействовали тому, что военно-политические альянсы европейских стран не приняли наиболее естественную конфигурацию.
VI
17 февраля 1882 года обучавшиеся в Сорбонне сербские студенты собрались чествовать знаменитого «белого генерала» Скобелева. Михаил Дмитриевич находился в Париже не по своей воле. Это была своего рода неофициальная ссылка. Причиной ее послужила горячая речь, произнесенная генералом за месяц до того на банкете в петербургском ресторане Бореля перед офицерами, собравшимися отпраздновать первую годовщину взятия Геок-Тепе16. Патриотический запал Михаила Дмитриевича был направлен против Германии и Австро-Венгрии, в защиту балканских славян и других угнетенных славянских народов. В частности, в его речи фигурировали «немецко-мадьярские винтовки», направленные в «единоверные нам груди». «Союз трех императоров»17 тогда еще благополучно существовал, поэтому в Зимнем дворце сочли, что генералу необходимо немного охладить голову и лучше всего за границей.
Петербургская речь прославленного полководца, быстро разлетевшаяся по страницам русских и европейских газет, побудила сербскую молодежь посетить Скобелева в его квартире на рю Пентьер, чтобы поднести ему благодарственный адрес.
Задушевная беседа продолжалась часа два. А наутро часть ее появилась в газете «La France» в виде новой речи русского героя.
Скобелев явно был в ударе и говорил без обиняков:
«Я должен откровенно высказаться перед вами, я это делаю.
Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и славянской миссии, в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя! Да! Чужеземец проник всюду! Во всем его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы – жертвы его интриг, рабы его могущества… Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него – на что я надеюсь – мы сможем это сделать не иначе, как с оружием в руках!
Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и славян… я назову вам его.
Это – автор «натиска на восток» – он всем вам знаком— это Германия.
Борьба между славянством и тевтонами неизбежна… Она даже очень близка. Она будет длительна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян…»
На другой день Скобелев дал интервью корреспонденту одной из французских газет, в котором подтвердил свои политические убеждения: «Да, я сказал, что враг – это Германия, я это повторяю. Да, я думаю, что спасение в союзе славян – заметьте, я говорю славян – с Францией».
Парижская речь генерала сразу же затмила по своей популярности петербургскую. Многие приняли ее за прямой призыв к войне. Политики и дипломаты пребывали в смятении. «Ни одна победа генерала Скобелева не наделала такого шума в Европе, как его речь в Париже», – писала газета «Киевлянин».
Германию накрыл яростный приступ русофобии. Один англичанин, находившийся тогда проездом в Берлине, писал, что имя Скобелева слышалось повсюду. Взрослые и дети вслух «выражали свою ненависть к славянам и к Скобелеву. На гауптвахте, находящейся на аристократической оконечности улицы Unter den Linden, солдаты вели воинственный разговор о России». Парижскую речь Скобелева немцы уже никогда не забывали.
Горячности генерала не поняли даже в России. Бывший военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин назвал публичное выступление Скобелева «эксцентрической выходкой». Тем не менее, признал он, «самое возбуждение общественного мнения такими речами, какие произнесены Скобелевым, выявляет больное место в настоящем политическом положении Европы и те черные точки, которых надобно опасаться в будущем».
Правительственные круги в Петербурге оценили речь Скобелева как «поджигательную», а его поведение – как «бестактное», ставящее правительство «в затруднение». Александр III предписал отозвать провинившегося генерала в Россию – окольным путем, в объезд Германии, от греха подальше. В «Правительственном вестнике» было опубликовано специальное заявление русского правительства с осуждением выступления Скобелева. «Подобные частные заявления от лица, не уполномоченного правительством, – говорилось там, – не могут, конечно, ни влиять на общий ход нашей политики, ни изменить наших добрых отношений с соседними государствами, основанных столь же на дружественных узах венценосцев, сколько и на ясном понимании народных интересов, а также и на взаимном строгом выполнении существующих трактатов».
Спустя четыре месяца возмутитель спокойствия внезапно умер, и скандал, вызванный его речами, постепенно утих.
Казалось, что высказанные Скобелевым идеи умерли вместе с ним. Министр иностранных дел Николай Карлович Гирс заверял в сентябре 1887 года первого секретаря германского посольства в Петербурге Бернгарда фон Бюлова (будущего канцлера): «Я вам даю голову на отсечение, что никогда, никогда император Александр не подымет руку против императора Вильгельма, ни против его сына, ни против его внука». Союз монархической России с республиканской Францией представлялся русскому министру противоестественным: «Как могут эти французы быть настолько глупыми, чтобы воображать, будто император Александр пойдет со всякими Клемансо против своего дяди! Этот союз мог бы только внушить ужас императору, который не стал бы таскать каштаны из огня в пользу Коммуны».
Не прошло и четырех лет после этой беседы, как франко-русский союз был заключен. Головы Гирса, к счастью для него, никто не потребовал.
VII
В июне 1890 года истекал срок действия секретного «договора перестраховки» между Германией и Россией.
Договор этот был заключен тремя годами ранее, когда фактическим правителем Германской империи был имперский канцлер князь Бисмарк. В то время его воображение терзал «кошмар коалиций» («cauchemar des coalitions»)18, он панически боялся создания союзов, которые могли быть направлены против Германии. Бисмарк принадлежал к тем редким политикам, которые не только учат уроки истории, но даже зубрят их наизусть. Перед его мысленным взором непрерывно маячил пример Семилетней войны (1756—1763) – великого столкновения Фридриха II с русско-австро-французской коалицией, едва не ставшего роковым для прусской монархии. Допустить повторения этой политической комбинации он не хотел. Военное поражение, по мысли Бисмарка, с неизбежностью должно было повлечь за собой гибель Германского Рейха, спаянного «железом и кровью». Он как будто предчувствовал грандиозную антигерманскую коалицию 1914—1918 годов, покончившую с Германской империей.
После «военной тревоги» 1875 года, когда Россия и Англия не позволили Германии вторично расправиться с окрепшей Францией, Бисмарк заключил союз с Австрией (1879) и с Италией (1882). Таким образом, он «застраховался» на случай новой войны с Францией или с Россией. Затем, стремясь избежать русско-французского сближения, Бисмарк решил «перестраховаться» двусторонним соглашением с Россией – единственной страной, вызывавшей у него страх независимо от коалиций19.
Российский император Александр III стремился балансировать на франко-германских противоречиях, сохраняя свободу рук. Он пошел навстречу желаниям германского канцлера. В 1887 году русский посол в Берлине Павел Шувалов согласовал с Бисмарком текст договора. Россия обязалась соблюдать нейтралитет в случае нападения любой третьей великой державы на Германию, а Германия взяла на себя точно такое же обязательство относительно России. Кроме того, Германия признавала «исторически приобретенные» права России на Балканском полуострове. Бисмарк любил повторять, что весь восточный вопрос «не стоит костей одного померанского гренадера».
Девяностолетний кайзер Вильгельм I вполне одобрил этот шаг своего канцлера. Рыцарственный старец почитал священными узы знаменитой клятвы, которую на заре столетия его отец Фридрих Вильгельм III и царь Александр I дали у гроба Фридриха Великого в Потсдаме20. Всю свою долгую жизнь он твердо держался курса на дружбу с Россией, где правили его родственники – свояк Николай I, племянник Александр II и двоюродный внук Александр III.
«Договор перестраховки» был заключен сроком на три года, и когда летом 1890 года встал вопрос – продлевать его или нет, у власти в Германии находились совсем другие люди.
Вместо умершего в 1888 году старого кайзера германский престол занял его внук Вильгельм II. Долго ужиться с ним Бисмарк не смог. Молодой и амбициозный Вильгельм желал самостоятельно управлять делами, чего «железный канцлер» решительно не одобрял. Бисмарк был весьма невысокого мнения о политических способностях нового императора и однажды даже вслух посетовал на то, что Германская империя – не США, где президента, не подходящего для занимаемого им высокого поста, можно заменить через четыре года.
Их подспудная борьба за лидерство продлилась меньше двух лет, и закончилась поражением канцлера. В марте 1890 года Бисмарк подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Однако влиятельный канцлер сохранил влияние на дела и часто весьма непочтительно отзывался о действиях Вильгельма.
Вильгельм, в свою очередь, критиковал организованную Бисмарком систему континентальных союзов. Впоследствии в своих мемуарах кайзер писал: «Войну между Германией и Россией он (договор) не отвратил бы ни на минуту; не гарантировал бы он и нейтралитета России в случае начала войны с Францией. Для меня нет сомнения в том, что значение этого договора сильно преувеличено – он представлял собой не более чем одну из карт в сложной игре Великого канцлера».
Ни одно из этих утверждений не представляется бесспорным. Но так или иначе «договор перестраховки» не был возобновлен.
Тем не менее, Вильгельм заверил Александра III, что германо-русской дружбе ничто не угрожает: «Я хочу мира на международной арене и порядка внутри страны, ничего иного». «Это полностью совпадает с моими пожеланиями», – ответил российский самодержец.
Тем же летом Вильгельм навестил Александра в Петергофе. Он прибыл туда на роскошной яхте «Гогенцоллерн» в сопровождении небольшой эскадры. Спустя три дня состоялся большой смотр войск в Красносельском военно-полевом лагере. Здесь германский император был подвергнут небольшой моральной экзекуции.
Накануне перед смотром Александр III назначил Вильгельма шефом Выборгского пехотного полка. Одетый в форму своих новых подопечных, Вильгельм во главе колонны прошел церемониальным маршем мимо императора Александра III. После окончания парада он заметил, что Выборгский полк имеет серебряные Георгиевские трубы и обратился к командиру полка с вопросом:
– За какой подвиг мой полк получил серебряные трубы?
Командир полка растерянно молчал, вопросительно глядя на своего государя.
– Отвечайте, полковник! – приказал Александр III.
– За взятие города Берлина21, Ваше Императорское Величество! – был его ответ.
Вильгельм было смутился, но быстро овладел собой. Он повернулся к императору Александру и, протягивая ему руку, сказал:
– Теперь этого более не будет!
Этими словами он желал подчеркнуть, что, несмотря на неприятный инцидент с «договором перестраховки», между Германией и Россией более не может быть вражды.
Александр III думал иначе. В одном из писем он отзывался о своем немецком родственнике как о «мальчишке, который получил плохое воспитание и которому нельзя доверять». Царь уже понял, что в международных делах «теперь господствуют не династические связи, а национальные интересы».
До этого времени Бисмарк искренне считал, что франко-русский союз абсолютно невозможен, ибо царь и «Марсельеза» непримиримы. Это была одна из немногих иллюзий прожженного циника.
23 июля 1891 года на Кронштадтском рейде бросила якорь французская броненосная эскадра контр-адмирала Альфреда Альбера Жерве, прибывшая с визитом дружбы. На следующий день Александр III с семьей взошел на палубу «Marengo». Жерве скомандовал играть «Боже, Царя храни». Спустя еще несколько дней Жерве, вместе с командирами судов и старшими офицерами, был приглашен к обеду в Петергофском дворце. Они шли по ковру из цветочных букетов, которые бросала им под ноги восторженная толпа. К изумлению заморских гостей русские вели себя так, словно разрушенных Севастопольских бастионов никогда не было. Когда французские моряки представились государю, военный оркестр грянул «Марсельезу». При первых звуках крамольной песни царь неторопливо снял с головы фуражку и замер по стойке «смирно». Позднее с российской стороны последовало разъяснение, что государь был очарован восхитительной музыкой французского революционного гимна, а не его словами.
– Подлецы – немцы!
Мы хохотали до упаду при этой сцене. Это было так по-русски, и именно по-московски: «немцы – подлецы – зачем вода холодна!» – немцы – подлецы, жиды – подлецы, все – подлецы, потому что я глуп, потому что я неосторожен и легковерен» («Вопросы жизни. Дневник старого врача»).