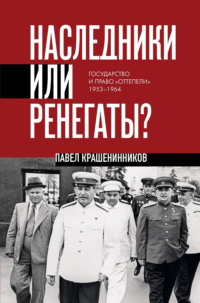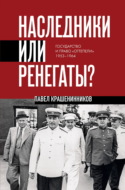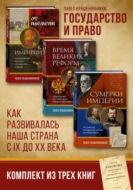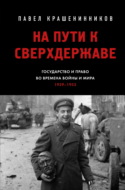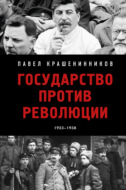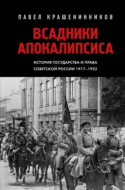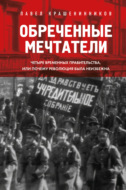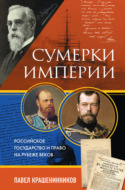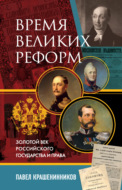Kitobni o'qish: «Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964», sahifa 3
§ 4. XX съезд КПСС
Сама по себе смерть Сталина, а также неудачные, но все-таки попытки изменить некоторые базовые постулаты режима имели необратимые последствия. Казавшаяся незыблемой конструкция сталинизма стала шататься.
В 1953–1954 гг. были пересмотрены основные политические дела, связанные с послевоенными репрессиями. В связи с амнистией и частичной реабилитацией после истечения срока заключения на волю стали постепенно выходить и политические заключенные. Пусть их количество было пока невелико, но сам факт их освобождения заставлял задумываться об отношении режима к своим гражданам.
А отношение это было брезгливое – как к бездушному расходному материалу. Касалось это не только невинно репрессированных, но и крестьян во время сплошной коллективизации, солдат во время кровавой войны и вообще отношения начальства к своим подчиненным.
Вытекало это прискорбное обстоятельство из концептуальных основ марксизма-ленинизма, согласно которому течение истории обусловлено некими объективными закономерностями, и потому победа коммунизма неизбежна. При этом люди понимаются не как личности, а как функции, исполняемые в соответствии с повелениями других функций, стоящих выше по иерархической лестнице, – в общем, навязший в зубах образ мелких винтиков в мегамашине. Они могут быть самыми разнообразными, в том числе и в виде «врагов народа», «лагерной пыли», шпионов, диверсантов и т. д.
Вряд ли кто в то время мыслил такими категориями и вообще оперировал понятием «тоталитарный режим», но многие чувствовали несправедливость и обиду. Особенно обидно было представителям элиты (партийным функционерам, управленцам, военачальникам, научной и творческой интеллигенции), которые имели повышенную личную самооценку. Впрочем, и простым людям было обидно за свое полунищенское существование, беспомощность перед бездушной бюрократической машиной, высокомерное отношение со стороны представителей элиты, зримо проявлявшееся в наличии спецраспределителей, персонального транспорта, спецсанаториев и прочих привилегий.
Расчеловечивание и обезличивание всех, начиная с ближайшего окружения правителя и заканчивая зэками и опустившимися, – вот, полагаем, главный признак тоталитаризма, а не культ вождя. Стремление людей вернуть свою личность витало в воздухе, а это грозило крахом тоталитарного режима и вообще завершением коммунистического эксперимента. Советское руководство если не понимало, то чувствовало это и потому страшилось всяческих перемен, противодействовало им.
Вместе с тем ситуация могла выйти из-под контроля. Было понятно, что по мере освобождения политических заключенных они начнут рассказывать, как и за что их посадили, доказывать свою невиновность и, скорее всего, справедливо обвинять в своей трагедии не только Сталина, но и его близких и дальних соратников. Могли возникнуть серьезные вопросы о причастности к репрессиям членов «коллективного руководства», в том числе самого Хрущева, в частности за период, когда он возглавлял партийные организации в Москве и на Украине. В то же время оставлять политических заключенных в лагерях было так же опасно: в обществе мог создаться негативный климат и сформироваться мнение, что нынешние вожди и есть главные зачинщики незаконных репрессий, боящиеся расплаты. К тому же в 1953–1954 гг. во многих лагерях прошли бунты и массовые акции неповиновения заключенных.
Побороть эти тенденции было уже невозможно. Оставалось только их возглавить. Никита Сергеевич поступил в полном соответствии с общеизвестным анекдотом о трех конвертах, оставленных уходящим руководителем своему преемнику. Как известно, в первом конверте была записка: «Вали все на меня»41.
Начало эпохе разоблачения культа личности Сталина было положено ударным, хотя и секретным докладом Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС (14–25 февраля 1956 г.)42.
Перед новым 1956 годом, на заседании Президиума ЦК КПСС 31 декабря 1955 г., обсуждались «вопросы, связанные с реабилитацией». Была создана «комиссия в составе тт. Поспелова, Комарова, Аристова, Шверника, которой поручено просмотреть все материалы». Непосредственно на заседание Президиума был доставлен заключенный Б. Родос, в свое время следователь по особо важным делам МГБ СССР, один из главных исполнителей политических процессов конца 1940-х гг. Его показания подтвердили, что Сталин лично руководил террором.
Непосредственно перед началом XX съезда, 8 февраля 1956 г., «комиссия Поспелова» представила в Президиум ЦК многостраничный отчет о репрессиях прошлого43, в котором содержалась убедительная картина массового террора власти по отношению к населению страны.
Именно из этого доклада нам известны очевидно неполные данные, что только за 2 года (1937–1938) было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1 548 366 человек, из них расстреляно – 681 692 человека, было разгромлено партийно-советское руководство страны – арестовано по 2–3 состава руководящих работников республик, краев и областей; из 1966 делегатов XVII съезда ВКП (б) арестовано 1108 человек, из них расстреляно – 848.
9 февраля 1956 г. этот доклад был заслушан на Президиуме ЦК. Сразу же развернулась дискуссия о том, нужно ли говорить об этом на съезде, как оценивать Сталина. За то, чтобы донести содержание доклада до делегатов съезда, были Аристов44, Шепилов45 и Маленков. Против доклада выступили Молотов, Boрошилов и Каганович. Картина террора была ужасной даже для членов Президиума. Они все были не просто свидетелями, но и соучастниками. Но систему понимали не все.
Первоначально в проекте повестки XX съезда, подготовленном Отделом партийных органов ЦК, упоминания о докладе Хрущева по этой теме не было. Буквально перед началом съезда были внесены изменения. 13 февраля 1956 г., за день до начала съезда, состоялось заседание Президиума ЦК, на котором было принято решение: «Внести на Пленум ЦК КПСС предложение о том, что Президиум ЦК считает необходимым на закрытом заседании съезда сделать доклад о культе личности и утвердить докладчиком Н. С. Хрущева».
Никита Сергеевич сам включился в подготовку доклада: пригласил к себе стенографистку и продиктовал 19 февраля, то есть в разгар работы съезда, свой вариант доклада, который затем был объединен с докладом комиссии Поспелова. Обращаем внимание на то, что текст доклада Президиумом не утверждался, хотя это противоречило традициям подготовки не только съезда, но и вообще сколько-нибудь крупного партийного мероприятия.
В докладе Хрущев все крупные проблемы страны старался свалить на Сталина, на его скверный характер, на его «полную нетерпимость к коллективности». Пытался оправдать партийное руководство, мирившееся со сталинским произволом: «Он действовал не путем убеждения, кропотливой работы… а путем навязывания, путем требования принятия его понимания вопроса, и кто этому сопротивлялся или старался доказать свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим немедленным уничтожением»46.
Докладчик пересмотрел выдающийся вклад Сталина в Победу в Великой Отечественной войне. По его мнению, Сталин оказался совершенно неспособным к руководству армией и страной в начале войны, целый год не подписывал приказы. На Сталина Хрущев возлагал ответственность за неподготовленность к войне, за окружение частей Красной Армии под Киевом в 1941 г., под Харьковом в 1942 г.
В своем докладе Первый секретарь ЦК КПСС впервые предал огласке так называемое Завещание Ленина, точнее – приведенную в нем негативную характеристику Сталина, и обвинил последнего в попрании ленинских принципов коллегиальности руководства партией, в насаждении собственного «культа личности». В общем, «Сталин не марксист и не ленинец, и партию уничтожил. Все святое стер, что есть в человеке. То, что он строил, – вовсе не коммунизм»47.
Возлагая вину за все плохое в прошлом на Сталина и Берию, Хрущев всеми силами демонстрировал стремление реабилитировать коммунистическую партию, придать новый импульс идеям социализма и коммунизма. При этом парадоксальным образом по-прежнему считал Троцкого, Зиновьева, Бухарина и иже с ними врагами.
Думается, замысливая и произнося этот эпохальный доклад, Никита Сергеевич кроме политических целей преследовал и сугубо личные: сбросить с себя функцию пособника и шута Сталина, возродить свою личность – как человека и лидера Советской страны.
Важно отметить, что секретный доклад был озвучен Хрущевым на закрытом заседании в последний день съезда – 25 февраля 1956 г., когда его работа практически уже закончилась: повестка дня, известная делегатам, была исчерпана, прошли выборы в ЦК КПСС. Зал слушал молча, в полной тишине. После окончания доклада не было аплодисментов. Ход закрытого заседания не стенографировался. После окончания доклада было решено прений по нему не открывать48.
Также было решено ознакомить с содержанием доклада партийные организации (без публикации в печати)49. В итоге практически все взрослое население страны оказалось в курсе выступления Хрущева. Доклад также был разослан руководителям компартий стран мира.
§ 5. Неожиданные последствия XX съезда
Активные предупреждения Молотова, Кагановича и Ворошилова накануне съезда об отрицательных последствиях «разгребания грязи» в сталинском наследстве не выглядели пустым звуком. Даже Черчилль был озабочен. От него поступил такой совет: «Нужно дать народу время переварить то, что вы сообщили, иначе это обернется против вас». Хрущев расценил этот совет как искренний: «Старая лиса Черчилль боится, что если в результате наших неумных действий мы будем отстранены от руководства страной, то к власти придет правительство, которое возвратится к сталинским методам резкой нетерпимости». И поэтому он сказал Черчиллю: «Мы это учтем»50.
Безмолвное выслушивание установок, содержащихся в докладе Хрущева на съезде, сменилось бурным обсуждением на местах: почему произошло то, что было названо «культом личности», кто виноват, что нужно делать, чтобы трагедия партийного самовластья не повторилась. Все эти дискуссии противоречили монопольному праву высшего партийного руководства давать ответы на все важные вопросы, что оценивалось как покушение на права партии, как политическое преступление.
По всей стране прокатились митинги студентов – от Иркутска и Томска до Ленинграда – с требованиями ответить на возникшие вопросы. Особенно тяжело восприняли доклад в Грузии – как нападки на великого грузина Сталина. 5–9 марта прокатились беспорядки по Абхазии, вылившиеся в столкновения грузин и мингрелов с русскими, армянами и абхазами. В Тбилиси пик беспорядков пришелся на 9–10 марта.
Исчезла однозначность оценок роли партии в истории страны. Началось обсуждение вопросов о цене преобразований, о том, что из трагедий прошлого было порождено лично Сталиным, а что было предопределено самой партией, идеей строительства «светлого будущего».
Разрушение примитивного восприятия прошлого, отход от канонов «Краткого курса истории ВКП (б)» не могли не порождать критичность в оценках. Впервые за долгие годы возникла опасность возникновения оппозиции режиму.
Стремление к дальнейшей демократизации общественных отношений быстро набирало темпы и принимало все более острый характер. Процесс захватывал не только советское общество, но и международное коммунистическое движение, страны советского блока в Восточной Европе. В октябре 1956 г. вспыхнуло народное восстание в Венгрии. Для его подавления в страну были введены советские войска. Угроза использования силы была продемонстрирована и в Польше.
Эти события привели к изменению внутренней политики Советского Союза. 19 декабря 1956 г. Президиумом ЦК КПСС был утвержден текст письма к партийным организациям «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов». После этого письма по стране прокатилась волна арестов и весьма суровых приговоров судов, по которым коммунисты и беспартийные лишались свободы за «клевету на советскую действительность» и «ревизионизм». Только в первые месяцы 1957 г. к уголовной ответственности были привлечены несколько сотен человек. Были расстреляны активные участники демонстрации, прошедшей в 1956 г. в Тбилиси51.
Большинство членов Президиума ЦК были уверены, что этот раздрай стал прямым и непосредственным следствием XX съезда. Часть членов Президиума ЦК резко выступала против всех нововведений, которые предлагал Хрущев. Формально члены Президиума выступали в защиту Сталина якобы потому, что дальнейшие разоблачения подрывали авторитет партии и Советского государства. Но несомненно и то, что больше всего они заботились о собственной судьбе.
Для старожилов советского партийного Олимпа Хрущев был неофитом, выскочкой, совсем недавно обустроившимся на этом самом Олимпе. Его простецкие манеры сильно отличались от чопорной модели поведения советских бонз, особенно в общении с иностранными деятелями и в зарубежных поездках.
К лету 1957 г. противоречия в Президиуме ЦК достигли такой высокой степени накала, что столкновение между противостоящими группировками было неизбежно. Одна или другая соперничающая группа должна была уйти с политической арены.
Все разрешилось на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 г. Хрущеву противостояла группа во главе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем. 18 июня 1957 года днем они потребовали от Хрущева собрать Президиум ЦК. На нем Маленков, Молотов, Каганович и другие члены Президиума предъявили Первому секретарю многочисленные претензии. Его обвинили в нарушении принципа коллективности руководства, грубости и нетерпимости по отношению к отдельным членам Президиума, многие высказывали мнение, что в партии и в стране растет культ личности Хрущева.
Никиту Сергеевича упрекали в том, что он насаждает практику подавления инициативы и самостоятельности советских органов, при этом партийные организации берут на себя несвойственные им хозяйственные функции Советов. На заседании отмечались крупные просчеты в руководстве сельским хозяйством, указывалось на опасные зигзаги во внешней политике. Члены Президиума ЦК обвиняли Секретариат ЦК КПСС, лично Хрущева, секретарей обкомов и секретарей ЦК компартий союзных республик в том, что они ведут работу по дискредитации отдельных членов Президиума ЦК. Заговорщики планировали убрать Никиту Сергеевича с поста Первого секретаря и вообще упразднить эту должность, а самого Хрущева назначить министром сельского хозяйства и, возможно, оставить ему пост одного из секретарей ЦК.
Положение для Хрущева сложилось угрожающее. Как и в случае с арестом Берии, решить проблему призвали маршала Победы Жукова. Чтобы переломить неблагоприятную ситуацию, в срочном порядке самолетами военной транспортной авиации в Москву доставили членов ЦК, сторонников Хрущева. После четырех дней непрерывных заседаний Президиума по требованию группы членов ЦК начал работу Пленум ЦК партии.
Георгий Константинович вспоминал: «Первый и второй день Н. С. Хрущев был как-то деморализован и держался растерянно. Видя, что я решительно встал на его защиту и то, что многие члены Президиума ЦК и члены ЦК сразу же потянулись ко мне, сделав этим меня как бы центральной фигурой событий, Хрущев растроганно сказал мне: „Георгий, спасай положение, ты это можешь сделать. Я тебя никогда не забуду”.
Я его успокоил и сказал: „Никита, будь тверд и спокоен. Нас поддержит Пленум ЦК, а если группа Маленкова-Молотова рискнет прибегнуть к насилию – мы к этому будем готовы”»52.
На пленуме ситуация кардинально изменилась. Первым в прениях выступил министр обороны Г. К. Жуков и огласил документы, которые обличали Молотова, Кагановича, Маленкова в совершении преступлений в период репрессий. Они были названы как «главные виновники арестов и расстрелов партийных и советских кадров»53. К тому времени участие в массовых репрессиях уже стало тяжким политическим осуждением. Обвинители Первого секретаря тут же превратились в обвиняемых.
После такой метаморфозы пленум поехал по привычной сталинской колее. Обвиняемые имели право только оправдываться. Их выступления прерывались со стороны оппонентов грубыми репликами, унижающими человеческое достоинство. И та и другая сторона не стесняла себя в наклеивании друг другу позорных ярлыков. Встрепенулись старые члены ЦК, поднаторевшие в разгроме «антипартийных группировок» в духе внутрипартийной борьбы 1920-х годов. Даже пытались поставить вопрос о поиске последователей «антипартийной группы» на местах, читай – о новых массовых репрессиях. Как говорится, опыт не пропьешь, лишь бы пригодился. В конце пленума Молотов, Маленков, Каганович и иже с ними клеймили допущенные ими же ошибки и униженно просили простить их. В участниках пленума благополучно возродился дух Сталина, некоторым, наверное, даже полегчало54.
Первый пункт постановления Пленума от 29 июня 1957 г.55до сих пор остается легендарным выражением: «Осудить, как несовместимую с ленинскими принципами нашей партии, фракционную деятельность антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова»56. Тем же постановлением все трое и примкнувший были изгнаны из ЦК КПСС. «Политически неустойчивому» Булганину, вовремя переметнувшемуся от раскольников в хрущевский лагерь, был объявлен строгий выговор. Маленков, Молотов и Каганович в начале 1960-х были исключены из партии, Шепилов был лишен звания члена-корреспондента Академии наук и также исключен из партии.
Парадоксально, но выступивший против Хрущева Булганин пересидел яростно поддерживавшего Хрущева Жукова, который уже в октябре 1957 года решением пленума был лишен всех постов под предлогом того, что он стремился принизить роль политических органов в армии, а также за то, что «зашел так далеко в отрыве от партии, что в некоторых его выступлениях стали прорываться претензии на какую-то особую роль в стране». Однако 27 марта 1958 г. и Булганина отправили в отставку, а Председателем Совмина стал сам Хрущев.
Победа на июньском пленуме была не только победой Хрущева, но и успехом секретарей обкомов – членов Центрального Комитета партии. Они вмешались в события в тот момент, когда Хрущев был уже готов идти на компромисс со своими противниками. Группа членов ЦК вместе с секретарями и аппаратом ЦК решительно взяла дело в свои руки и перенесла обсуждение спорных вопросов на Пленум ЦК, где полностью владела положением. После этого пленума влияние партаппарата серьезно укрепилось, партия возвратила себе значительную часть власти, которую она имела в 1920-е годы. Был утвержден принцип партийного руководства всеми сторонами деятельности государственного аппарата. Утратили свою ключевую роль такие ведомства, как Министерство внутренних дел, Министерство обороны, КГБ СССР. Гораздо важнее, хотя и скрытнее, стала роль отделов аппарата ЦК КПСС.
Молодая поросль «гнезда Сталина» не хотела возврата к неспокойной и нервной жизни с периодическими погромами аппаратных работников. Ее прельщало спокойное существование в режиме бесцельного функционирования – желательно до конца своих дней.
Глава 2
Начало конца
§ 1. Оттепель
Оттепель, а точнее то, что ею называют историки, журналисты, юристы, писатели57, не имеет четких хронологических рамок, да и именуют этот временной период еще и слякотью. Так что следует определиться с тем, о чем, собственно, пойдет речь.
Несмотря на все описанные в предыдущей главе государственные и общественные эволюции, произошедшие с подачи власти, суть советского режима осталась прежней, а сам он даже несколько укрепился: возвращение практически всех рычагов управления партийному аппарату означало усиление и без того запредельной централизации управления.
В то же время задачи, стоявшие перед советским руководством, сместились в сторону трансформации системы управления с целью побороть чудовищную нищету населения, а также ускорить освоение результатов научно-технического прогресса.
Именно с этого момента начинают все явственнее проявляться родовые пороки командно-административной системы, в принципе не способной решать поставленные задачи58. Отсюда и хаотические и в целом безуспешные в силу неадекватности применяемых управленческих подходов реформы Хрущева, и возникающее разочарование населения не только в этих реформах, но и в идеях коммунизма. Так что с точки зрения начала распада командно-административной системы рассматриваемый период – слякоть, а с точки зрения кратковременного предощущения ее неадекватности – оттепель.
Между тем пока что это были лишь нарождающиеся, слабые подводные течения, а на поверхности ничего ужасного не происходило: Советский Союз не только оставался сверхдержавой, но и укреплял свою мощь.