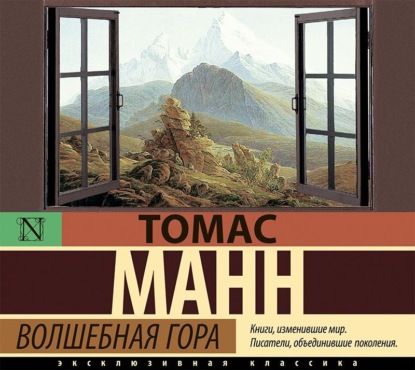Евгений Водолазкин: «Проза должна иметь ритм, но он не должен быть навязчивым»
5 декабря объявили имена лауреатов XVIII сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Первое место досталось Евгению Водолазкину (за его прошлогодний роман «Чагин»). Ранее автор уже cтановился двухкратным обладателем награды.
По этому случаю вспоминаем прошлогоднее интервью с одним из самых известных российских прозаиков. Поводом для разговора стал выход упомянутого выше романа «Чагин», в котором автор вновь затрагивает излюбленные темы памяти, времени и духовных поисков обычных людей, не по своей воле оказавшихся заложниками эпохи.
В этот раз – с отсылками к Бродскому, античной поэзии и множеству других литературно-исторических фрагментов.
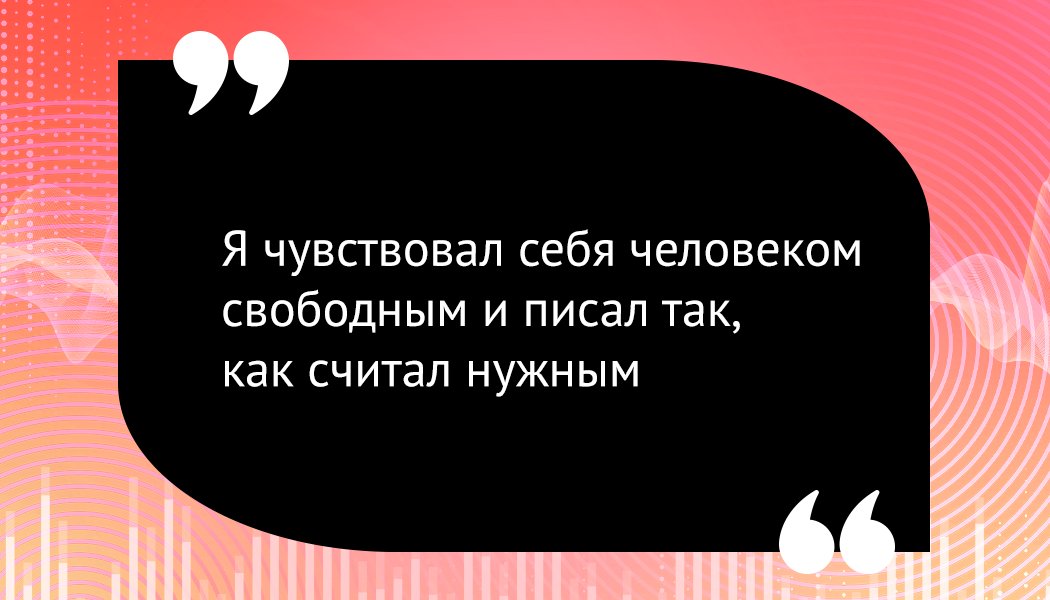
Константин Орищенко: Для начала я бы хотел поговорить с вами про роман «Лавр». Этот текст стал, пожалуй, одной из наиболее обсуждаемых книг минувшего десятилетия.
Евгений Водолазкин: Да, это первый «прозвучавший» роман.
Константин Орищенко: И первый роман, который настолько громко выстрелил в медиапространстве. То есть, разумеется, были книги, которые ему предшествовали, но именно с «Лавра» началось ваше творческое восхождение, как мне кажется.
Евгений Водолазкин: Да, это абсолютно так.
Константин Орищенко: Вторая книга, «Авиатор», по сути, была логическим продолжением «Лавра», но с акцентом уже на другую временную эпоху. И вот сам вопрос. Не мешала ли вам та высокая планка, поднятая первым романом, создавать новые произведения или, напротив, она мотивировала делать еще лучше?
Евгений Водолазкин: Знаете, как ни странно, некоторым образом мешала. То есть осложняла несколько, потому что я когда писал «Лавра», то был никому не известен, особенно никому не интересен. Я писал абсолютно свободно, как мне хотелось, потому что не думал, что кто-то будет тщательно разбираться в моем романе, и у меня была абсолютная свобода рук. А когда я работал над «Авиатором», то уже понимал, что к этому будут относиться внимательно, и начинал думать: если я скажу так, то как на это отреагируют? То есть то, о чем вы говорите присутствовало тоже, планка нужна не ниже в этом случае. Но меня не столько это волновало, сколько то, что теперь это будет рассматриваться «под лупой» и я должен, что называется, «фильтровать базар» и внимательно относиться к каждому слову. В этом отношении стало чуть-чуть сложнее. Но, я повторяю, это не было решающим, в общем-то я чувствовал себя человеком свободным и писал так, как считал нужным.
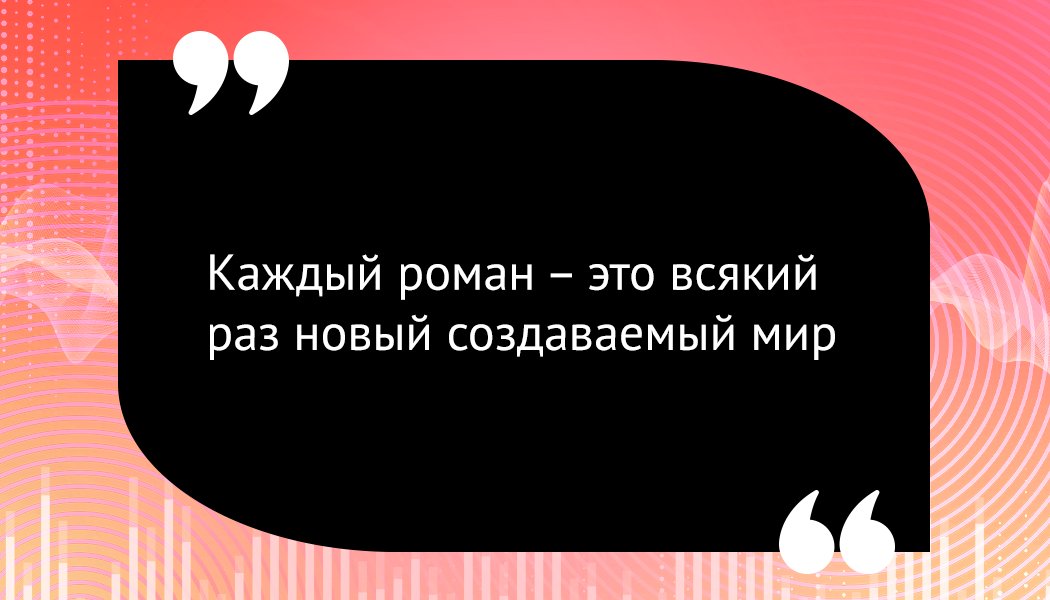
Константин Орищенко: В одном из интервью вы говорили, что ваши романы часто продолжают друг друга. Можно ли сказать, что одна из ваших целей как автора – сформировать что-то наподобие собственной «мультивселенной» (если выражаться языком той же научной фантастики), в которой есть определенные пересекающиеся смыслы, обстоятельства, герои? И если да, то как бы вы описали эту «мультивселенную»?
Евгений Водолазкин: Да, пожалуй, я бы согласился с такой формулировкой, потому что каждый роман – это всякий раз новый создаваемый мир, а каждый автор – это маленький демиург. И мир должен быть неповторимым, прекрасным, но, разумеется, в границах возможностей человека, потому что настоящий мир создает только Бог. И поскольку Бог дает человеку свои качества, создает его по его образу и подобию, он дает ему дар творчества (от слова творить), и этот дар используется по мере сил авторами. Я действительно стараюсь, чтобы романы были непохожими. Даже не сказал бы, что особенно стараюсь. Это получается естественно, потому что если ты что-то творишь, то это должно быть новым и должно каким-то образом представлять определенные темы и идеи. Но было бы странно, если бы человек не учитывал свои предыдущие работы и делал вид, что все создается из ничего и в первый раз. Это не так! И поэтому, с одной стороны, есть стремление к новизне, а с другой – некоторое продолжение темы. Мне нравится это определение – «мультивселенная», потому что это вселенная, которая состоит из отдельных миров, каждый из которых представлен в романе, но в целом они едины. Есть общие для них всех космические ветры, есть какие-то световые потоки.
Для меня такими потоками являются несколько тем: время, история и – в последнем романе была развита еще одна существенная тема – вымысел. Прежде я всерьез занимался временем и историей и в этом отношении, конечно, выходил на тему смерти – у меня это довольно частая тема, потому что время беременно смертью. Если Адам был бессмертен до грехопадения, то после ему в первую очередь было предъявлено время. То есть его безвременность, вечность сменилась временем, и он стал конечен. Он стал смертен, потому что время предполагает границу, а граница – это смерть. И да, это как у Пушкина: «...вечно тот же, вечно новый». Мне кажется, такими фразами полагается характеризовать любого автора. Должна быть новая основа, чтобы не душить читателя одними и теми же темами. Должен быть новый материал, но темам и идеям надлежит быть в преемственности по отношению друг к другу, потому что все-таки человек развивается, ему приходят какие-то новые мысли относительно затронутых тем, и он предлагает их в новом виде.
Константин Орищенко: Вы сейчас сказали про вечное и скоротечное, и тем самым натолкнули меня на один из следующих вопросов. Точнее, я бы даже назвал это иначе – вопрос-умозаключение. Хотелось бы уточнить, насколько правильно я понял концепцию этой самой «мультивселенной», о которой мы говорим. И хотя ваши книги далеки от НФ, в роли этой воображаемой «экосистемы», на мой взгляд, у вас часто выступает некое пространство, где сталкиваются категории духовного и материального, вечного и скоротечного, противопоставляясь друг другу. Даже сейчас вы сделали несколько отсылок к библейским мотивам и к сотворению нашей Вселенной, к первым людям – Адаму, Еве, к еще нескольким моментам. И я у вас прямо увидел, что есть это сопоставление: есть человек, есть его жизнь и есть какой-то внутренний конфликт, который, рождаясь в материальной системе, противопоставляется духовной. Верно ли я понял эту сквозную нить?
Евгений Водолазкин: Да, собственно говоря, мир создан гармоническим, есть симметрия. Допустим, существует определенное соответствие, отражение одного в другом. И это тоже гармония, ведь человеческая жизнь часто напоминает жизнь человечества. Есть свое детство, есть развитие человечества или отдельного народа, которое имеет свои стадии. Стадии зарождения, развития и смерти, как мы знаем. Потому что многие народы в истории существовали, а потом исчезали и растворялись в других народах. И в конце концов жизнь каждого человека повторяет некоторые ступени жизни Адама. Некоторое безгрешное существование в детстве, в вечности, потому что для ребенка не существует смерти, он, может, и знает о ней, но не соотносит ее с собой. Понимание смерти приходит человеку в подростковом возрасте, когда он начинает развиваться (в том числе телесно). Безгрешность его уходит, и это совпадает с открытием смерти. Поэтому такие соответствия между жизнью человека и жизнью народа, между существованием нынешних людей и бытием Адама наводят на мысль, что все отражается в другом и все связано. А основные вещи, сюжеты и мысли – все это высказано в Писании, ведь это удивительная книга. Помимо того, что это священный текст, это очень хорошая литература. Потрясающие истории, полные драматизма. В Библии есть и соперничество, и любовь, и ненависть, и преданность, и предательство. Есть все! Измерение вечностное отражается в измерении временном. Это взаимоотражение естественно, потому что истина существует на разных уровнях – бытовом, политическом и духовном. И мне кажется, что всегда важно показывать связь разных уровней истины, потому что эта связь и обеспечивает единство мира.
Константин Орищенко: Вы говорили пару минут назад о своем понимании времени, отталкиваясь от библейской концепции, и мне сразу же вспомнился сериал «Настоящий детектив» (первый сезон). Вы слышали про него, смотрели?
Евгений Водолазкин: Нет. Я вообще, к стыду своему, очень мало смотрю, не вхожу ни в какие «сети» компьютерные. То есть я представлен в них, но это делает волонтер. Без моего участия, но с моего согласия. Это профессиональный человек. А я оказываюсь вне информационных потоков очень часто.
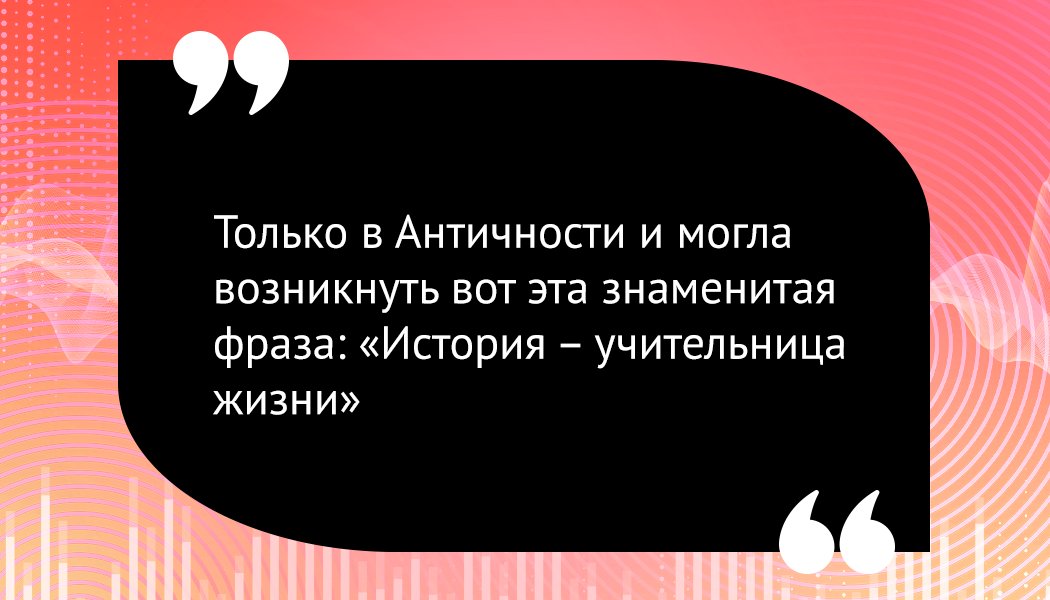
Константин Орищенко: И вот почему я вспомнил этот сериал. Там у одного из главных героев, харизматично-загадочного детектива по имени Раст Коул, была фраза, которая сквозной нитью шла через весь сюжет. Он постоянно говорил: «Время – это замкнутый круг». Это было связано и с сюжетными особенностями этого сериала. Вот вы согласны с этим утверждением?
Евгений Водолазкин: Согласен только отчасти. Дело в том, что существует несколько моделей времени. Замкнутый круг – это античная модель. Тогда считалось, что подобные причины приведут к подобным последствиям, и поэтому как раз в Античности только и могла возникнуть вот эта знаменитая фраза: «История – учительница жизни». Потому что казалось, что достаточно не повторять или повторять действия, которые приведут к тем или иным последствиям. Но христианство разомкнуло этот круг и предложило новую модель. Это модель-спираль. События, да, они повторяются в некоторой степени, но всякое божье творение единично и неповторимо. Поэтому событие есть нечто, что повторяет предыдущее, и нечто, что не повторяет. Идея спирали характерна для христианства: об этом, не упоминая спирали, в других словах писали отцы церкви. В частности, они использовали типологическую экзегезу. Они искали отражение Ветхого Завета в Новом Завете. Допустим, Адам в Ветхом Завете и Христос как новый Адам в Новом Завете. Ева в Ветхом Завете и Дева Мария как новая Ева в Новом Завете. Таких сопоставлений находили десятки, если не сотни. И этим обеспечивались, с одной стороны, связь времен, а с другой – развитие.
Константин Орищенко: То есть такая духовная эволюция прямо прослеживается.
Евгений Водолазкин: Да, и духовная, и материальная, поскольку все это выражалось в новых поколениях. Поэтому, да, цикличное время (или замкнутое) есть, но характеризует дохристианский период. Античное время не имеет ни начала, ни конца, оно просто существует, вращается в замкнутом круге. В то время как христианство имеет четкое начало (это сотворение мира) и конец, к которому идет – это конец света. Но эти две точки соединяются в спираль.
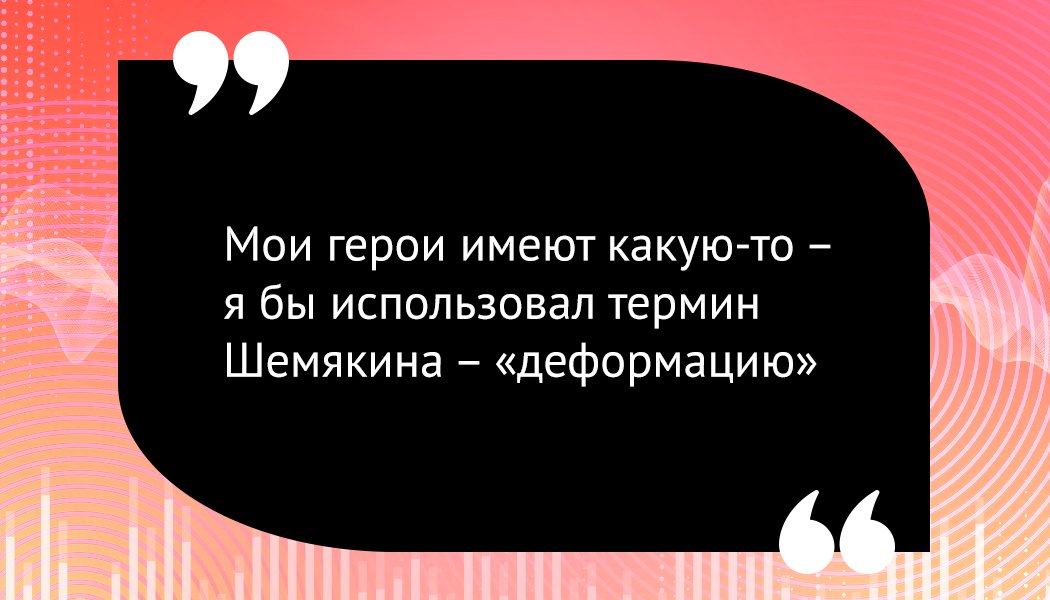
Константин Орищенко: Проблемы памяти и времени – одни из ваших излюбленных тем и, по сути, некая сквозная составляющая большинства сюжетов. Но я обратил внимание на другой объединяющий момент: ваши герои озабочены духовными поисками, и все находятся немного в другой системе координат (словно не от мира сего). В недавнем романе даже есть хорошо описывающая формулировка – «проклятие реальности». Кто-то посвящает жизнь служению и помощи людям (как, например, Арсений), кто-то – любимому делу, которое наполняет жизнь смыслом (Глеб Яновский из «Брисбена»). Но практически все пытаются от нее, этой самой реальности, сбежать. Не стали исключениями и два центральных персонажа нового романа: главный герой, который с головой уходит в дневники Чагина, и сам Чагин. Почему вы часто ставите в центр повествования именно таких героев? Это происходит случайно или целенаправленно?
Евгений Водолазкин: Разумеется, целенаправленно, потому что герой в русской терминологии имеет два значения: герой как некто, совершающий возвышенные или героические поступки, и герой как главное действующее лицо. Вообще любое повествование рассказывает о людях, некоторым образом, необычных. Это по-разному проявляется, но то, что они необычны – почти закон всякого повествования, начиная с самой глубокой древности. И это естественно, ведь какой смысл рассказывать о человеке, который сидит и ест бесконечный бутерброд на диване, смотрит телевизор – в этом нет ничего интересного. Это можно сделать интересным, если представить его в виде Обломова. Так что герой, как правило, является человеком необычным, и необычное проявляет какие-то стороны мира, его не очень известные закоулки, которых прежде мы особенно не видели. Поэтому мои герои имеют какую-то – я бы использовал термин Шемякина – деформацию.
У Шемякина и его коллеги, протоиерея Владимира Иванова, который был идеологом художественной группы «Петербург», куда входил Шемякин в 60-е годы, есть понятие «деформации»: она вроде бы делает образы необычными, но выявляет посредством этой необычности очень многие черты бытия человека. У меня действительно один герой с фантастической памятью (это Чагин), другой герой пробыл более 60-ти лет в заморозке, третий герой – Лавр – всю жизнь проводит как подвижник, помогая людям. И естественно, что такие люди не просто украшают мир, они его в какой-то степени держат. Потому что если бы все занимались поеданием бутербродов, то тогда не было бы ни «Моны Лизы», ни ракет, ничего остального. А вот в герое должна быть какая-то изюминка.
Я вспомнил, что византийская «Хроника Амартола» цитирует чье-то высказывание, очень красиво звучащее по-церковнославянски, что он [автор высказывания – ред.] описывал храбрых человек, дабы имя их не беспамятно было. Это показывает, что изображали не простых людей, а особенных, одаренных какими-то необычными качествами (например,какой-то невероятной смелостью), но, собственно, литература стоит на том, что описывает вещи выдающиеся и удивительные. Бывают исключения, но все же это так.
Константин Орищенко: И при этом храбрость – тоже такая архетипичная история. Качество, которое герой обретает в процессе своего становления. Если отталкиваться от знаменитой концепции «Тысячеликого героя», он проходит через темный лес, и именно там он должен обрести храбрость перед тем, как столкнется с драконом.
Евгений Водолазкин: Да, безусловно, это так. Храбрость – это преодоление, это не отсутствие страха, но умение его пересилить. Потому что страх – это естественное чувство для человека, это некоторый сигнал, который дает ему понять, что здесь он должен быть очень осторожен. Но в необходимых случаях человек преодолевает страх, и это как раз является храбростью.
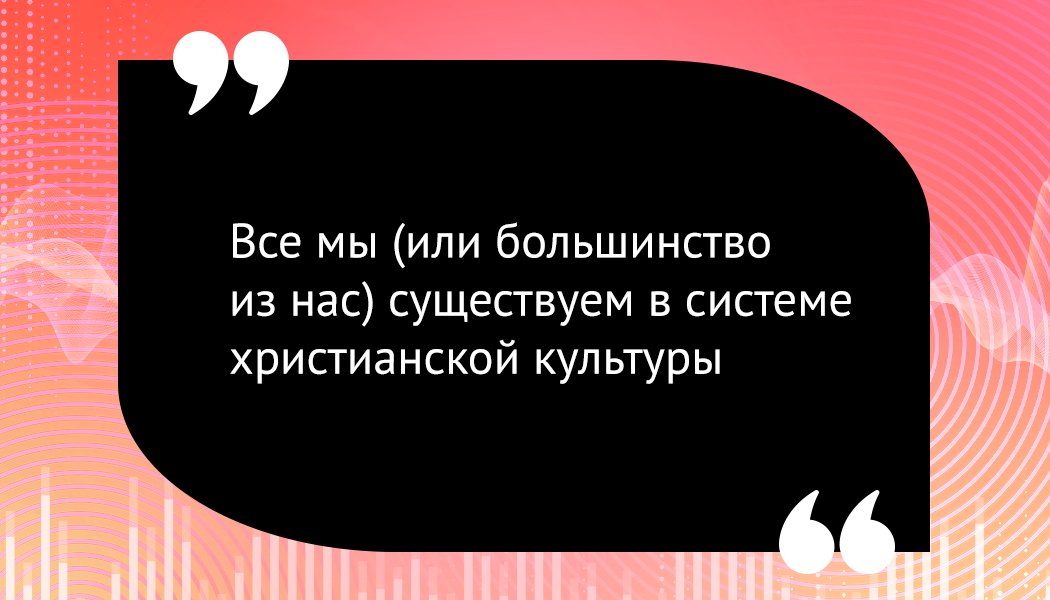
Константин Орищенко: В вашей «мультивселенной» практически во всех произведениях присутствуют христианские мотивы. Мы уже вкратце об этом говорили. Даже если рассматривать «Чагина», то там много моментов, которые могут быть отсылками к Ветхому и Новому Завету. Даже своеобразная сделка главного героя с двумя Николаями, которая по сути напоминает негласное соглашение с дьяволом или некое искушение, если возвращаться к теме первых людей – Адама и Евы. Кажется, в одном из моментов Чагин как раз делает схожее сравнение. Этот сюжетный ход тоже можно рассматривать как часть той экосистемы, о которой мы говорили выше? Это не просто какая-то фантастическая «мультивселенная», а «мультивселенная», которая основывается именно на христианских постулатах?
Евгений Водолазкин: Да, это как бы продолжение христианской вселенной, ее расширение, пусть очень умеренное и не всегда удачное, но расширение. Все мы (или большинство из нас) существуем в системе христианской культуры. Русская культура, в которой мы все выросли, – это культура христианская, и естественно, что в этих категориях мы и рассуждаем. Но тут дело не только в традициях. Те переклички, о которых мы говорили, размыкают нашу повседневность, показывают, что нечто подобное уже было и все уже описано в Библии. Причем гораздо лучше, чем в наших текстах. Это делает мир и изображение стереоскопическими. Если ограничиться только описанием современности (а таких текстов сколько угодно в литературе), то мир был бы плоским, как пятак. Мне такие тексты, такие писания неинтересны. Я хочу видеть любую подробность, любую чашку, любой цветок в 3D, и Библия дает это объемное изображение. Всякая отсылка к ней напоминает читателю, что это уже было. Было несколько иначе, но тем интереснее посмотреть на это нынешними глазами.
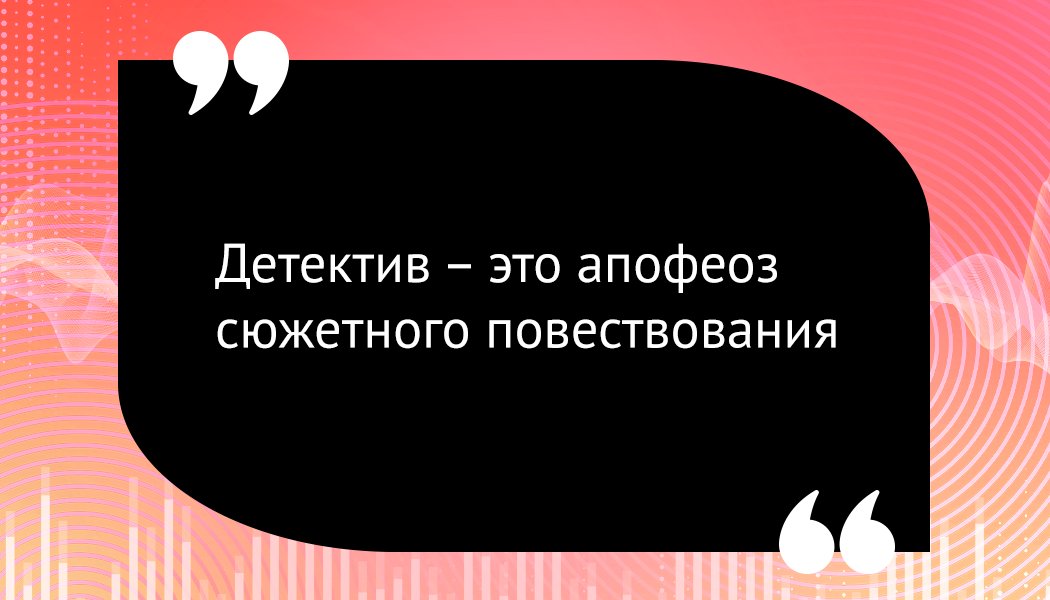
Константин Орищенко: В момент, когда главный герой начинает погружаться в различные тайны жизни Чагина, у меня создалось впечатление, что я читаю детектив. Причем на моей памяти ничего подобного у вас ранее не было. Какие-то отдельно взятые моменты присутствовали в том же «Авиаторе» (когда главный герой теряет память и восстанавливает ее по крупицам), но решение не выглядит жанровым. Просто интрига. Здесь же прослеживаются элементы остросюжетного жанра. Это тоже было намеренное желание с вашей стороны – создать ощущение детектива? Причем сама книга не заявлена как детективный роман, и, на моей памяти, у вас вообще ничего похожего не было. Но вот обратил на это внимание с самого начала.
Евгений Водолазкин: Да, совершенно верно. Знаете, я вообще люблю сюжетное повествование, я не люблю такого потока сознания (как писатель). Я считаю, что сюжет – четко выраженный – это очень важная вещь. А что касается остросюжетных элементов, то детектив – это апофеоз повествования, где от сюжета зависит почти все, в отличие от других жанров. И я эти элементы ввожу, чтобы повысить занимательность текста, усилить его притягательность для читателя, который должен стремиться переворачивать страницы, и что-то должно заставлять его это делать. Но в конечном счете оказывается, что те элементы детектива, которые выражены наиболее ярко в романе «Чагин» (это текст Николая Ивановича, сотрудника службы безопасности библиотеки), – это чистая выдумка Николая Ивановича. Но ведь это один из путей, по которому мог пойти Чагин, это альтернативная история. Несмотря на то, что человек невменяемый, в психоневрологическом диспансере, это иной вектор развития, который Чагин не выбрал. И вот совмещение задач по поддержанию интереса с задачами по более серьезным пунктам (например, рассмотрение феномена вымыслов в человеческой жизни) переплетаются.
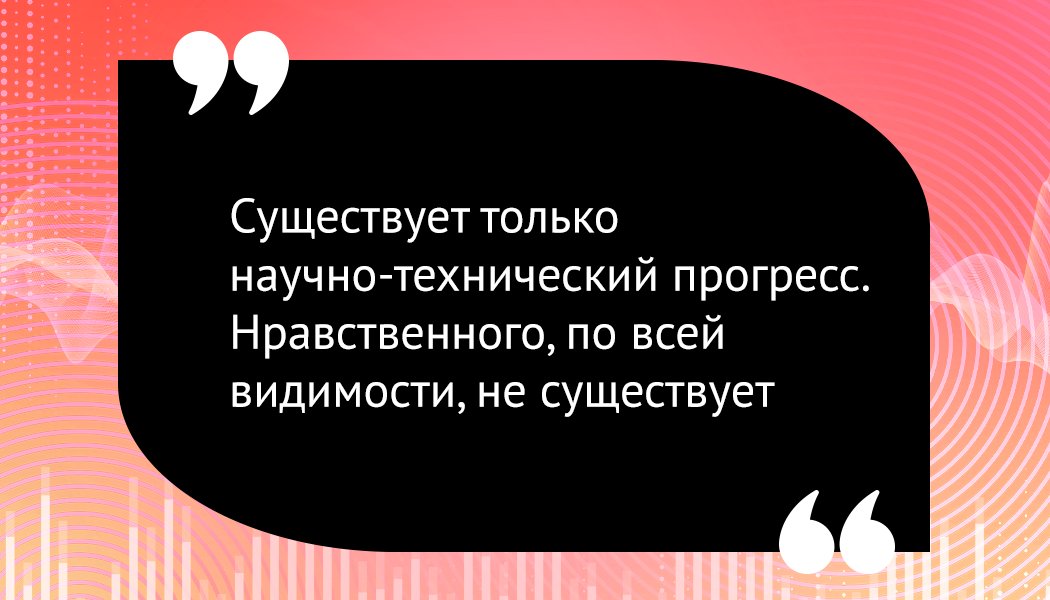
Константин Орищенко: В «Чагине», как и в «Лавре», читатель вновь переносится в Средневековье. Это вообще одна из ваших излюбленных тем, которую вы, как я понимаю, очень долго изучали на профессиональном уровне. Правда, если в «Лавре» действие в прямом смысле разворачивается в этой исторической эпохе, то сейчас вы, скорее, делаете к ней отсылку. Нравственный упадок, война (как в фоновом режиме, так и с теми, кто не согласен). Как думаете, нынешняя реальность тоже является таковой? Насколько далеко от Средневековья мы ушли, несмотря на научно-технический прогресс и все эти атрибуты современной цивилизации?
Евгений Водолазкин: Видите ли, существует только научно-технический прогресс. Нравственного, по всей видимости, не существует. И более того, не сказать, что нынешние люди умнее людей древних. Я думаю, что интеллектуальные способности примерно одинаковы. Существует технический прогресс, да. Об этом говорили множество выдающихся людей, в том числе Толстой, который считал, что прогресса духовного нет. Просто потому, что в немецкой культуре, у которой величайшая философия и литература, все это могло смениться убогой идеологией Третьего рейха и человеконенавистничеством, и весь замечательный немецкий романтизм вдруг схлопнулся и превратился в безумные выступления Гитлера. Это показывает, что такой линии на постоянное повышение нет. Каждое поколение порождает свои взлеты и свои падения. Это надо понимать.
Что касается конкретно Средневековья, то это не самая плохая эпоха была, я говорю это как человек, который много лет Средневековьем занимается. Оно в чем-то было гуманнее современности. Там убивали людей, мучили и было много проблем, но там не было идеи такого массового уничтожения людей, как это происходило в ХХ веке. И Средневековье несет на себе груз негативной оценки, а она вызвана просто тем, что победитель (каковым выступило Новое время) отлично вешает всех собак на предшественника и пытается быть красивым за счет некоего существующего контраста с ним. Так, Новое время совершенно безжалостно расправилось со Средневековьем, которое было ничуть не менее гуманным. Просто Новое время объявило гуманизм своей отличительной чертой. Новое время ведь явилось с утверждением, что «человек – мера всех вещей», но точно так же могло о себе сказать и Средневековье, только с одной поправкой, что эта мера дана Богом.
Константин Орищенко: Да, только при этом зачастую тот самый гуманизм, про который вы сейчас сказали, играет в Новом времени злую шутку. Об этом как раз пишет Пелевин в своих двух последних романах – Transhumanism Inc. и KGBT+. В новом романе Виктора Пелевина есть довольно любопытный момент, где главный герой оказывается в тюрьме и его соседями по камере становятся несколько известных классиков: Чехов, Толстой и еще парочка человек. Таким образом автор передал очередной привет всем критикам, которые записывают его в число живых классиков (называя наследником Антона Павловича, например). Многие критики часто причисляют и вас к этой категории. Какие чувства у вас это вызывает?
Евгений Водолазкин: Первое, что приходит в голову: «спасибо, что живой». В словосочетании «живой классик» для меня наиболее важная часть – живой. А что касается классиков, то все-таки всерьез это понятие соотносится с умершими писателями, мне кажется, писателю надо дать спокойно умереть, а потом уже разбираться, классик он или нет.
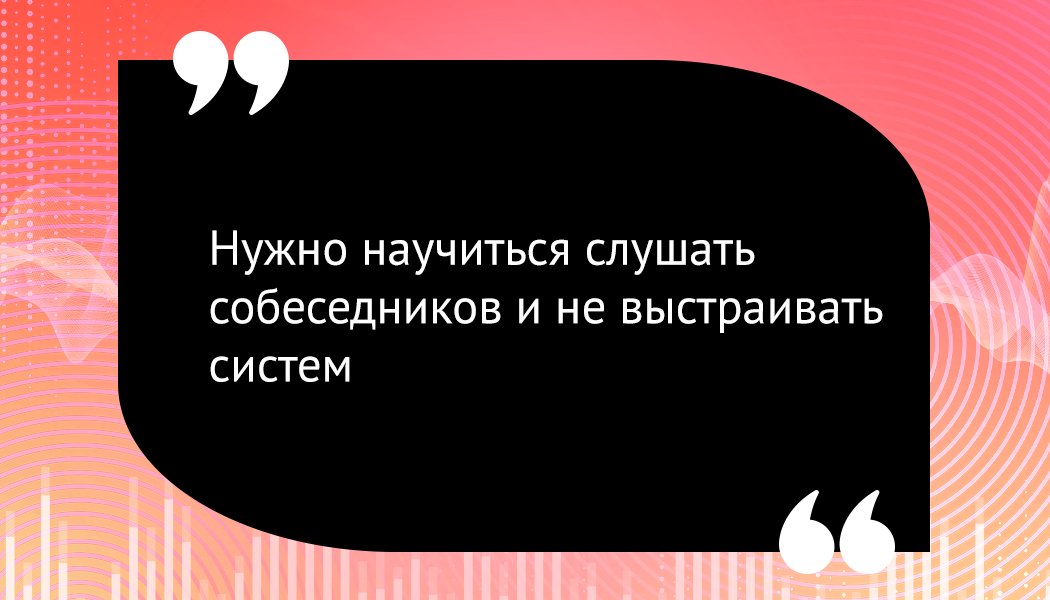
Константин Орищенко: Во время одной из бесед Чагина с его экс-преподавателем, Спицыным, в которой он довольно скептически отзывается о знаменитой марксистской формуле «бытие определяет сознание», из уст персонажа раздается яркая и в то же время провокационная фраза о том, как идеологическая взвешенность победила оригинальность, а надежность глупости предпочли блеску ума. Как считаете, это национальная трагедия СССР?
Евгений Водолазкин: Нет, я думаю, это общечеловеческая черта. Любая общественная система стремится выработать свою шкалу ценностей и потом ее защищать. Здесь, я думаю, обычная история: соответствие и толерантность к системе ценностей, принятой в том или ином обществе выше, чем оригинальность суждений или их уровень. Здесь уши просто закрываются «плотнейшим образом», и, когда человек ультралиберальных убеждений слышит слово «империя», он больше не слышит ничего. Он объявляет того, кто произнес это слово, ретроградом и всем остальным. Хотя на самом деле, если взглянуть на дело исторически, то империя – это один из наиболее оправдавших себя способов сосуществования народов. Другое дело, что и из этой формы государственного образования не надо творить кумира. У нее масса недостатков, но надо вспоминать и о достоинствах.
Империи часто создаются по некоторому согласию входящих в нее, пусть не всех, но многих. Только тогда империя эффективна. У нее есть свои большие недостатки, но они касаются не ее существования: империя страшна не когда она существует, а когда она разваливается. Вот тогда начинаются войны и кровь. Я этот пример привел просто потому, что существуют в каждой идеологической системе свои табуированные слова, и, когда человек произносит их, то его больше не слышат и объявляют маргиналом. Таких слов довольно много и в нашей идеологической системе, и в западной. Мне кажется, что нужно научиться слушать собеседников и не выстраивать систему. Существует же два параллельных ряда: табу и предписанные слова, но на самом деле надо пользоваться всеми словами. Допустим, у меня часто бывают беседы с западными людьми, и я вижу, как они спадают с лица, когда начинаешь говорить о вещах, там непринятых, не хватает какой-то толерантности в отношении собеседника – это крупный недостаток.
Константин Орищенко: Ну и, наверное, развивая мысль, о которой вы говорили в начале, империя страшна и в том случае, когда она заменяет в сердце человека какие-то вечные категории. То есть когда материальное вытесняет духовное. Когда империя, подобно горчичному зерну, прорастает, но не в той форме.
Евгений Водолазкин: Безусловно. Если, например, говорить о моем отношении к империи, то я абсолютно не являюсь сторонником империи любой ценой. И империя хороша тогда, когда является взаимным влечением народов. Ведь, собственно говоря, Российская империя отчасти такой и была. Что касается империи вообще, то существовали разные типы. Британская империя, которая была не очень гуманной. Я не пытаюсь идеализировать Российскую империю, но все-таки здесь ситуация была иной. Были другие отношения, и взгляд сверху вниз отсутствовал, или он имел место в гораздо меньшей степени, чем это было у англосаксов. Но я повторяю, что идея никогда не должна заслонять реальность и идеологизированные общества неустойчивы. Не могут все быть высоконравственными, верующими – это и не нужно. У человека всегда должен быть выбор, а если нет выбора, то его поведение – результат внешних сил. И при первом сильном ветре это все разлетается в щепки. Поэтому, пожалуй, правильной является та организация общества, которая предполагает за человеком свободный выбор, предоставляет ему возможность этого выбора, и нет ничего хуже, чем начинать строить все не вокруг разумных оснований, а на базе идеологических схем. Собственно, это происходило в советское время, когда все крутилось вокруг довольно, на мой взгляд, пошлой системы ценностей марксизма. И понятно, к чему мы пришли.
Константин Орищенко: К тому, что имеем. «Чагин» – очень поэтически ориентированный роман. Он начинается с цитаты из знаменитого стихотворения Бродского «Одиссей Телемаку» (очень люблю это стихотворение, одно из любимых у меня), а после отсылает читателя к отрывкам из «Илиады», Серебряному веку и даже собственным стихотворениям главного героя. Если бы вы могли порекомендовать читателям, какие стихотворения стоит прочитать для большего погружения в атмосферу вашей книги, то какие авторы оказались бы в списке?
Евгений Водолазкин: Неожиданный немножко вопрос, но хороший. Бродского я бы посоветовал почитать, не только «Одиссей Телемаку», но, допустим, «Послание к Постуму» – это замечательное стихотворение.
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Вот античные мотивы у Бродского очень здорово отражены, советую прочитать. Собственно, рекомендованная литература помещена в самом романе. На мой взгляд, замечательное стихотворение Виктора Шнейдера «О Шлимане». Это поэт, который писал разного уровня стихи, далеко не все они удачны. Это мне кажется совершенно гениальным, не столько о Шлимане, сколько о феномене вымысла, который на самом деле не такой уж вымысел, как можно подумать.
Константин Орищенко: А какие песни порекомендовали бы в качестве фонового сопровождения, если бы была возможность составить музыкальный плейлист для читателей? Интересно узнать ваше видение как автора. Была ли в вашей голове какая-то музыка, когда вы мысленно переносились в ту эпоху, которую описывали?
Евгений Водолазкин: Запросто. Например, Гребенщиков мог присутствовать, ну скажем песня:
Ехали мы, ехали с горки на горку,
Да потеряли ось от колеса.
Вышли мы вприсядку, мундиры в оборку...
Это из «Русского альбома». Одна из моих любимых песен Гребенщикова, вот она по настроению очень соответствует. Мне нравится интонация Гребенщикова, пожалуй, я мог бы его посоветовать. Мог бы еще целый список авторов предъявить, но все-таки в основном это был бы Гребенщиков.
Константин Орищенко: Видели ли вы сценарий братьев Пресняковых по «Авиатору»? Какие впечатления? Что ждете от экранизации?
Евгений Водолазкин: Видел, и более того – я с ними работал, мы его совместно создавали. Это было большой радостью – работать с ними. Они очень умные и обаятельные люди. Мы сделали, закончили... Точнее получилось так, что я дополнял и заканчивал сценарий, который нам показался приемлемым, и, на мой взгляд, вполне достойным. Но изменилось время: он был закончен в прошлом году еще – и очень многое изменилось и в кинопроизводстве, и в том, что нужно писать, в понимании, что актуально сейчас в кино.
В конце концов продюсерская группа при моей поддержке решила все-таки написать новый сценарий, который будет даже ближе к роману, чем предыдущий. Над ним предложили работать Юрию Николаевичу Арабову – великому сценаристу. И меня очень радует, что он согласился. Он пишет вместе со своим учеником – Олегом Сироткиным, и то, что они делают, мне кажется весьма достойным, и у меня есть надежда, что этот сценарий будет закончен и это будет именно то, что нужно. Пока выполнен подробный план, страниц на сорок, где расписываются эпизоды. Это то, что предшествует сценарию, который будет создан с росписью всех деталей, я думаю, до конца года.

Константин Орищенко: А можете, пожалуйста, рассказать о книгах, которые повлияли на вас как на автора? Вот прямо выделить самые важные, если, конечно, это возможно.
Евгений Водолазкин: Я думаю, что все повлияли, потому что влияние бывает разное, положительное и отрицательное. И даже те книги, которые мне показались из категории «не очень», сыграли свою роль, потому что я раз и навсегда понял, как не нужно писать. Но в положительном смысле я буду здесь банален, ничего нового не скажу. Разумеется, это русская классика, это европейская классика, которую я очень любил с детства. Например, между 10 и 12 годами я прочитал все собрание сочинений Диккенса, которого я бесконечно любил. Сейчас, наверное, мне было бы его читать неинтересно, но когда-то я на Диккенсе вырос.
Замечательная французская литература на меня влияла, немецкая – я очень любил Гофмана и до сих пор люблю, но это такая любовь, когда уже читать не будешь, а воспоминание теплое.
Вообще я очень мало перечитываю. Не знаю почему. Хотя считаю это полезным занятием. В основном я сейчас все-таки читаю современную литературу, хотя бы потому, что являюсь членом жюри премии «Ясная Поляна» и нам приходится знакомиться примерно со 150-ю романами в год. Это во многом исключает любое другое чтение, но какие-то вершины успеваю. Ну конечно, это «Робинзон Крузо», куда же без него. Следом «Капитанская дочка» (перечисляю немного бессистемно, просто по мере вспоминания).
Это, пожалуй, весь Гоголь. Это «Братья Карамазовы», «Война и мир». Я повторюсь, что сильно банален, но, знаете, прописные истины не перестают быть истинами. Оттого что какие-то тексты стали культовыми, они не перестают быть просто хорошими текстами. Пруст, Набоков, конечно же, Бунин – это то, что я могу читать с любого места. Томас Манн. Прежде всего «Волшебная гора» – потрясающая вещь. Может быть, тема времени привита мне именно Томасом Манном, который виртуозно владеет художественным временем, и я даже не понимаю, как так хорошо можно это сделать.
Я очень люблю Искандера, мне с ним посчастливилось даже познакомиться в свое время. Многие вещи Владимира Шарова, недавно ушедшего, мы с ним дружили. Мои современники на меня тоже влияют, не только классика. Это наводит на мысли, которым я до этого не придавал большого значения. И вот как раз через современные тексты понимаешь, что волнует других, и сопоставляешь это со своими оценками, очень помогает. Какие-то тексты я, наверное, забыл, но, по крайней мере, то, что я назвал, показывает довольно большой разброс от одного типа текста к другим. Это естественно, потому что странно любить только один тип текстов, это сужает. Мне кажется, что надо быть открытым к разного рода литературе и только такое отношение позволяет делать самому что-то более-менее состоятельное.
Константин Орищенко: Да, список у вас действительно получился довольно увесистый. Но мне на самом деле было бы очень интересно (как и нашим читателям) услышать персональные рекомендации современных и зарубежных авторов от вас, как от человека, который является одним из членов жюри.
Евгений Водолазкин: Я это определю, скорее, как свои симпатии, чем как что-то, что я советую всем читать. Из иностранных писателей мне очень нравится Барнс, мы даже с ним общались когда-то. Нравится Уэльбек, некоторые его работы. Хотя есть у него вещи, которые, на мой взгляд, написаны несколько небрежно. Нравится Исигуро, Молина, это классик испанской современной литературы, у него замечательный роман «Зима в Лиссабоне». Еще бы назвал Льосу, ему даже дали премию Яснополянскую в номинации «Иностранная литература». Разумеется, очень сильный писатель Орхан Памук.
У меня обычно проблемы со списками: кто-то вылетает, и я потом думаю, как же не назвал его. Пока перейду к современным. Это довольно большой список. Из ныне живущих: это Алексей Варламов, у которого есть потрясающая повесть «Рождение», она в свое время на меня огромное впечатление произвела. Ну и его романы прекрасные, такие как «Душа моя Павел», который недавно был инсценирован.
«Дети мои» Гузель Яхиной – удивительное виденье, эта игра с мифологией мне близка и интересна. Григорий Служитель, который написал пока один роман «Дни Савелия», но я надеюсь, что он продолжит. Я думаю, что у него получится, он очень талантливый человек.
Конечно, это Леонид Юзефович, мне нравятся все его романы (как и все тексты тех, о ком я говорю). Мой любимый его роман – это «Самодержец пустыни»: очень сильная вещь, удивительно сильная, где ритм прозы формируется ритмом истории. Кстати, отчасти этот роман похож – по внутренним качествам, не по содержанию – на «Зимнюю дорогу», тоже очень сильный.
Я бы назвал последний роман Данилова «Саша, привет!» – его премировали в номинации «Современная русская литература», дали ему Яснополянскую премию.
Кого-то я точно забыл. Я не говорю, что это вещи, которые составляют какой-то образцовый список, я только о личном восприятии, о том, что мне это близко. Мне нравится «Метель» Сорокина – это удивительное сочетание традиции и новаторства. Да, я бы поставил «и т. д.», потому что я сейчас могу долго говорить об этих вещах и список разрастется до невероятных размеров. Ну вот, пожалуй, свои самые любимые вещи я назвал. Если я припомню по ходу пьесы что-нибудь, то я скажу.
Константин Орищенко: Я думаю, что список действительно получился очень содержательным и полезным для наших читателей. От себя могу сказать, что один из последних романов Уэльбека «Серотонин» – я как раз читал его в прошлом году – прямо цепляет. Хотя я, если честно, думал, что он будет более мрачным. Когда я начинал его читать, мне показалось, что это какая-то более современная версия «Тошноты» Сартра, но потом все-таки мое виденье немного поменялось, и роман показался мне более кинематографичным, особенно одна из заключительных сцен, где начинается перестрелка. Если читали, то сразу поймете, о чем я.
Евгений Водолазкин: Да. Кстати, я сейчас вспомнил одного писателя, который мне в свое время очень понравился. Это Даниэль Кельман. Пожалуй, я бы выделил только его роман «Измеряя мир». Я бы перевел его как «Измерение мира», но у нас вот в таком переводе. По-немецки это Die Vermessung der Welt. Очень мощный писатель, но у него после этого романа как-то немного не получилось держать такую высокую планку. Он ее устанавливал, но каждый раз сбивал.
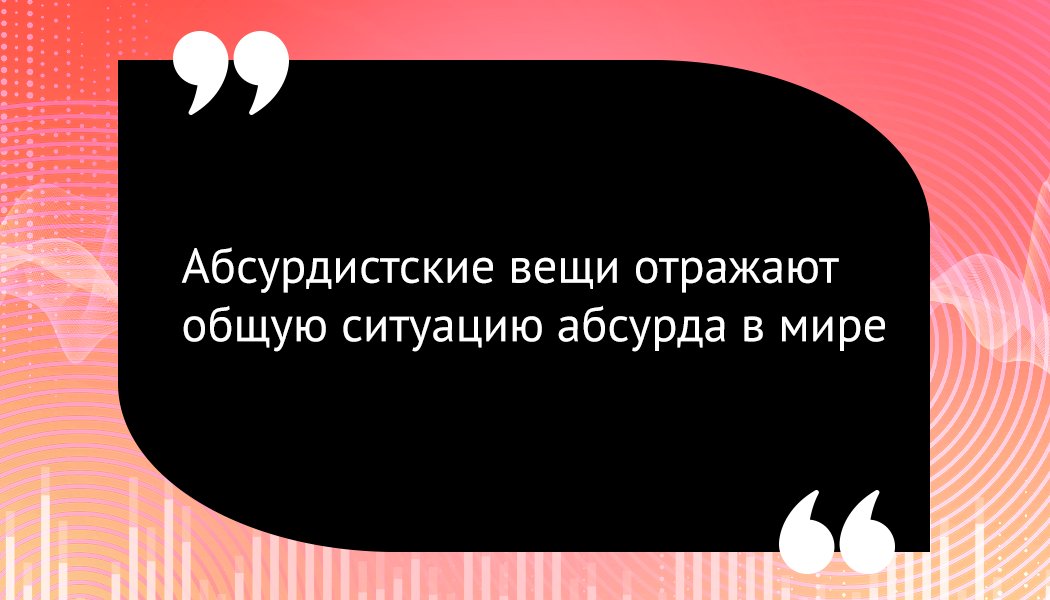
Константин Орищенко: На чьей стороне вы как филолог в заочном конфликте Дмитрия Данилова и Михаила Гиголашвили (роман «Кока» – самый известный у него вроде). Гиголашвили написал в Фейсбуке, что Данилов «графоман, не имеющий понятия о том, что такое художественная лексика». Данилова называют минималистом. Взаимоисключают ли друг друга, по вашему мнению, минимализм и, цитируя Гиголашвили, «художественная лексика»?
Евгений Водолазкин: Ну я впервые слышу об этом конфликте просто потому, что я не вхожу ни в какие «сети», но я хорошо очень знаю и Мишу Гиголашвили, и Диму Данилова, у нас очень хорошие отношения и с тем, и с другим. Я не берусь быть ни в коем случае судьей между ними, полемизировать. Я просто скажу, что роман Димы очень хорош прежде всего тем, что он в действительности с той долей абсурда, которая при восприятии современного мира необходима. Там совершенно фантастическая ситуация: человека осуждают, все об этом говорят в будничных таких выражениях, в достаточно спокойном тоне. И выясняется, что человек, которого еще не казнили, уже вычеркнут из всех списков, из всех жизней, из всех отношений, и происходит из ряда вон выходящее, при этом лексика остается обычной. То есть этот эффект, когда совершенно фантасмагорическое действие передается в традиционных выражениях, мне кажется, это основное достоинство романа Данилова. Кстати говоря, среди любимых писателей я назвал бы и Гиголашвили. Мне очень понравился его роман «Чертово колесо». Очень мощный, мрачноватый слегка, но хорошо написанный. Гиголашвили – очень хороший писатель.
Вот я услышал об этой коллизии, и она меня несколько удивила, потому что я думаю, что вообще писателям, может быть, не стоит ругать писателей. Это дело критиков, и надо предоставить здесь права им, это их хлеб. Мне кажется, что если писателю не нравится текст коллеги, то лучший ответ – это написать свой текст, который будет вполне хорош. Но это не совет кому-то, а моя собственная позиция. Я почти никогда не ругаю своих коллег, потому что если относиться к их текстам с любовью (а именно так нужно относиться ко всему), то в каждом из них можно найти что-то достойное, что отличает этого конкретного писателя от других. Тем более что у нас сейчас такое количество критиков, причем довольно странных, которые только ругают. Причем последовательно: они вообще никого не хвалят и только всех ругают. В этом есть что-то забавное, какая-то изюминка, но строить свою карьеру только на обругивании других, мне кажется, скучно. Я призываю их для разнообразия кого-то похвалить.
Константин Орищенко: Да, я с вами абсолютно согласен. Если же возвращаться к книге «Саша, привет!», то, кажется, она оказалась очень созвучной окружающей нас реальности. Прямо как пулемет, который описывается там, на который нельзя не обратить внимания.
Евгений Водолазкин: Да, причем эта книга, мне кажется, демонстрирует сильную сторону творчества Данилова, ведь он прекрасный драматург, помимо всего прочего. Эта книга напоминает киносценарий или пьесу, это добавляет ей какого-то драйва. Кроме того, я уже об этом сказал, ведь неслучайно такие книги появляются. Неслучайно появился в свое время Зощенко, Хармс, ведь абсурдистские вещи отражают общую ситуацию в мире. Он стал совершенно абсурдным, а что такое абсурд? Это выход за пределы традиций, выход за пределы конвенций, которые с таким трудом были установлены. Сейчас происходят вещи и у нас, и на Западе, о которых и помыслить не могли еще 10–15 лет назад. И, на мой взгляд, книга Данилова очень хорошо эту ситуацию отражает.
Константин Орищенко: Помните строки Бродского из одного его стихотворения:
Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
Будут твои глаза».
Как вы думаете, абсурд – если рассматривать его в каком-то глобальном смысле – все-таки близок к Танатосу? То есть это все-таки соприкосновение со смертью? Вот эта вот бессмысленность человеческой жизни.
Евгений Водолазкин: Ну абсурд... Танатос, его и с Эросом сопоставляют, но, мне кажется, правильнее с абсурдом сопоставить. Потому что прекращение человеческой жизни часто связано с распадом мысли, логики. Потому что там, где распадается или уничтожается логика, разрушается нравственная сторона дела, там жизнь достаточно быстро прекращается. Если взять то, с чего мы начали – библейское измерение, – вы посмотрите, первые люди (праотцы) жили весьма долго. Адам жил 930 лет. Почему? Потому что эти люди еще видели райскую вневременность, они еще не успели отвыкнуть от вечности, а потом сокращается постепенно время жизни людей и прежде всего за счет того, что люди стали хуже в определенном смысле. И вот эти все неприятности, которые происходят с людьми, когда они начинают интриговать, убивать друг друга, браниться, ведут к сокращению жизни. И мне кажется, что наступающая ныне, если можно так сказать, – эпоха абсурда (не все превратилось в царство абсурда, но элементы его значительны и очень ощутимы во всем мире).
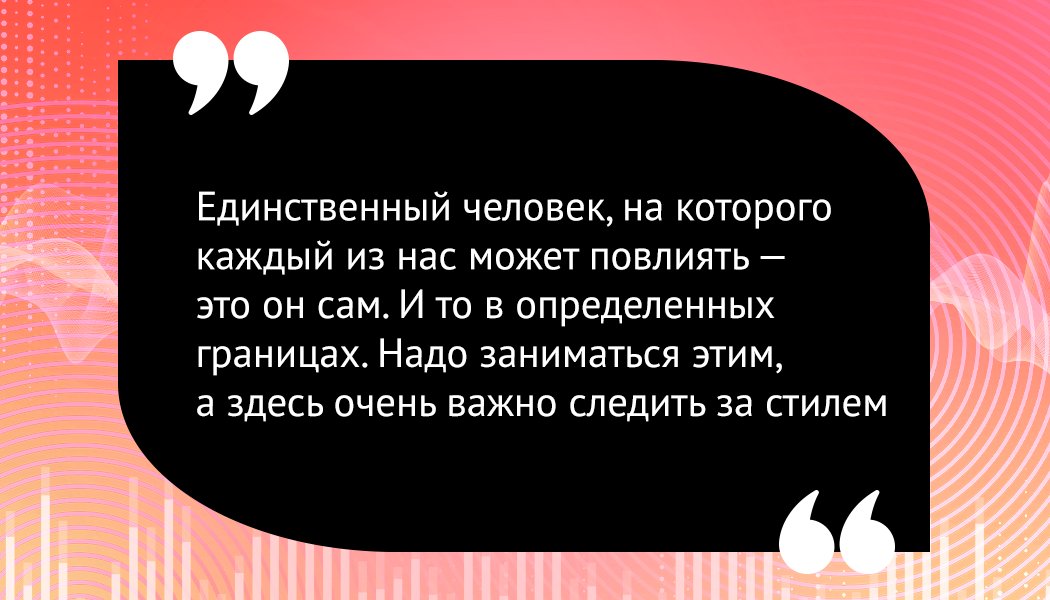
Константин Орищенко: Как думаете, Евгений, если вернуться к мысли о нравственном упадке, который мы обсуждали в середине сегодняшней беседы, то как человеку спастись от этого абсурда, не допустить, чтобы он разросся до невероятных масштабов, ударил по человеческой душе, и сохранить в себе человека?
Евгений Водолазкин: Я думаю, что нужно следить за собой. Каждому – следить за собой. Отказаться от искушения исправлять человечество. Эта задача невозможная, утопическая, а утопии чрезвычайно вредны. Они дезориентируют и порождают агрессию в конечном счете прежде всего тем, что они невыполнимы, а их очень хочется реализовать.
Константин Орищенко: А антиутопия?
Евгений Водолазкин: А антиутопия это уже результат невыполнения утопии. И единственный человек, на которого каждый из нас может повлиять – это он сам. И то в определенных границах. Надо заниматься этим, а здесь очень важно следить за стилем. Потому что стиль – это не просто упаковка, в которой существует тот или иной индивид. Человек вырабатывает стиль на основании своих внутренних качеств, и стиль, в свою очередь, на эти внутренние качества оказывает влияние. Так вот, в эпоху, когда наступает некоторое «разжижение» смыслов, энтропия, мне кажется, важно соблюдать внутреннюю собранность. А в стиле это проявляется в первую очередь в том, как человек на фоне всеобщего крика и истерики продолжает говорить тихим голосом. И это только кажется, что его не слышно, на самом деле, когда все кричат, прислушиваться начинаешь к тихому голосу, и в этой ситуации я вспоминаю рекомендацию одного чеховского героя из «Вишневого сада». Он говорит: «... позволь мне дать один совет: не размахивай руками!». Вот мне кажется, что, когда все машут руками, надо воздержаться от этого жеста, и это дает надежду на относительно благополучный исход.
Константин Орищенко: То есть спокойствие и внутренняя тишина. И, конечно же, вера, надежда, любовь.
Евгений Водолазкин: Я бы вообще, чтобы подбодрить участников нынешнего процесса, цитировал постоянно Карлсона, который говорил, что главное – спокойствие. «Спокойствие и только спокойствие». И мне кажется, что в спокойном состоянии у человека гораздо больше шансов сохраниться, чем в попытке почувствовать меру в мире, который сейчас переходит на верхнее Фа. Все друг от друга отругиваются и ведут себя довольно странно.
Константин Орищенко: Кстати, я обратил внимание, что упоминание стиля для вас очень-очень важно. Это уже как некая философия жизни, потому что в многочисленных интервью вы упоминали о нем, и мне сразу же вспомнилось стихотворение Чарльза Буковски про стиль. Тоже вот недавно я упоминал его в одной из наших редакторских колонок в журнале. Не знаю, читали ли вы его или нет.
Евгений Водолазкин: Вы знаете, я очень мало бываю в Интернете. Хотя вот недавно был разговор о том, что мне надо бы завести Телеграм, и там я смогу найти много полезного. Постараюсь это сделать.
Константин Орищенко: Да, вот у Чарльза Буковски просто были такие строки, и мне кажется, что они очень созвучны тому, о чем вы говорили пару минут назад. Я прямо дословно процитирую:
Стиль – это ответ на все.
Свежий подход ко скучному или опасному дню.
Лучше скучное дело сделать со стилем,
Чем опасное дело без стиля.
А если опасное дело делать со стилем – это, по-моему, будет искусство.
Бой быков может быть искусством.
Бокс может быть искусством.
Любовь может быть искусством.
Открытие банки сардин может быть искусством.
Немногие имеют свой стиль.
Немногие сохраняют свой стиль.
Я видел собак, более стильных, чем люди.
Вообще стильных собак немного.
А вот у кошек стиля с избытком...
Евгений Водолазкин: У кошек стиля?
Константин Орищенко: С избытком.
Евгений Водолазкин: С избытком. Да, кошки – это животные, которые мне очень нравятся. Кстати, прекрасное стихотворение, оно совершенно верно. Ведь что такое стиль? Стиль – это прежде всего структура, это определенные принципы, которым человек следует, а отсутствие стиля – это некоторое размывание вообще всего. Вот наличие и отсутствие стиля я бы уподобил проявлению гармонии и хаоса, их противостоянию. Или если брать другую терминологию, то хаоса и космоса. Космос – это упорядоченность и красота, а хаос – это отсутствие прежде всего стиля, структуры, принципов. Вот это отсутствие всяких тормозов, всякого чувства меры, красоты и есть отсутствие стиля и хаос. Хаос стремится к космосу, поэтому я очень люблю писать выраженным стилем.
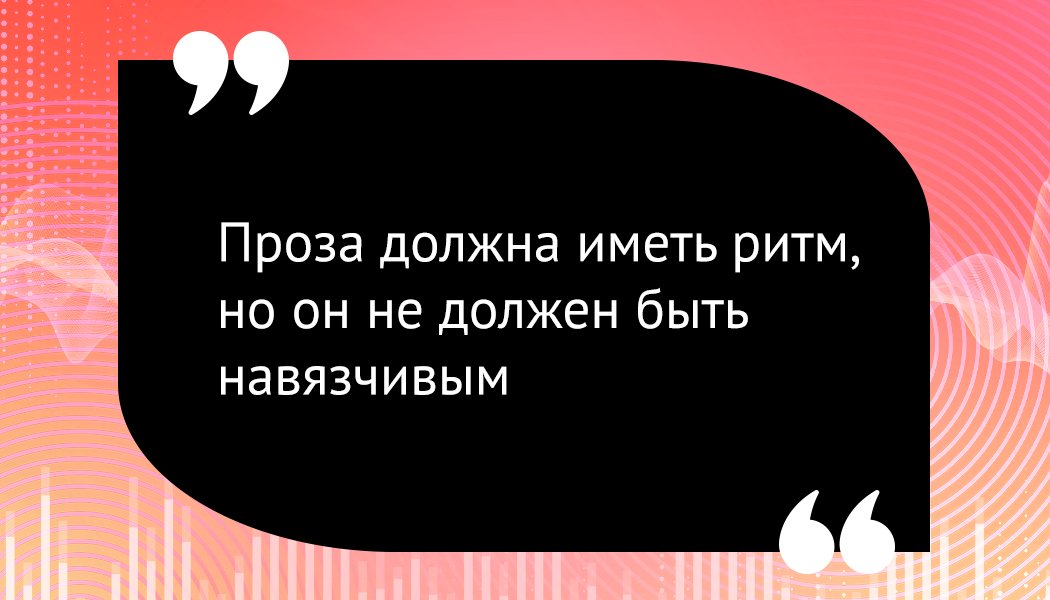
Константин Орищенко: А как бы вы охарактеризовали свой стиль? То есть это и есть стремление к этому самому космосу, о котором вы сейчас сказали, или, может быть, есть еще какие-то важные детали?
Евгений Водолазкин: Да, безусловно это стремление к космосу, но тут очень опасный момент. Стиль не должен быть самодовлеющим. Он не должен быть стилем ради стиля. Вот, например, как-то беседовали с покойным Владимиром Шаровым о стиле, в частности о ритме прозы. Проза должна иметь ритм, но он не должен быть навязчивым, слишком музыкальным. Допустим, мы сошлись на том, что оба не любим ритмическую прозу. Я, например, не люблю «Петербург» Белого: ритм должен быть, но внутренним, деликатным. Лихачев любил этот пример: он говорил, что английские аристократы никогда очень красиво не одеваются, так одеваются нувориши, очень ярко и вызывающе, а настоящий аристократ вроде бы неброско, но ты понимаешь, что там каждая пуговица на единственно возможном месте. Стиль состоит среди прочего в его неброскости. Мне нравится литературный аристократизм. Набоков, которого я люблю, уже переступает за эту меру и становится немного избыточным, но он все равно прекрасен. На мой взгляд, более глубокий и прекрасный стиль у Бунина, если говорить о набоковском времени, это его такой друг-соперник. Гораздо более соперник, чем друг, потому что то, что было между ними, все-таки дружбой назвать нельзя.
Ведь чем удивителен Бунин? Это такой традиционалист-традиционалист, и казалось, что это путь тупиковый. Так представлялось в начале ХХ века, а Бунин шел так, будто никаких перемен в стиле и современной литературе вообще нет. Но на этом пути он, на мой взгляд, продвинулся дальше всех и достиг наивысших результатов. Абсолютная простота и абсолютная точность слов: у Бунина каждое слово на месте, и оказаться не там оно просто не может, и другое слово тут просто невозможно. Вот в нем удивительный мощнейший стиль, но без пижонства. И этим нам дорог Бунин. Знаете, у Маркеса описывается парикмахер, который стрижет клиента и продолжает делать это движение – стричь – по инерции, даже отводя руку от головы. И у Маркеса это очень хорошо выражено фразой «продолжал стричь воздух от избытка мастерства». И вот этого избытка не нужно. Настоящий мастер может обойтись и без этого.
Константин Орищенко: То есть везде должен присутствовать какой-то здравый минимализм, о котором вы говорили на примере английских аристократов?
Евгений Водолазкин: Не минимализм, просто мера, потому что любая вещь или явление, доведенное до своего логического конца, выглядит карикатурно. Истина редко лежит на полюсах, она почти всегда посередине.