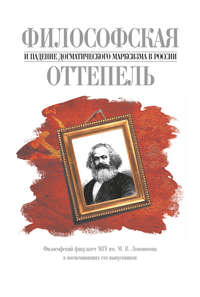Kitobni o'qish: «Философская оттепель и падение догматического марксизма в России. Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в воспоминаниях его выпускников»
© В. П. Шестаков, составление, общая редакция и предисловие, 2017
© Издательство «Нестор-История», издательская подготовка, 2017
Предисловие
Эта книга выходит в свет к 75-летнему юбилею философского факультета Московского университета имени М. В. Ломоносова. Философский факультет возник с самого начала основания университета в 1755 году. Но его судьба была не слишком счастлива, существование факультета постоянно прерывалось. Поэтому реальной датой возникновения факультета считается его воссоздание 25 декабря 1941 года в Ашхабаде, куда был эвакуирован университет на время войны. Здесь были основаны на базе МИФЛИ кафедра и факультет философии, которые существуют и по настоящее время.
Однако написание этой книги было продиктовано не столько счастливым событием юбилея. Этому способствовали и другие события в отечественной философии. Начиная с нового XXI столетия в России появилась обильная мемуарная литература о философах и философских учреждениях. Возникла настоятельная потребность осмыслить и оценить роль философии в советский период существования нашей страны. Можно сослаться на десяток книг, изданных в это время. Большой вклад в изучение философского наследия внес Б. В. Бирюков, издавший три чрезвычайно информативных тома под общим заголовком «Трудные времена философии» (2006, 2008, 2009). Содержательная и аналитическая книга принадлежит Н. В. Мотрошиловой – «Отечественная философия 50–80 годов ХХ века и западная мысль» (М., 2012, 2-е издание в 2016). Один из старейших преподавателей философского факультета В. В. Соколов издал прекрасную книгу «Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России. Воспоминания и мысли запоздалого современника» (М., 2014). Изданы также воспоминания о выдающихся философах середины ХХ в.: В. Ф. Асмусе, А. Ф. Лосеве, Э. В. Ильенкове, А. С. Зиновьеве, М. К. Мамардашвили. Замечательное документальное издание подготовил коллектив авторов во главе с Еленой Иллеш «Эвальд Ильенков, Валентин Коровиков. Страсти по тезисам о предмете философии. 1954–55». (М., 2016). Под редакцией В. А. Лекторского опубликованы 22 тома «Философия России второй половины XX века».
Среди этой литературы надо выделить две монументальные книги: «Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова: страницы истории» (Издательство МГУ, 2011) и «Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН» (Прогресс-Традиция, 2009). Это содержательные и значительные книги. В первой описывается история философского факультета и рассказывается обо всех его деканах, во второй повествуется об истории Института философии и биографиях всех его директоров. Иными словами, в этих трудах рассказывается о руководителях, точнее сказать, генералах философского фронта. Но, как известно, войны выигрывают генералы, но в окопах воюют солдаты. Отдавая должное двум этим книгам, приходится констатировать, что в них еще не прозвучал голос студенчества, тех, кто учился и преподавал на философском факультете в те времена, когда в философии произошли коренные перемены. Следует сказать, что в середине прошлого века именно студенты поддержали те революционные процессы, которые происходили на факультете и привели к крушению догматической марксистско-ленинской идеологии. Поэтому цель настоящей книги – дать возможность рассказать о философском факультете не только тем, кто им руководил, но и тем, кто на нем учился.
Главный акцент в данной книге делается на период 50–60-х гг. прошлого столетия, когда в условиях начинавшейся перестройки произошел резкий поворот от традиционного марксизма-ленинизма к новому философскому мышлению. В послевоенный период на факультет пришли многие участники войны, они побывали в других странах и познакомились с традициями европейской культуры, от которой СССР был оторван в течение многих десятилетий. Смерть И. В. Сталина и начинавшаяся оттепель стимулировали новый интерес к западной философии и пересмотр традиций отечественной философской мысли. Старшее поколение, пришедшее с фронта, поддержала молодая генерация студентов, которые попали на философский факультет прямо из школы. Это было замечательное время, время творческих открытий, свободных дискуссий, общения студентов с молодыми преподавателями. На факультете начали работать тематические кружки, издавался никем не цензурированный журнал научного студенческого общества (НСО), в котором печатались работы студентов, рецензии на книги, философские новости, в частности переписка с венгерским философом Георгом Лукачем и т. д.
Во главе революционного, по сути дела, преобразования философии встали два молодых преподавателя, оба бывшие фронтовики: Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Оба они выступили в одно и то же время, оба исследовали одну и ту же проблематику, основанную на изучении методологических проблем в «Капитале» Маркса. Как справедливо пишет В. А. Лекторский, «оглядываясь назад, я особенно ясно представляю себе революционную роль для нашей философии того, что Ильенков и Зиновьев сделали в середине и второй половине 50-х гг. Дело не только в том, что они были родоначальниками интересных школ в определенной области философии. Их идеи и программы означали принципиальный рубеж, новую точку отсчета в развитии нашей философии в целом. Так же, как делим немецкую философию на докантовскую и послекантовскую, а русскую литературу на допушкинскую и догоголевскую и послепушкинскую и послегоголевскую, так же мы можем делить советскую философию послевоенного времени на доильенковскую и дозиновьевскую и послеильенковскую и послезиновьевскую. Работы Ильенкова и Зиновьева означали создание совершенно новой ситуации в нашей философии, задание новой проблематики. Это было как бы открытием нового мира. И новых, по-настоящему философских методов исследования. Те, кто работал в нашей философии после них, сколь далеко ни расходились их идеи между собой и сколь сильно бы они ни отходили в некоторых пунктах от идей своих учителей, были бы невозможны без Ильенкова и Зиновьева»1.
Мы, студенты философского факультета, воспринимали Ильенкова и Зиновьева как двух равноправных и равнозначных по авторитету и знаниям учителей. На факультете не было никакой борьбы между «ильенковцами» или «зиновьевцами». Эта борьба появилась, по-видимому, гораздо позже, когда стали спорить, кому принадлежит право первенства в решении методологических проблем, кто оказался наиболее влиятельным в философской среде и т. д.
На мой взгляд, каждый внес свой адекватный вклад в постановку и решение абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. Некоторые считают, что Зиновьев раньше, чем Ильенков, подошел к этой проблеме, и поэтому ему принадлежит пальма первенства. Но если говорить о силе и широте влияния, то, несомненно, Ильенков оказал большее влияние на молодых последователей, поскольку как преподаватель он был ближе к массе студентов, чем Зиновьев. Оба они решали одну проблему, но подходили к ней с разных сторон. Впрочем, А. Зиновьев сам довольно четко определил разницу в этих подходах. Он говорил, что исходил прежде всего из логических принципов, чтобы «вычленить логическую структуру “Капитала”», а Ильенков подходил к проблеме с историко-философских позиций. Иными словами, один – как логик, другой – как философ. Конечно, при этом сказалась и разница в темпераментах. Зиновьев выступал как борец, как воин, атакующий банальность и догматичность, Ильенков был учителем, наставником2.
Впервые к преподаванию на философском факультете были допущены философы старой школы, получившие образование в дореволюционное время. Среди них следует выделить Алексея Федоровича Лосева и Валентина Фердинандовича Асмуса. Правда, Лосев пробыл на факультете всего несколько месяцев и затем был уволен за преподавание идеализма. Ему пришлось заниматься классической филологией и преподавать античную литературу. Возвращение Лосева в философию произошло только после того, как сотрудники «Философской энциклопедии» привлекли его к написанию статей на философские темы. До этого большинство молодых студентов-философов долгое время даже не знали имени и работ Лосева.
В. Ф. Асмус преподавал на факультете около десяти лет, пока он не перешел в Институт философии, поэтому общение с ним и воспоминания о нем были более частыми. Некоторые студенты посещали его московскую квартиру и его загородный дом в Переделкино. Похороны Асмуса стали событием исторического масштаба, о них вспоминают так же, как вспоминают похороны Бориса Пастернака, на которых Асмус выступил с прощальной речью. Сегодня творческое наследие Асмуса издается и переиздается. В 2015 г. издательство URSS с помощью и при поддержке сыновей Асмуса опубликовало семь томов собрания сочинений философа.
Философское наследие, накопленное в стенах философского факультета, нуждается не только в собирании, но и в защите. Сегодня становятся модными нападки на 60-е гг. Так, политолог А. С. Ципко, который сам, как ни странно, окончил философский факультет, где прилежно изучал марксизм, в сегодняшних экономических и идеологических трудностях обвиняет интеллигенцию, в частности философов того времени. В статье «Перестроить страну по китайскому пути нам помешала интеллигенция» он, обвиняя Горбачева, пишет: «Будущий генсек оказался в одной компании с друзьями Раисы Максимовны – Левадой, Грушиным, Мамардашвили. Они жили на Стромынке, и бывший комбайнер Горбачев приходил к ним, сидел и слушал этих философов-диссидентов, рассуждающих о возможности построить “социализм с человеческим лицом”3. По мнению этого политолога, нужно было строить не «человеческое общество», а пойти по китайскому пути, отказаться от перестройки и реформ, а заодно и от достижений современной философской мысли. Еще неизвестно, насколько могут быть прочны экономические и идеологические контакты с Китаем. Впрочем, каждому свое. Ципко не нравится «социализм с человеческим лицом», он предпочитает «капитализм с китайским лицом».
Настоящая книга ставит перед собой цель представить воспоминания тех, кто учился или преподавал на философском факультете в период реформ и революционных преобразований, чьи работы сегодня вошли в интеллектуальный фонд отечественной мысли. К сожалению, молодое поколение нашей страны уже забывает о том, какими трудами, интеллектуальными и моральными жертвами было достигнуто преодоление догматического марксизма-ленинизма, общение русской философии с мировой философской мыслью. Во главе этого движения стояли студенты и молодые преподаватели, которые подвергались незаслуженной критике, увольнению с факультета. Некоторые из них были отлучены не только от профессии, но и от Родины, как это было с Александром Зиновьевым, Валентином Коровиковым, Борисом Шрагиным и многими другими. Восстановить память о тех, кто открывал путь к свободе мышления в области философской мысли, – цель этой книги.
Необходимо предупредить читателя, что в настоящей книге печатаются работы разного жанра и стиля: исторические статьи, мемуарные очерки, интервью. Мы не стремились свести все работы к какому-то одному стилю, предоставляя авторам полную свободу выражения их взглядов и мнений. В чем-то они совпадают, в чем-то расходятся. Надеемся, что именно это разнообразие голосов вызовет интерес читателей к содержанию этой книги.
Из истории факультета
В. В. Соколов. Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России
Я родился в разгар Гражданской войны в крестьянской семье и хорошо помню доколхозную, нэповскую и колхозную Русь. Я довольно поздно по нынешним временам научился читать (по молитвеннику моей матери). Стал, как тот Петрушка, читать всё, что попадалось под руку (к сожалению, очень мало книг тогда, в конце 20-х гг., можно было достать даже в нашем огромном селе). Это было время зарождавшегося движения пионеров, отношение к которым населения, почти поголовно посещавшего церковь, было враждебно-ироническим («пионеры юные, головы чугунные, руки оловянные, черти окаянные»). Я, мальчик довольно шустрый, стремившийся ко всему новому, стал неформальным лидером сельских пионеров. Активно помогал «избачу» (парторгу местной ячейки, присланному из губернии-области); играл с успехом на сельской клубной сцене в антицерковных агитках, от пионеров принял участие в «красных крестинах»: у одной девицы родился «нагульной» младенец, что было тогда на селе величайшим позором безотцовщины, и она согласилась на такие «крестины». Сначала держал речь парторг, потом он передал младенца комсомольцу, тот после каких-то слов вручил его мне, и я произнес: «Берем и клянемся воспитывать», а затем возвратил его парторгу, который провозгласил «красное» имя дитяти: Ким (Коммунистический интернационал молодежи). Через несколько месяцев я услышал, что мать его тайком всё же крестила в церкви, а в селе его стихийно «переименовали» в Акима. Помогал я парторгу и в других «прогрессивных» начинаниях. Когда в самом конце 1929 г. начались настойчивые призывы – с инициативным участием приезжих агитаторов – организовать большой колхоз и многие из мужиков яростно выступали против, я, по увещеванию того же парторга, возглавил пионеров (и непионеров), и мы своим ревом заглушали «отсталых» ораторов, чтобы они не смущали «передовых». А в марте 1930 г., после публикации «исторической» статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов», я с грустью наблюдал, как все, и «отсталые», и «передовые», уводили из конюшен своих лошадей, забирали сани, телеги и другую утварь. За какую-нибудь пару дней колхоз распался (заново и под усиленным давлением он был организован в меньших масштабах года через два).
Сомнений в правильности моих «передовых» настроений и мыслей у меня самого было мало, но их критики у мужиков, с которыми я любил беседовать, было сверхдостаточно. Помню также, как однажды приехавший из Москвы отец усмехнулся над моей богомольной матерью, сказавшей ему по какому-то поводу: «Что же, по-твоему и Бога нет?!» На что он «аргументировал»: «Если бы он был, то коммунистов давно бы разогнал!» Возражать ему я не мог, а в душе очень удивился: «Какой отсталый!» (ему тогда не было и сорока).
Учился я, как говорил учитель нашей сельской четырехклассной школы моим родителям, очень хорошо, стремился учиться и дальше, но продолжать учебу в далеком районном центре не было возможности. Отец мой, деревенский кузнец и специалист в других направлениях, перебрался в Москву, и в согласии с матерью перебросили и меня туда – к дяде по матери. И я стал учеником ФЗС (фабрично-заводской семилетки). Отец, однако, погиб в 1931 г., и я проживал, обучаясь в той же школе, и у того же дяди, и у других родственников (по отцу), будучи полубеспризорным (в последних пребываниях добираться до школы было довольно далеко), хотя родные, простые рабочие, относились ко мне тепло. В школе я быстро стал одним из первых учеников.
В летние (иногда и в зимние) каникулы в те полуголодные времена я приезжал к матери (у нее оставался младший брат) в колхоз, помогая ей, как мог, увеличивать ее «трудодни» (в основном в правлении колхоза, как уже довольно грамотный субъект).
Но в школе у меня возникали всё более серьезные осложнения идеологического плана. Где-то в начале 8-го класса я взбунтовался против преподавания истории по обязательной тогда «Русской истории в самом сжатом очерке» – книге марксистско-вульгаризаторской. Ее автор – старый большевик, М. Н. Покровский, написавший ряд книг по истории России, одобренных Лениным, один из первых советских академиков и руководителей высшего образования в СССР (после его смерти в 1932 г. и до 1939 г. МГУ носил его имя), был ярым приверженцем трактовки истории как политики, опрокинутой в прошлое. В этих теоретических тонкостях я тогда, конечно, не разбирался, но находился под сильным влиянием книги Александры Ишимовой, талантливо переложившей для детей фундаментальный труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». (Пушкин высоко оценил книгу Ишимовой в своем преддуэльном письме к ней.) Отец, знавший о моем увлечении чтением, прислал из Москвы небольшой ящик книг, где была и эта. Я так ее изучил и освоил, что древо Рюриковичей, к удивлению соклассников, мог рисовать едва ли не наизусть. С таких «позиций» я и стал «громить» книгу Покровского, в которой исторические факты исчезали в экономико-политических схемах. Взбешенная Марья Ивановна, преподававшая нам историю, обвинила меня в «монархических влияниях» и за шиворот потащила к директору. Слава богу, мудрый Алексей Максимович, выдвиженец из рабочих, спустил всё на тормозах. Как ни странно, от моей «критики» Покровского я выиграл: через несколько месяцев, когда в 1934 г. были опубликованы замечания Сталина, Кирова, Жданова на какую-то книгу с критикой концепции Покровского и с рекомендацией (по сути приказом) восстановить в школах «гражданскую историю». Эти замечания по сути были кратковременной самокритикой большевизма, для которого трактовка истории всегда была догматической – политикой, опрокинутой в прошлое. Мне же такой поворот очень помог, и мой авторитет как ученика «с критическим умом» среди учителей повысился.
Однако в нашем воспитании политизация усиливалась с каждым годом, и следить за своими словами было необходимо не только на уроках истории, а этого мы, разумеется, делать не умели. В школе я оказался в одном классе с поэтом Павликом Коганом (он учился там с 1-го класса), и где-то уже в 9-м мы распевали его «Бригантину». Долгое время мы сидели с ним за одной партой. Он был из семейства старых большевиков, и вот где-то классе в 8-м на собрании нашей большой группы он был вынужден каяться «за переоценку Троцкого». В следующем классе проблемы начались у меня самого. Не очень ясно почему: то ли потому, что в своем Петрушине, куда я систематически наезжал, я видел, как плохо идет жизнь в колхозе, а мать всё время жаловалась мне в том же духе; то ли под влиянием Когана, имевшего основательную информацию о замечательном руководителе Бухарине, вывод которого из Политбюро лишь ухудшил экономическую ситуацию в голодающей стране; то ли потому, что и сам я активно начал читать газеты и партийные документы и не стесняясь стал славить Бухарина. Это был 1935 г., когда Сталин уже безоговорочно стал четвертым классиком и смолкли все сомнения – мы живем в социализме. В том году у нас шел прием в комсомол, и под руководством Васи Ямпольцева, освобожденного секретаря комсомола, поставленного райкомом, меня начали активно «молотить» (хотя всё же были отдельные защитники) и в комсомол не приняли, но аттестат отличника (никаких медалей тогда не было) мне все же выдали.
Увлеченный историей, я поступил на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). Учрежденный в 1931 г. в составе исторического и философского факультетов (к которым в 1934 г. был добавлен и литературный, а в 1939 г. еще и экономический), он был тогда лучшим гуманитарным учебным заведением в стране. В год 50-летия смерти Н. Г. Чернышевского институту было присвоено его имя. Я был зачислен после небольшой беседы с деканом исторического факультета И. С. Галкиным. Однако уже после войны при случайной встрече с нашей весьма эрудированной преподавательницей по литературе Любовью Петровной Жак (одновременно она была аспиранткой МИФЛИ и защищала там диссертацию) я узнал, что вдогонку мне из нашей школы поступило заявление, в котором я изобличался как бухаринец, которому либеральные учителя умудрились выдать аттестат отличника. Любовь Петровна, дав мне высокую характеристику, погасила это дело. Тем не менее меня вызвали в партком МИФЛИ, и один из секретарей настоятельно рекомендовал мне держать язык за зубами и всегда помнить, что я поступил в идеологический вуз. Я стал вести себя «правильно». Активный интерес к истории отодвигал политические интересы, хотя я, как и многие другие студенты, втягивался в агитационную работу (готовилась «Сталинская конституция») и, наконец, был принят в комсомол.
В МИФЛИ в эти годы читали содержательные (некоторые из них были и увлекательными) лекции и вели серьезные семинары профессора и преподаватели Ю. В. Готье, В. С. Сергеев, Н. А. Кун, Н. А. Машкин, В. К. Никольский, К. В. Базилевич, А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин, Б. Ф. Поршнев, Ф. В. Потемкин. Все они были с основательным дореволюционным образованием. В их семинарах у меня проявлялось стремление не только к рассмотрению данной темы, но и к сравнению реалий конкретной эпохи, которая обсуждалась, со сходными реалиями древней и средневековой истории, что вырабатывало общий взгляд на нее. Некоторые преподаватели не отвергали такого подхода, даже шли ему навстречу. Например, Юрий Владимирович Готье, ученик Ключевского, академик, широко образованный историк, специалист мирового уровня по истории Киевской и вообще феодальной Руси, иронически прищурив глаза, даже вступал в дискуссии с невоспитанным наглецом, потому что, полагаю, чувствовал искреннее стремление к углубленному постижению истории. В семинаре известного историка античной культуры Н. А. Куна я сделал доклад (теперешняя курсовая) «Общественный строй древней Спарты», и Николай Альбертович похвалил меня. К сожалению, недавно открывшаяся тогда кафедра классической филологии совсем не вела у нас занятий по древнегреческому языку, а проводила лишь не очень интенсивные занятия латинским.
Три с лишним года я метался между историей России, которой я увлекся уже в сельской школе (а другую историю там просто не преподавали), античной, средневековой, новой. Остановился было на средневековой (А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин и др.). Здесь и произошел у меня перелом интеллектуальных интересов. Незаурядная эрудиция в области истории (как мне говорили сокурсники, да и некоторые преподаватели) пробудила во мне ту интуицию целостности, без которой нет философии (в принципе она «работает» во всех науках, но в разной степени и с разными результатами). Я стал задумываться о философском факультете.
Туда не было приема в 1936 и 1937 гг.: было арестовано большинство преподавателей факультета. Прием снова открылся в 1938 г., и семь студентов, окончивших два курса истфака, перешли туда: Арзаканян, Егидес, Карпов и др. Я же продолжал колебаться. Еще на первом курсе лекции по диамату-истмату содержательно и остроумно нам читал доцент Дмитрий Алексеевич Кутасов, будущий декан философского факультета. Они произвели на меня определенное впечатление. Я стал посещать некоторые семинары на философском факультете.
В мае 1939 г. я присутствовал на защите докторской диссертации Георгием Федоровичем Александровым. Он был тогда профессором философского факультета, читал лекции по истории философии, а в 1939 г. опубликовал на основе этих лекций книгу «История западноевропейской философии». Значительно позже я услышал, что некоторое время Г.Ф. общался в МИФЛИ с А. В. Кубицким, первым (по сути единственным) переводчиком «Метафизики» Аристотеля, а также его «Категорий», и тот учил его древнегреческому языку. Вряд ли Александров далеко продвинулся в этом направлении, но написал диссертацию по мировоззрению Аристотеля в целом. Одним из его оппонентов был М. А. Дынник, занимавшийся тогда по совместительству античной философией. Однако в качестве неофициального оппонента выступил профессор Давид Юльевич Квитко, тоже читавший лекции по истории европейской философии в МИФЛИ. Он справедливо утверждал, что по такому гиганту, как Аристотель, защищать диссертацию «в целом» совершенно поверхностно и неубедительно. Председатель совета (кажется тогда единственного в МИФЛИ) заведующий кафедрой истории ВКП(б) Б. М. Волин (студенческая частушка: «Как бы рад я был, доволен, если б Волин был уволен») провозгласил, что профессор Квитко, в отличие от диссертанта, совершенно не прав. Он, конечно, был проголосован и стал доктором философских наук. Едва ли не на следующий день в «Правде» появилась заметка об успешной защите докторской диссертации бывшим беспризорным (его отец, путиловский рабочий, к тому времени давно умер). Успех Александрова во многом определялся и тем, что после опустошения партийных и вообще гуманитарных кадров в 1937-1938 гг. Сталин был вынужден привлекать новые. Они в особенности были необходимы для партийного аппарата. Александров тоже перешел в аппарат Коминтерна, а затем и ЦК ВКП(б). Однако при всей формальности защиты Г. Ф. Александровым его докторской диссертации, первой по философии и первой публичной, в отличие от него Марк Борисович Митин без всякой защиты стал доктором философии за редактирование учебника по диалектическому материализму.
Нельзя в этом контексте не вспомнить о заслуге Александрова перед философским факультетом МИФЛИ. Со времени своего основания в 1931 г. он равнялся одной кафедре – диалектического и исторического материализма. Александров же учредил кафедру истории философии, которая до того изучалась как краткое введение в диамат-истмат. Но сам Александров, читавший курс истории философии как особый предмет, был переведен в сферы ЦК ВКП(б). Новую кафедру он передал Борису Степановичу Чернышеву, окончившему историко-филологический факультет по отделению философии в 1921 г. Но теперь ему пришлось вступить в партию.
Попытка моего перехода на философский факультет не сразу увенчалась успехом. Гуманитарные предметы на историческом и филологическом факультетах изучались основательно, и я их успешно сдал. На философском гуманитарные предметы тоже изучались, но в меньшем объеме и не все. Зато здесь к ним прибавлялись предметы естественно-научного цикла: математика, физика, химия, биология, физиология органов чувств, психология. Ректор А. С. Карпова не решалась поэтому перевести меня на философский, но декан факультета Федор Игнатьевич Хасхачих, знавший меня по отзывам нескольких преподавателей, добился моего перевода в сентябре 1939 г., когда я закончил уже три курса истфака.
На философском факультете меня сразу привлекли лекции и в особенности содержательные семинары по античной философии Б. С. Чернышева. История философии и стала для меня главным притягательным центром, к чему стимулировала моя осведомленность в истории, теперь уже всеобщей. Все естественно-научные предметы я сдал с успехом. Приближался к пятому курсу, но тут меня постигла неожиданная катастрофа.
Еще на историческом факультете мне, запятнанному «разоблачительным» письмом из школы, всё же удалось вступить в комсомол. Во многом в результате смены руководства НКВД, когда в вакханалии арестов 1937–1938 гг. в «ежовые рукавицы» попало немало молодежи, произошел некоторый «откат». Многие юнцы связывали тогда «послабление» таких арестов с приходом к руководству НКВД Лаврентия Берии. В действительности никогда не ошибавшееся партийное руководство вспомнило «ленинскую позицию», которая провозглашала, что комсомол призван для воспитания молодежи, которая, конечно, может и ошибаться. Однако вспоминается, что на комсомольском собрании МИФЛИ, посвященном итогам XVIII съезда ВКП(б), в марте 1939 г. в клубе им. Русакова докладчику доценту Е. Городецкому послали много вопросов, почему «товарищ Ежов не избран членом ЦК партии». Недоумение многих объяснялось тем, что Ежов, перестав возглавлять НКВД, еще оставался Наркомом водного транспорта. Бедный докладчик отвечал всем вопрошавшим: «Значит, теперь товарищ Ежов не достоин столь высокого членства». Однако в кулуарах некоторые студенты старших курсов и аспиранты говорили: ну что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти! Вскоре совсем тихо произошло освобождение Ежова с поста Наркомвода, как и его арест и последующий «суд» и расстрел, о чем стало известно лишь после ХХ съезда КПСС.
На новых для меня двух курсах философского факультета я встретил других «сокашников», и некоторые из них, например, П. Копнин, В. Келле, Д. Горский, С. Анисимов, И. Нарский, Б. Мееровский, А. Гулыга, А. Зиновьев, Ф. Кессиди в послевоенное время стали значительными научными работниками, авторами, профессорами не только в философских кругах. Секретарем комсомольской организации всего МИФЛИ стал тоже мой сокурсник Семен Микулинский (поступил в институт кандидатом партии и стал здесь ее членом). Столь ответственная занятость оставляла ему мало времени для интенсивных занятий, он должен был писать в ЦК ВЛКСМ предложения о политическом воспитании студентов, формулируя свои идеи о способах его усиления. В этом контексте я неожиданно для себя, будучи уже на четвертом курсе, стал одним из наиболее трудных объектов для такого рода усилий.
Практическая дипломатия, особенно при резких ее поворотах и политическом их оправдании, – весьма опасный феномен с точки зрения воспитания молодежи. Именно такая ситуация возникла, когда за несколько дней произошел переворот в отношениях с фашистской Германией. Вчера ее поносили все средства СМИ, а сегодня в Москву приезжает Риббентроп и заключает договор о ненападении (23 августа 1939). И я совсем потерял внутренний контроль, когда практически через месяц (в сентябре 1939) с той же ненавистной фигурой был заключен даже договор о дружбе. Многие историки утверждают, что этот договор, в отличие от первого, был совершенно ошибочным, демобилизующим советский народ и армию. Партийное руководство принялось яростно его оправдывать. На сессии Верховного Совета Молотов объявил агрессорами Англию и Францию, а Германию – страдающей стороной, защищающейся от «агрессоров». (Менее чем через год, напомним, Германия сокрушила Францию, захватив «попутно» Бельгию, Нидерланды, Норвегию.) Польшу, уже оккупированную Германией (и СССР), Молотов объявил совершенно прогнившей и заслуживавшей ликвидации как государство. Последовали приветственные телеграммы Сталина Гитлеру и т. д. Взбесившись, я записал в своем дневнике резкое осуждение договора, речь Молотова назвал насквозь софистической и, слава богу, ничего не писанул о Сталине. В дальнейшем я продолжал дневник, мало уже касаясь политики, забыв о записи сентября 39-го. Когда в следующем году нас перебрасывали из общежития на Усачевке в общежитие на Стромынке, я забыл дневник, а его нашел один мой сокурсник по истфаку и сдал в комитет комсомола. Я был очень удивлен, когда где-то в сентябре-октябре 1940 г. меня вызвали в комитет комсомола и члены комитета стали расспрашивать меня о моих взглядах на международную ситуацию и т. п. Я отвечал вполне правильно, в духе официальной линии, пока Семен не сказал: «Хватит с ним играться. А вот что ты писал в дневнике в прошлом году?» Я вспомнил ту роковую запись, растерялся и что-то лепетал, а комитетчики разоблачали меня, оттачивая свое партийно-комсомольское оружие. Обсуждение закончилось страшной для меня резолюцией: «За двурушничество и осуждение последних мероприятий партии во внешней политике исключить из комсомола».