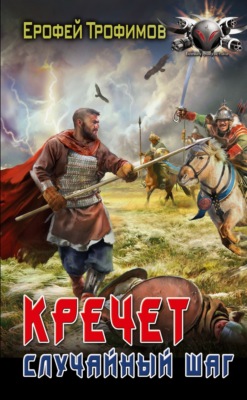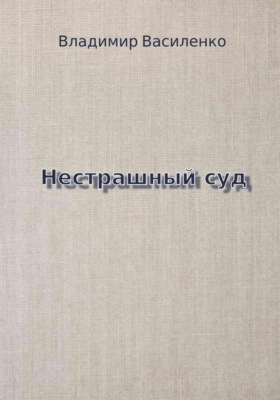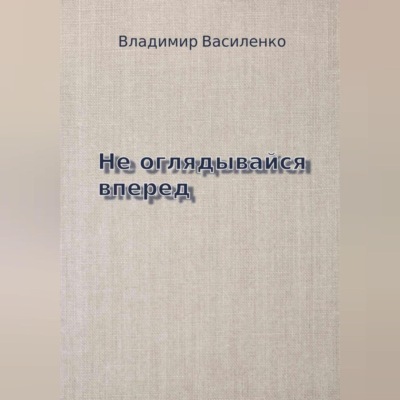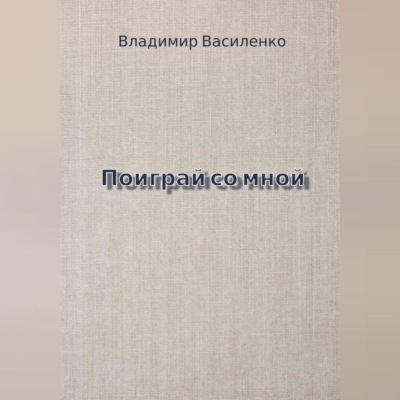Kitobni o'qish: «Зарисовки»
Чудесная женщина
***
Почуяв: караул уснул,
заглавь я руку протянул
так, чтоб ее касалась
чудесных пальцев завязь.
Оглохшие, в улове тел
немели кисти.
Но есть ветер
и есть листья…
Над, головами к голове,
внезапно спящими
всходило начертанье вен
руки творящей.
Как шелковая пелена
с предсердий спала,
когда неслышимою на
минуту встала.
Не отрезвленною ничуть
упорным взглядом,
бедром придавливая грудь,
сидела рядом.
Тупою ласкою разя,
как вскрытым прошлым,
твердила, что теперь нельзя,
но будет можно.
Что охлажденье так легко
и детство – злиться.
Что лишь уедет далеко,
но возвратится.
Солярис
Что может быть тише чувства,
когда уже тишина.
Блаженны мгновенья хруста,
затравленность решена.
И женщиной успокоясь,
пока оставаясь здесь,
себя забывая, совесть
выбалтывает что, бог весть.
Как дико, на странном ложе,
устав от земной возни,
услышать, в плечо: о боже!
Попробуй. Устрой. Возьми…
Текут ручейки решенья.
Над милостью молча став,
мне пытку и утешенье –
сей голос, палач, оставь:
насилуя слух, нечаянно
давая тонуть среди
безвыходного звучания
задетой, живой груди.
***
Блаженство – забытьем светил,
над миром позабытой дланью
и зябким напряженьем жил
еще тебя предугаданье.
Оно – евангелие вслед,
его начальный, отдаленный
улыбкой вспоминают свет
летящие на тьму Вселенной.
***
И пропасть я устал скрывать,
и знал я притяженье ада,
и вдавленная в грудь кровать
не запрещала сердцу падать.
В перерождениях низин,
в беспамятстве души и тела
ключи я находил. Один
ненадолго входя в пределы,
которым непонятен Бог,
как море непонятно тверди,
как ясно наблюдать я мог
страдание противу смерти.
Она его желаньем жгла.
Вслепую, чуя близость цели,
как ровно ноздри из угла
на потный лоб его глядели.
И силы были столь равны,
и чрез расслабленные жилы
как бы с обратной стороны
неправильная жизнь входила:
то снег в крови, то гром в души ночей
собрание дерев листает,
то все в цвету, в чем и над чем
душа стоит, а дух витает.
7 января
От двух вещей бывает стих:
стихает плоть и воскресает слово –
проснется ль от стиха чужого
или от взоров неземных.
Все мужество приготовляя впрок,
нельзя, забывшись, не скоситься
на возвращенные страницы
Евангелий в двенадцать строк.
Как, Господи, свое открыть
во страсть земную помещенье
не ради чуда возвращенья…
Как тело с небом примирить…
***
В дыхании стиха счастливом вдруг
призрак неотвратимой встречи
проявится сквозь внятный звук,
нет, не поэзии – какой-то верхней речи:
не узнавая колыбели глубь,
себя во гробе мнит душа живая,
всем неудобством оживленных губ
озноб предсмертный созывая,
виском на истонченьи волоска
давя дичайший опыт осязанья
прохладной влаги лепестка
и бабочки накрытой трепетанья.
***
Жизнь всегда достаточно длинна.
Всё – один разлив, одна равнина.
Где он, миг, в который пуповина
видимого нам – отделена?
Сделаться в живых… Безумья верх.
На свету переодеться в тайну,
неживому, подсмотреть случайно
пены шевеленье у Кифер.
Сон перерождения. Его
чувством в ускользающие лета
не одно мгновение задето –
жизни всей довольно одного:
ты проник сквозь луч, и сквозь тебя,
в двух шагах невидимое всеми,
внутреннее проникает время,
падая, вскипая и любя.
В нем никто не видел берегов,
нет любимых в нем и нет врагов,
в нем в потоке света мы одни
до конца наши земли и дни.
***
Оставив лоно бытия,
я исчезаю под волшебной сенью
ее лица: гримаса забытья
любовного – судьбы простое выраженье,
когда над ликом милым Бог занес
освобожденья дивное светило
и бесконечно близится вопрос:
что это было?
Время с Анной
Легко, в висках лелея кровь
и в сердце нечет,
в сени неодолимых слов
промерять вечер.
Прохладой с главною равна,
порой светлея
дыханьем вод, еще одна
стоит аллея.
Не поднимая головы,
нездешне в чем-то,
по сумраку идете Вы
блестящим челном.
Вот так и жизнь идти должна –
великой странной.
Как в мрачном светлая волна.
Как время с Анной.
На закате
В глазах, исполненных
слюдой очарованья,
как выпукло даны
предметы умиранья:
кустами на куски
изрезан огнь светила,
а облака – реки
болото поглотило.
И не был молодым,
и утоленным не был –
всё здесь, меж голубым
и погруженным небом.
К призывам «дальше!» глух
момент преображенья –
вовне беснуйся, дух,
дух саморазрушенья.
Но тянет глаз простор,
«в грядущем – жизнь без краю»,
и оживляя взор,
во взоре я теряю.
Но есть, есть свой эдем
в движенье этом сиром.
Что делать мне со всем
невыносимым миром!
Светила ровный дым
толпой идет со сходен.
Со слайдом золотым
хрусталик, ты свободен.
6 декабря 1791 года
Метель в сердцах, а солнце в небесах –
все, что два века могут нам доверить.
Скажи нам, Моцарт, на каких весах
сей груз измерить?
Там, в часовне, свет
необъяснимых, редких происшествий,
там в спутниках нужды как будто нет,
к растущему смятению вошедших.
Все кажется: напротив возлежит
в пустом соборе смолкнувшее тело
не потому, что это надлежит –
так что-то там, под сводом, захотело.
Все, что ненареченным светом жгло,
сродни над морем дуновенью
в жизнь отворенную вошло
и предает творца мгновенью.
И – с пониманием ничтожности всего,
что к времени исчезновенью глухо, –
круг лиц в десятке метров от него
свеча на камне высекает сухо.
***
Этой вьюги благодать,
жнущей светлую лавину.
Эта в бедствии печать
слышного наполовину.
В истязании словес,
непонятно кем рожденных, –
предстояние небес,
после мрачных занавес
торжествующе-бездонных.
Как бы взглядом призовет
кто-то мним и беспробуден.
Что в летящее полет,
осязаем ли он будет?
Под покровом звезд и тьмы
распростерт ли луч Созданья?
Вьюга, снег, бессмертье, мы –
благотворные шумы
разоренного сознанья…
***
Неосязаем, бродит стих,
как будущее в каждом прахе,
а горний сокол – на бумаге
свой промельк собственный постиг.
В невольном приступе чутья
не вы управили словами,
но кто-то расплатился вами
за перспективу бытия.
В устроенном из дня бреду
движенье верное не любо.
Не отзываясь, держат губы:
«Дай все слова, и я уйду».
Вернешься… пробирает ложь
дальнейшего существованья.
Весь тайный трепет пребыванья
все больше на стихи похож…
О, как нам сладостен итог
без божества, уже в начале,
мы что-то за итогом знали,
но учит памятливых Бог.
Т.П.
Наша встреча нечаянная – концом
затяжного ненастья стала.
И твоя аура, твое лицо –
кладбище моего идеала.
О, извечный, неодолимый миг,
разделяющий нашу цельность –
сам с собою обнявшись, мир
чувствует собственную неполноценность.
Слиться с деревом, камнем. Слиться – с чужим,
своевольем природу раня.
Так за признаки жизни цепляется жизнь,
недостигнутым кровь тираня.
Но не внять дыханью, неся любовь,
ни лицу, ни изгибу улиц.
Так за стенки вены цепляется кровь,
мыслью собственной не налюбуясь.
Удивительно – так вдруг, сквозь прихоть уст,
слышать с миром погибшим разность,
принимая за приступ чувств
окончательную безопасность.
***
Окно вагона – светлые врата
в сыром по-зимнему и неуютном мире.
Ты в них была, и ты была мечта
о темень отменившем пассажире.
Не знали: я, платформы на краю,
и ты, уже упрятанная в поезд, –
что свалится на голову твою
всей на свече плывущей ночи повесть.
***
Все кончается – зимой,
всех предметов белой тенью,
видом улицы, самой
не готовой к наважденью,
с предрешенности толчком,
безымянности потопом,
псом на поводе торчком,
девы радостным притопом.
Сон лишь сон, и наяву
нет пути вчерашним думам.
Это ворон рвет траву
из-под снега мокрым клювом.
Белый снег как белый пар
на холсте небес бредовом.
Гроздь, темнея, белый кадр
выдает пятном бордовым.
Чтобы все и впрямь ушло,
отступая равнодушно,
Bepul matn qismi tugad.