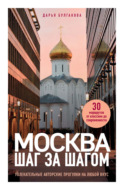Kitobni o'qish: «История метро Москвы. Развитие Московского метрополитена и его культурные символы», sahifa 4
Станция «Охотный ряд», 1935 год. Архитектор: Юрий Ревковский
Станцию метро «Охотный Ряд» много раз переименовывали. В проекте она первоначально называлась «Охотнорядская», а открыта с названием «Охотный Ряд». С этим названием станция продержалась два десятка лет. Дело в том, что в 1935 году открывающееся метро было названо в честь Кагановича, но в конце ноября 1955 года, за пару месяцев до исторического XX съезда КПСС, решили метро переименовать в Метрополитен имени Ленина. А чтобы Кагановичу было не так обидно, одну станцию переименовали в его честь. Заметим – центральную станцию первой ветки метро, которая стала называться «Станция им. Кагановича». Но недолго утешался Каганович. Всего через два года, в 1957‑м, когда он попал в список участников так называемой антипартийной группы (Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним Шепилов), станцию переименовали в «Проспект Маркса». На схемах московского метро с таким названием станция обозначалась до 1990 года, а затем – снова переименована в «Охотный Ряд». По числу перемен названия она почти рекордсмен.
Первоначальное и современное название «Охотный Ряд» станция получила из истории местности над ней. В этом месте в XVIII–XIX веках располагались лавки, где охотники торговали своей добычей. До революции Охотный Ряд был практически весь торговым – там располагались гостиницы для купцов, лавки, склады, трактиры. Важно также, что именно эта станция являлась самой центральной, и с нее можно попасть к самым главным достопримечательностям Москвы – Красной площади и Кремлю.
Конструкция станции – островная (перрон посередине станции), пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения. Глубина – 16 метров. Строили ее закрытым способом (без вырывания котлована, чтобы сохранить достопримечательности наверху) по немецкой технологии: сначала возводили стены станции, затем на них возводились стены вестибюля. В момент открытия в 1935 году «Охотный Ряд» была самой большой в мире станцией глубокого заложения.
Американский инженер Джордж Морган писал в своей книге «Московский метрополитен. Лучший в мире», что станция метро «Охотный Ряд» – одна из выдающихся в мире. Приведем здесь цитату из этой книги21:
«Большой технический интерес представляют четыре трехсводчатые станции Кировского радиуса. Каждая из них представляет крупное достижение. А станция “Охотный Ряд” является наиболее грандиозным (170 метров длиной, 34 метра шириной и 13 метров высотой) из известных до сего времени в мировой технике подземным сооружением, построенным закрытым способом».
В книге «Как мы строили метро» (вышла в свет в 1935 году) инженер А. И. Бобров писал о строительстве станции метро «Охотный Ряд»22:
«Древний размыв русла Неглинки, заполненный водоносными песками, давал себя крепко чувствовать строителям станции.
Подземные склепы кладбищ также причинили нам во время проходки немало серьезных неприятностей: на нашем пути неожиданно разверзались пустоты – там, где мы ожидали встретить твердый грунт.
Вначале станция была запроектирована двухсводчатой. Мы уже успели пройти 20 метров, когда Лазарь Моисеевич, учитывая центральное положение этой станции, предложил составить новый проект – на три свода, с двумя выходами на поверхность: северным и южным».
На станции можно увидеть массивные пилоны, которые спроектированы в виде многогранных колонн. Облицованы они серым и белым натуральным мрамором. Ранее на стенах была желтоватая керамическая глазурованная плитка, но в настоящее время эта облицовка была заменена на мрамор светлых оттенков (реставраторы специально оставили кусочек первоначальной облицовки. Прогуляйтесь по станции, и вы найдете). Ранее в середине зала были установлены светильники в виде факелов на подставках с открытыми чашами, но (в связи со строительством перехода на другие линии и увеличением пассажиропотока) было принято решение от них отказаться.
Станция «Лубянка», 1935 год. Архитектор: Николай Ладовский
Название станции «Лубянка» произошло от названия площади – Лубянская, где и располагается выход со станции. Надо сказать, что открывалась она под названием «Площадь Дзержинского». Визуально кажется, что станция своим архитектурным решением слишком выделяется на фоне всей первой очереди метро: она слишком просто и несколько странно выглядит, как будто ее создавали намного позднее. Ощущение это верное, и связано это с тем, что первоначально станция имела совсем другой облик. Она была сильно реконструирована уже в 1970‑х годах. Давайте разбираться, как это произошло.
Дело в том, что первоначально на станции не было центрального зала, который есть на всех других станциях. Подобная разновидность конструкции английского типа (была популярна в лондонском метро) состоит только из двух боковых платформ, которые между собой соединены небольшим общим аванзалом.
Советские инженеры не имели цели копировать опыт метро Лондона, но условия строительства станции (обилие здесь плывунов – водонасыщенных суглинистых грунтов) помешали им создать привычную трехсводчатую островную станцию. Метростроевцы ставили под сомнение возможность строительства станции именно в этом месте. 27 марта 1934 года было собрано экстренное совещание по дальнейшей судьбе станции, где мнения участников стройки разделились: часть предложила обойти площадь и построить станцию в другом месте, другие высказались против того, чтобы строить в этой местности вообще, третьи выступили с предложением вместо трехсводчатой построить двухсводчатую. Л. М. Каганович после совещания утвердил строительство именно по этому третьему варианту: изменить проект на двухсводчатую станцию без центрального зала.
Решение нашли и использовали зарубежный опыт строительства, и, конечно же, это не могло не отразиться на архитектурном решении.
Станция «Лубянка» была совсем не похожа на «подземные дворцы». Проблема состояла в самой конструкции (напоминала европейскую подземку, а не дворец). Для перронов архитектор сохранил форму тоннеля, но он ее визуально усилил декорированными подпружными арками, которые подчеркивают всю поддерживающую конструкцию. Впервые архитектор Ладовский не пытается скрыть техническую функцию станции, а наоборот – пытается ее подчеркнуть.
Между прочим, Николай Ладовский, один из самых неординарных и выдающихся архитекторов советского периода (с 1934 года являлся членом-корреспондентом Академии архитектуры СССР), писал про себя при поступлении в московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) следующее:
«Я работаю в архитектуре 16 лет, люблю и живу ею…»23
Приведем здесь еще цитату из книги американца Джорджа Моргана «Московский метрополитен. Самый лучший в мире»24:
«Станция “Площадь Дзержинского” (типа лондонских станций, но вдвое больших размеров) построена в особенно трудных геологических условиях. Грунты на месте станции изрезаны прослойками водоносного гравия и маслянистыми, скользкими глинами. Сооружение этой станции – громадный технический успех. Она будет памятником той упорной и героической борьбы с грунтами, которую вел коллектив строителей».
Подобная станция без центрального зала, к сожалению, не предполагала, что на ней будет большой пассажиропоток. Поэтому в 1970‑х годах, во время строительства Таганско-Краснопресненской линии, пересадочный узел (с Сокольнической линией) был запроектирован под Лубянской площадью. Вот и реконструировали станцию с достройкой центрального зала. Сейчас на «Лубянке» есть достаточно широкий центральный зал с мощными прямоугольными пилонами, облицованными мрамором светлых оттенков. Для освещения в 1970‑х посередине была протянута линия светильников.
Станция «Чистые пруды» («Кировская»), 1935 год. Архитектор: Николай Колли
Несмотря на то что активное строительство метро началось в 1931 году, архитектурное решение станций начали разрабатывать только в 1934 году, причем в очень короткие сроки. Николай Колли спроектировал свои «Чистые пруды» всего лишь за 25 дней. Между прочим, у архитекторов вначале еще не сложилось более или менее общего понимания того, в каком стиле им нужно было работать. От заказчиков они получили исключительно техническую основу станции (какая она будет – закрытая, открытая, с аванзалом или без, сводчатая или пролетная) и главное задание – чтобы станции были красивые, а не безликие, как во всем мире.
Николаю Колли пришлось реализовывать не те архитектурные решения, которые ему были свойственны. Он был приверженцем современной архитектуры – конструктивизма – и предлагал смелые, радикальные проекты. До работы с Метростроем он был практически представителем знаменитого Ле Корбюзье, в сотрудничестве с которым проектировал в Москве здание Центросоюза. И вдруг – совершенно другой уровень, оформление станции метро.
Ее проектные названия были «Мясницкая» и «Мясницкие Ворота», по улице и площади, рядом с которыми строился наземный вестибюль. Но позже улицу переименовали в честь Сергея Мироновича Кирова, революционера и видного политического деятеля, убитого в декабре 1934 года, а станция метро была открыта уже как «Кировская». В 1990 году ее переименовали в «Чистые пруды» в честь расположенной рядом московской достопримечательности.
Кстати, и эта станция была не такой, как сейчас. Она первоначально была тоже без центрального зала, как и «Лубянка» (из-за сложностей с грунтом). Уже в 1971 году в связи с организацией пересадочного узла с Калужско-Рижской линией, после продолжительной реконструкции она, несмотря на глубокое заложение (35 метров), стала трехсводчатой пилонной станцией.
Здесь снова рекорд. Это была самая глубокая станция на момент ее строительства.
Архитектура ее лаконична и проста, декоративных элементов на ней немного. Своды поддерживают два ряда массивных спаренных пилонов, облицованных уральским горным мрамором светлого оттенка и дымчатым мрамором так же, как и путевые стены. Напольное покрытие сейчас – это серый и розовый гранит, положенные в 1971 году, а первоначально покрытие было асфальтированным.
Статья Николая Колли «Архитектура в метро» из книги «Как мы строили метро», издательство «История фабрик и заводов», Москва, 1935 год:
«В нашей стране никогда еще не применялся в таком громадном количестве мрамор, за исключением разве таких сооружений, как Исаакиевский собор или храм Христа Спасителя, которые строились десятилетиями. Предстояло в течение считаных дней выработать в карьерах, привезти в Москву, напилить, отполировать и поставить на место колоссальное количество мрамора. А надо сказать, что время на распиловку мрамора, так же как и гранита, строго лимитировано. Вы не можете распилить глыбу мрамора быстрее, чем он пилится. А пилят мрамор, если память мне не изменяет, за 8 часов около 25 сантиметров. Гранит за те же 8 часов – 5 сантиметров»25.
Вполне можно предположить, что, если бы изначально Николай Колли получил техническое задание оформить станцию трехсводчатой и пилонной, то он разработал бы именно такой проект.

Под сводами располагаются достаточно широкие карнизы, за которыми размещены светильники, благодаря чему очень сильно подсвечен центральный свод. Это придает дополнительный объем самой станции.
Не менее интересна и надземная часть, которая оформлена архитектором Колли в виде миниатюрного вестибюля с колонным портиком на входе. Выйти из павильона можно с двух сторон, поэтому оформление декоративными элементами симметрично. А по периметру павильона орнаментом расположены круглые окна-иллюминаторы.
Архитектор тут явно проводит параллель с уникальным памятником античной архитектуры – гробницей пекаря Марка Вергилия Эврисака в Риме, которая была построена в сороковые-тридцатые годы до нашей эры, но стала доступна к обозрению лишь в 1838 году, когда разобрали скрывавшую гробницу башню, построенную императором Гонорием. Верхняя часть гробницы усеяна большими круглыми нишами. Они символизировали собой емкости, в которых пекари замешивали тесто.
Кстати, этот античный памятник повлиял и на других архитекторов. Чуть ранее в Москве было построено здание библиотеки имени Ленина (ныне РГБ), где на фасаде (в так называемом «Итальянском дворике») можно увидеть схожие отверстия.
От входных дверей павильона идут вниз на станцию две функциональные лестницы, которые разделяют пассажирский поток в разные стороны. Лестницы сходятся внизу у кассового зала, затем по длинному вытянутому проходу (где снова разделяется пассажиропоток на вход и выход) ведут к эскалаторам.
В 1936 году издательство Всесоюзной академии архитектуры выпустило книгу «Архитектура московского метро», редакторами которой были Николай Колли и архитектор Самуил Кравец. Колли принадлежит и одна из статей сборника, в которой он пишет:
«Наземный вестибюль станции “Кировские Ворота” расположен на площади, образованной на месте снесенного дома, замыкавшего Чистопрудный бульвар. По своей форме, масштабу и пропорциям здание этого вестибюля представляет попытку возможно ближе подойти к разрешению проблемы архитектуры метро. Для облицовки наружных стен вестибюля применен калужский мрамор, а колонны входных портиков выполнены в розовом граните. На боковых стенах вестибюля будут помещены большие мраморные барельефы по эскизам скульптора Б. Д. Королева, изображающие моменты строительства метро»26.
Пожалуй, здесь уместно привести и еще одну цитату из книги Джорджа Моргана, уже нам хорошо знакомой:
«Все эскалаторы для московского метро изготовлены на советских заводах. Станции “Площадь Дзержинского”, “Кировская” и “Красные Ворота” оборудованы тремя эскалаторами каждая. На станции “Охотный Ряд” – шесть эскалаторов, по три на каждом ее конце»27.
Станция «Красные ворота», 1935 год. Архитектор: Иван Фомин
Проектное название станции было «Красноворотская площадь» и «Красноворотская», но потом решили назвать станцию более благозвучно – «Красные Ворота». Станция стандартная – трехсводчатая, пилонная, островная (с главным перроном), глубокого заложения – она располагается на глубине 32,8 метра под землей.
Название станция получила по когда‑то расположенным здесь Красным воротам, построенным в 1709 году как триумфальная арка по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве. Красные ворота были одним из немногих в Москве памятников архитектуры в стиле барокко, но в 1927 году были снесены, как и соседняя церковь. Теперь площадь (как и станция метро) напоминает о том сооружении, которое когда‑то украшало Москву.
Мало кто знает, но архитектурный проект этой станции архитектора Ивана Фомина получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.
Станцию «Красные Ворота» изначально планировали строить трехсводчатой, но столь большая глубина заложения (плюс риски, связанные с весьма неустойчивыми грунтами) привела к тому, что специалисты долго спорили между собой по поводу того, делать ли главный зал? А может, все‑таки пойти по пройденному пути и построить станцию по лондонскому типу? Иностранный консультант по строительству первой линии метро американец Джордж Морган писал:
«В мировой практике не было примера, чтобы под таким чудовищным давлением строить трехсводчатую станцию. Я предлагаю не раскрывать третьего свода “Красноворотской” станции – у нас нет никакой гарантии, что давление породы просто-напросто не раздавит его и не погубит всего сооружения»28.
Тем не менее советские инженеры убедили главного инициатора строительства метрополитена Л. Кагановича, что спроектированная станция будет трехсводчатой, как и планировалось по первоначальному проекту. Они привели массу доводов в пользу того, что никакой опасности нет.
Между тем знаменитый архитектор академик А. Щусев об архитектурном решении станции писал:
«Что можно сказать об этом проекте? Он сделан большим мастером, но производит впечатление говядины!»
Что же имел в виду Щусев в своем высказывании? Раскритиковал в пух и прах? Вряд ли, ведь проект был принят. Будем считать, что великий Щусев отозвался таким образом лишь о цветовом оформлении из красного мрамора.
На станции можно выделить весьма массивную конструкцию – мощные пилоны с маленькими и низкими проходами к путям, а также нестандартные длинные глухие стены, облицованные желтым мраморовидным известняком перед проходом на эскалаторы. Облицовка центральных пилонов подчеркивает название станции – «Красные Ворота». Мраморизированный известняк красно-бурого и мясисто-красных цветов привезли для них из Грузии.
Стоит обратить внимание, что база (нижняя часть) пилонов облицована другим цветом – черным украинским лабрадоритом. Поднимая голову вверх, можно увидеть массивный, но светлый свод со ступенчатым карнизом, который для зрительного восприятия (увеличение объема) декорирован шестигранными и квадратными кессонами. С двух сторон свисают шарообразные светильники, которые достаточно приглушенно освещают весь зал. Напольное покрытие в виде шахматной доски чередуется квадратами из гранита светлого оттенка и темного оттенка.
Сроки строительства, как и во всех других случаях, были очень сжатые. В ноябре 1934 года начались отделочные работы на уже готовой в основных конструкциях станции. В метро спустились штукатуры, каменщики и строители. Им всего за полтора месяца нужно было уложить 1500 кв. м мрамора и произвести на площади 600 кв. м сложные штукатурные работы. На площадке катастрофически не хватало рабочей силы.
Когда почти все работы были завершены, то оказалось, что забыли заказать отдельно оформление вентиляционных решеток. Один из строителей предложил использовать подручный материал, который можно было легко достать, – никелированные металлические трубки. Такие простенькие трубки использовались для сборки спинок кроватей. Работа была сделана, и в итоге никто не заметил ничего необычного. Так что отметим: в строительстве станции метро «Красные Ворота» помогала и кроватная фабрика. Кто бы мог подумать!
Интересен южный сохранившийся наземный вестибюль станции, который был построен в 1935 году по проекту архитектора Николая Ладовского (того самого, который проектировал станцию «Лубянка»). В архитектуре прослеживается тема Красных ворот начала XVIII века – и в виде самой конструкции, и в выборе красно-белой цветовой гаммы, используемой в барокко. Помимо темы ворот, Ладовский в образе вестибюля отсылает зрителя к мотиву арок и тоннеля метро, выполненного в форме перспективного портала. Подобный мотив задает ритмичность всей конструкции.
Отметим любопытный факт. В 1952 году (в то время активно шло строительство кольцевой линии) именно на «Красных воротах» тестировали новую и самую первую партию серийных монетных турникетов, которые работали автоматически. Позже такие турникеты появились на всех станциях метро.
Bepul matn qismi tugad.