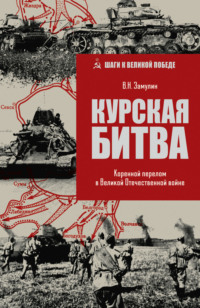Kitobni o'qish: «Курская битва. Коренной перелом в Великой Отечественной войне»
© Замулин В.Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *

Слово к читателю
Масштабные боевые действия на Курской дуге, развернувшиеся летом 1943 г., стали важнейшим шагом на пути к нашей Великой Победе, на алтарь которой советский народ положил 27 миллионов жизней. Их по праву называют завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне. Однако за весь послевоенный период отечественным ученым, к сожалению, не удалось осуществить глубокий, всесторонний анализ той огромной работы, которая была проведена политическим руководством страны, командованием Красной армии и всем нашим народом при их подготовке и проведении для того, чтобы использовать этот драгоценный опыт в дальнейшем, при обеспечении безопасности государства, в деле сохранения памяти о подвиге военного поколения и воспитания молодежи.
В нашей стране были изданы три многотомных академических труда по истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Тем не менее и сегодня эта тема далеко не исчерпана. «Хрущевский» шеститомник1 и «брежневский» двенадцатитомник2 изначально не могли претендовать на объективность и комплексный подход к проблематике. Мир находился в состоянии «холодного» противостояния и события недавнего прошлого играли в нём заметную роль. Идеологическая ангажированность усиливалась стремлением отметить особый вклад в достижении Победу первых лиц Советского государства. Поэтому не удрено, что даже наши выдающиеся полководцы, люди, формировавшие советскую систему и сами сформированные в ней, признавали, что история, представленная в многотомниках, далёкая от реальной действительности потому, что придуманная, грубо подогнанная под идеологические лекала3.
Авторскому коллективу двенадцатитомного издания «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.»4, на мой взгляд, тоже, к сожалению, не удалось в полной мере решить ту колоссальную задачу, которую он поставил перед собой, приступая к его подготовке. По крайней мере в части освещения событий битвы под Курском летом 1943 г.
Главных причин этому две. Во-первых, острый дефицит квалифицированных кадров исследователей для разработки сложных военных и военно-политических проблем. Советская школа военных историков, как бы мы сегодня её ни критиковали за догматизм и мифотворчество, давала специалистов с достаточно высоким уровнем профессионального мастерства, которое, накладываясь на собственный жизненный и боевой опыт (как правило, фронтовиков), позволял им, даже в условиях жёсткой цензуры и дефицита документальных источников, готовить довольно добротные труды по истории крупных операций, битв и сражений. К началу 1990-х гг. большинство историков «военного призыва» отошло от активной работы, а вместе с ними канули в небытие их нереализованные замыслы и проекты. А заменить эту когорту поколение, пришедшее им на смену, к сожалению, пока не смогло. Наработанный опыт и традиции подготовки кадров оказались в то смутное время невостребованными и к началу нынешнего столетия фактически были утрачены. Свидетельством плачевного состояния дел в военно-исторической науке являются книги по этой тематике, издающиеся сегодня под эгидой официальных военных научно-исследовательских учреждений, которые за редким исключением представляют собой жалкую пародию на работы советских ученых.
Во-вторых, такие крупные труды – это квинтэссенция многолетних исследований сотен ученых и научных коллективов. У нас же за десятилетия, минувшие после распада СССР, к сожалению, не возникла даже «научная микросреда», в которой проходило бы продуктивное обсуждение исторических проблем, выкристаллизовывались идеи и замыслы. Сегодня, хотя и очень редко, но появляющиеся на прилавках книжных магазинов качественные монографии, в том числе и военных историков, а также отдельные статьи в научных журналах свидетельствуют о том, что отдельными авторами и в научных институтах, университетах и самостоятельно ведётся глубокая научно-исследовательская работа по изучению некоторых крупных событий минувшей войны, в том числе Курской битвы. Однако для достижения высоких результатов этим ученым явно не хватает «взгляда со стороны», т. е. заинтересованного обсуждения результатов их трудов широким кругом профессионалов, доброжелательного совета, товарищеской помощи и поддержки «коллег по цеху». Важную роль в решении перечисленных проблем могли бы сыграть научные конференции и семинары, а также профильные периодические издания, но пока их существенного положительного влияния не чувствуется. Каждый «варится в своём котле». Всё это в комплексе, помноженное на существенное падение общего образовательного и культурного уровня подрастающего поколения, тормозит развитие нашей исторической науки, снижает интерес аспирантов и молодых ученых к событиям Великой Отечественной войны.
На излёте 1990-х гг., будучи научным руководителем музея-заповедника «Прохоровское поле», я не раз беседовал и даже некоторое время находился в дружеских отношениях с некоторыми советскими военными учёными-фронтовиками, стоявшими у истоков истории Курской битвы. Наше общение, к сожалению, продолжавшееся не так долго, как хотелось бы, было содержательным и для меня очень полезным. Благодаря их откровенным, порой самокритичным рассказам о прошлом мне удалось не только взглянуть «за кулисы» советской исторической науки 1940—1980-х гг., но и познакомиться с «повесткой дня в курилках», т. е. перечнем проблем, разработка которых официально не поддерживалась, но в частном порядке в научных коллективах активно обсуждалась, а некоторые историки на свой страх и риск самостоятельно («для себя») прорабатывали их на документальном материале. Возраст моих собеседников, а также гнетущая обстановка в стране того времени влияли на содержание обсуждавшихся нами тем. Поэтому разговор часто заходил о том, что «не удалось реализовать из задуманного» и «что надо было бы сделать, если бы были силы». В такие минуты у меня невольно возникало ощущение, что, делясь своими переживаниями и нереализованными замыслами, возможно, неосознанно, они передавали мне эстафету своей работы, а главное – ответственность за неё. Трудно сказать, было ли это действительно желание умудренных опытом людей, всю жизнь отдавших своему делу, увидеть в молодом сотруднике музея, стремящемся узнать то страшное время, продолжателя их труда или это просто плод моего воображения. Но в конце одной из наших последних встреч Георгий Автономович Колтунов, полковник, ведущий советский специалист по Курской битве, передавая мне часть своего архива, сказал: «Мы, я и мои товарищи, всю жизнь были «в окопах». В годы Великой Отечественной – с трехлинейкой, в период холодной войны – с пером в руках. Хочется верить, что вам, молодым российским историкам, повезёт больше. Вы напишите настоящую, без вранья и бахвальства историю того, как наше поколение колоссальными усилиям и огромной кровью сломало хребет этой нечестии, спасло всех от истребления. Дай бог Вам сил и совести сделать это большое дело». Тогда эти слова я воспринял, прежде всего, как наказ представителя того, героического поколения нашего народа, твердо отстаивать историческую правду и работать честно, на результат.
В Ваших руках, читатель, третье издание книги «Курская битва. Событие, изменившее ход истории», которой я стараюсь внести свой скромный вклад в изменение ситуации, сложившейся в нашей исторической науке. Первые два вышли в 2016 и 2017 гг. и получили высокую оценку специалистов и широкой читательской аудитории. Настоящий вариант существенно переработан, он исправлен и дополнен новыми материалами. Книга состоит из двенадцати частей, в которых на основе недавно рассекреченных документов из российских архивов, а также трофейных источников, хранящихся в Национальном архиве США (NARA USA) и Федеральном архиве ФРГ (ВА-МА), я предлагаю решение проблем, наиболее часто поднимавшихся в отечественной историографии Курской битвы за весь ее период. Кроме того, в книге я касаюсь и ряда вопросов, никогда официально не рассматривавшихся советской исторической наукой, хотя длительное время активно обсуждавшихся в ветеранской среде и исследователями в частном порядке. Главная задача этой работы – представить специалистам в области военной истории и всем, кому не безразлично героическое прошлое нашей страны, результаты своих исследований за последние несколько лет, тем самым подтолкнуть интерес, прежде всего, молодых людей к событиям на Огненной дуге и стимулировать обсуждение малоизученных аспектов её истории.
Как и в прежних изданиях, наряду с другими методами исследования при подготовке сборника я наиболее активно использовал, показавший высокую эффективность сравнительный анализ двух баз документов, собранных в ЦАМО РФ и NARA USA и дополненных данными из открытых источников. Он помогает не только анализируемую проблему и её отдельные элементы представить читатель объемно, но и, надеюсь, в определённой мере снизить степень субъективизма при оценке рассматриваемого события.
Все статьи с учетом содержания выстроены в хронологической последовательности. Первая, обобщающая, призвана ввести читателя в тему Курской битвы, т. е. кратко изложить процесс формирования её историографии в нашей стране за минувшие восемь десятилетий и осветить основные проблемы, влиявшие на эффективность и качество работы историков в этот период. В остальных разделах рассматриваются военно-политические аспекты планирования операций в районе Курской дуги, подготовки войск для их проведения, а также проблемы, возникшие в ходе боевых действий на важнейших участках обороны Воронежского фронта, армии которого удерживали ее южную часть, в том числе и в ходе знаменитого Прохоровского сражения.
Как известно, битва под Курском проходила в два этапа, первый начался с наступления вермахта в рамках операции «Цитадель» и, соответственно, отражения его двумя советскими фронтами по плану Курской оборонительной операции. В связи с этим понимание факторов, оказывавших существенное влияние на разработку замысла этих операций, их истинных целей, внутренней логики процесса стратегического планирования противоборствующих сторон весной 1943 г., а также степени эффективности спецслужб по обеспечению развединформацией этой работы, являются важнейшими для формирования и у современных историков, и у всего нашего общества объективного взгляда на это важнейшее событие минувшей войны. Поэтому большая часть книги посвящена вопросам разработки Москвой и Берлином замысла начального этапа летней кампании на 1943 г., проблемам, связанным с подготовкой плана его реализации, которая велась в период так называемой «весенней оперативной паузы», а также анализу мотивов ряда ключевых решений военно-политического руководства Германии и СССР в этот период. Поэтому особую ценность для понимания этой темы имеют протоколы совещания Гитлера с руководящим составом сухопутных войск и действующей армии, проведённых в феврале – марте 1943 г. в штабе группы армий «Юг» в Запорожье, по стратегическому планированию, которые приведены в статье «Мы не можем в этом году проводить больших операций». Цели Германии в летней кампании 1943 г. в документах группа армий «Центр» и «Юг».
Очень интересными, на мой взгляд, получились два раздела о деятельности советских спецслужб в период подготовки к Курской битве. Обе они основаны на недавно рассекреченном архивном материале. Первая, «Замысел летней кампании 1943 года германских вооружённых сил в докладе начальника войсковой разведки Красной армии», посвящена качеству информации, собранной разведструктурами Генерального штаба Красной армии и их прогнозу о замысле военно-политического руководства Германии при разработке плана летней кампании 1943 г. Во второй, «В канун Курской битвы», приведены тексты протоколов допросов военнопленных вермахта, захваченных разведкой 13-й армии Центрального фронта 4 июля 1943 г., и анализируется влияние информации, полученной из этого источника, на решения советского командования в преддверии начала боёв.
Важные проблемы для темы лета 1943 г. рассматриваются и в статье «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска». Планы Москвы на лето 1943 года в документах разведывательных структур Германии», которая посвящена оценке степени эффективности работы спецслужб противника по сбору данных о состоянии Красной армии и планах ее командования на лето 1943 г. Она основана на документах аналитического подразделения штаба Сухопутных сил Германии – 12-го отдела «Иностранные армии Восток», обнаруженных мною в ходе работы в Федеральном архиве ФРГ.
Существенное место в книге занимает сравнительный анализ боевого пути двух бывших командующих танковыми армиями однородного состава маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова и Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. Их имена прочно связаны с событиями под Курском. Впервые этой темой я занялся во время работы над монографией «Курский излом»5, чтобы понять роль каждого из них, и их армий при отражении наступления группировки Манштейна на белгородском направлении. За прошедшее время удалось собрать внушительный архивный материал, который позволил уточнить ряд запутанных эпизодов с их участием в боях не только летом 1943 г., но и в другие периоды Великой Отечественной. Хочется верить, что документальный рассказ об этих выдающихся военачальниках, прошедших вместе с нашим народом тяжелейшие испытания минувшего века, поможет читателю не только глубже разобраться в истории отдельных сражений на Огненной дуге, но и расширить представление о других важных событиях истории нашего Отечества.
Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность всем, кто оказывал мне помощь в ходе моей работы над этим изданием, прежде всего, Сергею Геннадьевичу Емельянову, доктору технических наук, профессору, ректору Юго-Западного государственного университета, талантливому организатору науки, человеку, увлечённому историей России. Неоценимую товарищескую помощь в обработке собранного материала оказал прекрасный учёный, доктор наук, профессор Алексей Борисович Шевелёв. Его вклад в это издание трудно переоценить. Благодаря неуёмной энергии, настойчивости и кропотливому труду этого прекрасного человека удалось перевести и обработать основную часть трофейного материала, который использован в книге. Считаю, что благодаря именно этим двум замечательным людям книга и состоялась. Выражаю им свою искреннюю благодарность.
Спасибо моим рецензентам доктору исторических наук, профессору Владимиру Викторовичу Коровину и доктору исторических наук, профессору Константину Владимировичу Яценко за ценные советы, рекомендации и существенную товарищескую поддержку моих исследований.
Важной составляющей сборника являются фотографии, которые были собраны в фондах ряда российских и зарубежных государственных архивов, музеев и в частных коллекциях. Часть из них публикуется впервые. Весомую практическую помощь в изучении и поиске фотоматериала мне оказали сотрудники Российского государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск), и прежде всего, Галина Викторовна Королёва. Хочу поблагодарить этого удивительного человека и ее коллег за внимание к моим просьбам и бескорыстный кропотливый труд.
Всем огромное СПАСИБО!
Кто хочет поделиться впечатлениями о книге или задать вопросы, предлагаю писать по адресу в Интернете: valery-zamulin@yandex.ru. Буду рад неравнодушным, думающим собеседникам, стремящимся узнать настоящую историю нашей страны.
Валерий Замулин, март 2024 года
Правду не спрячешь, и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсификации ее – главным образом при помощи умолчаний.
Константин Симонов6
Историография курской битвы: 80 лет мифов и легенд
История Курской битвы, несмотря на минувшие более чем семь десятилетий, продолжает привлекать пристальное внимание ученых и общества. Об этом наглядно свидетельствуют и огромная библиография, накопленная в прошедшие годы, и продолжающие выходить сегодня с завидной регулярностью труды историков во многих странах мира. Однако за весь послевоенный период в нашей стране так и не был проведён её комплексный, а главное, объективный анализ. Одна из крупнейших стратегических операций Красной армии (как, впрочем, и вся Великая Отечественная война) стала важнейшим элементом коммунистической пропаганды, её события плотно окутали мифы и легенды. Некоторые из них не удаётся окончательно развеять даже сегодня.
Начиная с первых чисел июля 1943 г., когда развернулось это грандиозное событие, вся информация о нём сосредотачивалась в двух главных центрах: Генеральном штабе Красной армии (наиболее достоверная и полная, с целью использования для нужд армии) и средствах массовой информации (для пропагандистской работы). При этом гражданские историки от обоих каналов были далеки. Поэтому вплоть до 1960-х гг. «локомотивом» в исследовании Курской битвы выступали военные учёные. И хотя результаты их деятельности в это время носили закрытый характер, тем не менее именно офицерами Генштаба была проведена главная работа по анализу событий под Курском, выводы которой легли в основу первых публикаций в нашей стране и позволили в дальнейшем начать работу гражданским научным коллективам и исследователям.
В отечественной историографии Курской битвы, на мой взгляд, выделяются четыре основных периода. Первый, начальный, продлившийся с 1943 по 1956 г., носил характер обобщения и осмысления тех событий (прежде всего военными). Второй (1957–1970) стал наиболее продуктивным. За эти четырнадцать лет учёным и участникам войны, хотя и с большим трудом, но удалось заложить основу для написания истории битвы. Третий (1971–1993), хотя и был самым продолжительным за время существования СССР, оказался безликим и малосодержательным в силу начавшейся «управляемой деградации» военно-исторических исследований, из-за бездумной и безудержной идеологизации этой сферы научной деятельности. Началом отсчёта четвертого этапа, который продолжается и сегодня, можно считать 1993 г. В это время исполнился полувековой юбилей битвы и, согласно архивному законодательству, начался процесс рассекречивания фондов Центрального архива Министерства обороны РФ за 1943 г. Исследователи получили доступ к главному источнику информации – оперативным, отчётным и трофейным документам действующей армии, без которых невозможен достоверный и комплексный анализ тех событий.
В начальном периоде историографии чётко выделяется её «военный» этап, продлившийся с 1943 по 1947 г. В это время изучение Курской битвы шло по восходящей линии – от газетных и журнальных публикаций к статьям в сборниках Генерального штаба по обобщению опыта войны и книгам по отдельным сражениям. Завершился этот этап успешным написанием военными специалистами двухтомной монографии, которая, хотя и не была рекомендован для издания, имела существенное влияние на дальнейшую научно-исследовательскую работу.
Первыми историографами битвы под Курском следует считать советских военных журналистов. Уже в первой половине июля 1943 г., в ходе отражения наступления германской армии по плану «Цитадель», в центральных газетах появились большие очерки и статьи на эту тему. Их авторы описывали в основном отдельные сражения и бои, героизм советских воинов, а в некоторых даже были попытки обобщить опыт, полученный Красной армией во время успешной операции, проведённой летом, так как до этого момента весомых результатов именно в летний период советским войскам добиваться не удавалось. Тогда же у журналистов в оборот вошло и название, которое впоследствии стало своеобразным «брендовым», – Курская дуга. Сегодня этим словосочетанием называют и конфигурацию линии фронта западнее Курска, сложившуюся к концу марта 1943 г., и битву, происшедшую здесь летом того же года. Впервые же в открытой печати оно было использовано в заглавии статьи журналиста главной армейской газеты «Красная звезда» Б.А. Галина7 «На курской дуге»8, которая была напечатана 15 июля 1943 г. И лишь потом его подхватили другие авторы. А до её выхода этот район в печати именовался орловско-курским и белгородским направлениями. Осенью 1943 г. к освещению событий на Огненной дуге подключились журналы для пропагандистов и армейские специализированные издания «Большевик», «Вестник воздушного флота», «Журнал автобронетанковых войск», «Военный вестник» и т. д.
Следует особо подчеркнуть, что в этих публикациях (и газетных, и журнальных), как правило, они носили строго пропагандистскую направленность, поверхностный, повествовательный характер, который отличал все военные публикации открытой печати Советского Союза той поры. Кроме того, нельзя не отметить, что их авторы, журналисты всех уровней (армейских, фронтовых и центральных изданий), являясь, как они именовались в документах советских партийных органов, «бойцами идеологического фронта», не только в силу цензурных ограничений, но и нередко по личным соображениям допускали искажения фактов и даже придумывали целые боевые эпизоды. Эта пагубная тенденция возникла с первых дней войны и уже через полгода набрала настолько большую силу, что даже некоторые трезвомыслящие руководители военно-политической работы в вооруженных силах были вынуждены отмечать её крайне отрицательное влияние на эффективность пропаганды, т. е. уровень доверия к ней со стороны войск. Из директивы заместителя народного комиссара ВМФ начальника Главного политуправления ВМФ армейского комиссара 2-го ранга Рогова № 1с от 22 января 1942 г.: «На кораблях и частях флота за последнее время имеет большое распространение всякого рода вранья и ложь….Случаи вранья, всякого рода выдумки, подчас неправильные и политически вредные измышления отдельных политработников, имеют место в агитационно-пропагандистской работе и флотской печати. Некоторые политработники вместо решительной борьбы с враньём и вредной отсебятиной в пропаганде и агитации сами иногда допускают в своих выступлениях, высказываниях и даже в печати ложные сообщения и выдуманные факты.
…В газете «Красный Черноморец» в одной из статей было сказано, что на крейсер «Коминтерн» было сброшено больше 1000 бомб, в другой статье той же газеты, помещенной на 2 дня позже, уже говорилось «около 2000 бомб» и оба эти сообщения были неверными. Враньё и ложь в пропаганде, агитации и печати дискредитируют партийно-политическую работу, флотскую печать и наносят исключительный вред делу большевистского воспитания масс.
Эти позорные и вредные явления вранья, в каких бы формах они ни проявлялись, не могут быть терпимы на кораблях и частях Военно-Морского флота и должны быть беспощадно искоренены»9.
Однако подобные документы коренным образом изменить ситуацию не могли. Легенды и мифы продолжили занимать значительное место в советской периодической печати военной поры, а затем значительная их часть плавно перекочевала в брошюры, книги и даже диссертации, посвященные истории Великой Отечественной. Причин этому несколько, назову лишь две наиболее очевидных, на мой взгляд. Во-первых, значительная часть крупных руководителей, отвечавших за эту отрасль военно-политической работы, считала, что для создания «потемкинских деревень», которым в основном и занималась пропаганда, подобный метод в определенной мере был вполне допустим. Во-вторых, советская военная журналистика испытывала острый дефицит квалифицированых кадров, да и просто хорошо образованных людей. Поэтому с первых дней войны в действующую армию был направлен не только цвет советской литературы, но и значительное число обычных журналистов из сугубо гражданских газет и журналов, которые, естественно, не могли знать всей армейской специфики, да и не горели желанием изучать её в войсках на передовой, под свист пуль. Поэтому часто именно в тиши кабинетов и рождались статьи со сказочными героическими сюжетами, описывавшие «беспримерные подвиги» воинов Красной армии.
Но вернёмся непосредственно к историографии событий под Курском. К их изучению на документальном материале и доведению первых результатов этой работы до относительно широкой аудитории (старшего командного состава) Генеральный штаба Красной армии приступил осенью 1943 г. Первые серьёзные обобщающие материалы публикуются в № 1 (за ноябрь) 1943 г. нового издания – «Информационного бюллетеня отдела по обобщению опыта войны» и «Сборника материалов по изучению опыта войны» (далее «Сборник…»), которые выходили в конце 1943 г. и начале 1944 г. «Сборник…» издавался с 1942 по 1948 г., и по объему, и по диапазону затрагиваемых тем в нем он значительно превосходил «Бюллетень…», хотя целевая аудитория обоих изданий была одна – старший командный состав армии и преподаватели военно-учебных заведений. В № 9—11 «Сборника…» впервые были опубликованы материалы, посвященные как частным операциям в период весенней оперативной паузы (описанию боя подразделений 148 сд 13 А по захвату опорного пункта Глазуновка в мае 1943 г.), так и важным эпизодам самой битвы (оборонительным боям 19 тк 2 ТА 7—10 июля 1943 г. на рубеже Самодуровка – Молотычи, контрудару войск Воронежского фронта 12 июля 1943 г.).
Сборник № 11 был тематическим, полностью посвящённым «Курской битве». Благодаря обобщению значительного боевого опыта на богатом документальном материале для того времени, это был крупный, глубокий труд, состоявший из 10 глав и 27 схем общим объёмом 216 страниц. Изначально его авторы преследовали лишь практическую цель «ознакомить широкие читательские круги генералов и лиц офицерского состава с некоторыми материалами и предварительными выводами из этой важнейшей и весьма поучительной операции»10. Однако, по сути, явилась первой попыткой офицеров Генштаба заложить прочный фундамент для дальнейшего научного анализа этого крупнейшего события войны. В «Сборнике…» довольно обстоятельно изложен ход событий, показана их внутренняя взаимосвязь, дана в основном правильная оценка принимавшимся решениям. Прикладной характер исследования в значительной мере избавил авторов от перекосов и натяжек в описании боевых действий на всех участках Курской дуги, в том числе и тех, что в скором времени будут мифологизированы и включены в систему пропаганды достижений советской власти. Например, в описании контрудара 12 июля 1943 г. на Воронежском фронте откровенно указано на ряд существенных неудач и просчётов, допущенных советской стороной. Во-первых, на то, что 5 гв. ТА генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова в этот день задачу не выполнила. Во-вторых, что «по решению командующего, 5-я гвардейская танковая армия наносила фронтальный удар по отборным танковым дивизиям немцев, не имея существенного превосходства в силах, что могло привести в лучшем случае к выталкиванию противника»11. И хотя это решение было принято не командармом, а руководством Воронежского фронта и Генштабом (именно они утвердили боевое построение армии и место её развертывания), а перевес в силах над противником в действительности был (и значительный), но использовать его оказалось невозможно из-за условий местности, тем не менее одна из главных ошибок, изначально заложенная в плане подготовки контрудара, в «Сборнике…» указана чётко.
В-третьих, авторы обошли молчанием уже тогда существовавшее мнение о грандиозном танковом сражении под Прохоровкой, в котором участвовали якобы 1500 танков и сау. Они не стали преувеличивать и без того высокие цифры, приведенные в отчёте 5 гв. ТА, и честно указали, что враг за пять суток боёв (а не за 12 июля 1943 г., как потом будет утверждать П.А. Ротмистров) потерял около 300 танков12. Хотя и эти данные явно спорные.
В-четвертых, в «Сборнике…» была высказана обоснованная критика и других решений командования Воронежского фронта, связанных с использованием крупных танковых объединений в обороне13, и приведён большой массив статистического материала. К сожалению, эти и другие объективные оценки не найдут своего отражения в послевоенных работах советских ученых, их место займут победная риторика и дутые цифры.
Вместе с тем это издание стало родоначальником ряда легенд. Например, о якобы использовании немцами противотанковых самоходных орудий «Фердинанд» в полосе Воронежского фронта, в том числе и под Прохоровкой, или о локализации прорыва полосы 5 гв. А в излучине р. Псёл14 двумя бригадами армии Ротмистрова вечером 12 июля 1943 г. Кроме того, в нём не совсем ясно определена причина несвоевременного перехода 19 тк в контрудар 6 июля 1943 г. в полосе Центрального фронта. В одном месте авторы отмечают, что корпус был не готов к выполнению задачи не только утром, но и к полудню из-за отсутствия карт своих минных полей на участке ввода15, а чуть ниже – из-за того, что комкор, якобы получив сведения о неудаче соседнего 16 тк, решил воздержаться от атаки16.
На основе разработок, включённых в «Сборник…» № 11, который имел гриф «Для служебного пользования»17, в середине 1944 г. офицером Генштаба подполковником И.В. Паротькиным18 была подготовлена и опубликована в двух номерах «Исторического журнала» работа «Битва под Курском»19, ставшая первой научной статьёй об этом грандиозном событии в открытой печати СССР20. В ней довольно подробно были описаны боевые действия и сделана попытка дать ряд важных оперативно-стратегических выводов. Кроме того, благодаря этой публикации в отечественной историографии за боями на Огненной дуге закрепилось название – «Курская битва».
В 1943–1945 гг. для доведения успехов Красной армии до широкой армейской и гражданской аудитории военными историками был выпущен ряд небольших книг в мягком переплете, фактически брошюр, о крупных операциях советских войск и флота. «Курская битва. Краткий очерк»21 (далее – «Краткий очерк»), увидевшая свет в 1945 г., как и все издания этой серии, имела строго пропагандистскую направленность. Поэтому хотя она и стала первой отдельной работой о битве, заметного влияния на осмысление учёными и обществом переломного этапа Великой Отечественной войны не оказала. В ней давалось лишь поверхностное представление о его сражениях, приводился ряд ошибочных оценок, толкований и фактов, которые, к сожалению, до сегодняшнего дня кочуют по страницам книг и периодических изданий. Так, её авторы безосновательно утверждали, что, по мнению германского командования, после успеха «Цитадели» «возникнет выгодная предпосылки для дальнейшего развития наступления немцев в глубь Советского Союза – на Москву»22. Хотя в известном оперативном приказе Гитлера № 6 отмечалось, что если обстановка будет развиваться по намеченному плану, то вермахту наступать следует на юго-восток, то есть в тыл Юго-Западному фронту (операция «Пантера»). В брошюре впервые для широкой аудитории был представлен и миф о грандиозном Прохоровском сражении, в котором «с обеих сторон одновременно участвовало свыше 1500 танков»23. Новым, важным моментом этого издания явилось то, что его авторы впервые в отечественной литературе дали периодизацию Курской битвы. Это событие разбивалось на два этапа: оборонительный период, длившийся с 5 по 23 июля, и контрнаступление – 12 июля – 23 августа, целью которого стал разгром орловской и белгородско-харьковской группировок неприятеля. Тем не менее, несмотря на невысокое качество и откровенно пропагандистский характер, по оценке некоторых советских исследователей, «Краткий очерк» «довольно длительное время оказывал влияние на разработку истории Курской битвы»24.