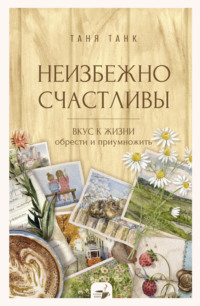Kitobni o'qish: «Неизбежно счастливы. Вкус к жизни: обрести и приумножить», sahifa 4
А я не побегу!
Как-то в пионерлагере объявили кросс. А я терпеть не могла все эти спортивные мероприятия.
– Как хотите, девочки, но я в этом не участвую, – говорю подругам Лиле и Люде.
Лиля сидит мрачная – ей тоже не хочется на кросс, но она не видит способов этого избежать. А Люда – та и вовсе плачет. «Эти» дни, болит живот.
– Люд, ну у тебя-то точно освобождение от физкультуры! – говорю я.
Но Люда, заливаясь слезами, натягивает спортивное трико:
– Физручка сказала, что это не причина. Она бегала и в месячные, и в беременность.
– Это ее дело, но я не побегу. И тебе не советую.
Подруги ушли на кросс. Не помню, что я сделала, чтобы не пойти, но столкновений со старшими не было. Скорее всего, я «вовремя» вышла в туалет.
Вернувшись, девчонки удивились: «А что, так можно было?» – «Ну вообще, да». Тебя не выкинут из лагеря и не исключат из пионеров, если ты не пойдешь на кросс или пионербол. Не надо всего бояться.
В другой смене у нас была «Зарница». Это такая военно-спортивная игра, смысла которой я не понимала, да нам никто и не объяснял. И вот утром мы куда-то понеслись, рассредоточились по лесу… «А куда и зачем я бегу?» – когда эта мысль пришла мне в голову, я остановилась. В палате лежала книжка, вчерашние события требовалось записать в дневник… Я вернулась в отряд и провела 4 часа в тишине и одиночестве.
Пускай меня назовут единоличницей, но я не буду делать то, чего не хочу. Пока у меня будет выбор.
Мне нравится, когда люди говорят «я», «мне», «а вот я считаю так». Когда они, не стесняясь, принимают похвалу, комплименты. Я улыбаюсь чистосердечию этих людей, их «нескромности» и радуюсь за их хорошее отношение к самим себе. Чувствую, что мы на одной волне. И, радуясь за них, радуюсь, конечно, и за себя.
Когда много «Я» – это не нарциссизм. Нарциссизм – это когда много «Я», но это чисто внешне – оттого, что на самом деле «Я» проглочено. И мы чувствуем интуитивно, кто перед нами – нарциссичный хвастунишка, любитель монологов о себе или человек, у которого хорошие отношения с самим собой.
А как именно любите себя вы? В чем это проявляется? А вам случалось в детстве поступить по-своему – хитростью или «встав в позу»? Какие чувства вы испытали? Каковы были последствия вашего «бунта»? Ничего же страшного не произошло или я ошибаюсь?
Таких, как я, больше нет?
Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди.
Михаил Пришвин
Сын моей знакомой похож на ее дядю. Что-то неуловимое в ужимках, и даже волосы лежат как-то узнаваемо. Я ей сказала об этом, а она мне:
– Только при нем этого не говори.
Почему? Оказывается, она считает, что если ребенок будет себя с кем-то идентифицировать, невольно подражать, это «размоет» его уникальность.
Не соглашусь. В младенчестве в нас почти нет уникальности. Чуть больше ее становится в детские годы, но все еще мало. И только в зрелости некоторые – далеко не все – становятся истинно уникальными.
Прежде чем выкристаллизуется наша уникальность, нам нужно увидеть самых разных людей и сравнить себя с ними.
Это происходит отчасти автоматически, но отчасти невозможно без анализа и самоанализа. Мы обрастаем какими-то чертами, нахватавшись их отовсюду и, в первую очередь, в своей семье. Недавно подумала, откуда у меня еще с детства взялась манера стоять, припав на одну ногу и слегка изогнувшись. И поняла, что это давнее, из детства идущее подражание Юдифи с картины Джорджоне! Увидев ее, я поразилась грациозности этой позы и невольно ее скопировала.
А потом мы бессознательно ищем тех, с кого хотелось бы «брать пример». Отвергаем и заимствуем черты окружающих. «Влюбляемся» в героев книг, актеров и музыкантов. Нам хочется иметь такое же чувство собственного достоинства, как у князя Андрея. Нам кажется, что круто быть такой же развитой, «неземной» и красиво-некрасивой, как Алиса Селезнева. И конечно, мы не отказались бы быть таким веселым, предприимчивым и популярным, как Том Сойер!
И чем мы становимся старше, тем более разнородный ком представляет собой наша уникальность. В этого «снеговика» закатано столько чужих черт и черточек! Но их сочетание и пропорции единственны и неповторимы и интерпретированы каждым по-своему. Они-то и образуют нашу уникальность. И даже в зрелые годы, когда, казалось бы, наша уникальность оформилась, мы все равно продолжаем «калибровки» этих черт и черточек.
Но продолжу про сына приятельницы. Чем же плохо для пятилетнего мальчика слышать о сходстве с родственником? Мне, например, нравится мысль, что я во многом похожа на бабу Надю. Быть похожей на такого человека – это честь! При этом никакого ущерба моей уникальности тут нет. То есть я идентифицируюсь с бабой Надей лишь в чем-то, но существую в своей единственности и неповторимости. Я похожа на нее, но все же не такая.
Допустим, родственник, на сходство с которым вам указывают, не тот человек, на кого вам хотелось быть похожим. Но и тут стоит отделить плохие качества «двойника». Например, если ты похож на дядю Васю, то на дядю Васю – компанейского, юморного и с необычно черными глазами, а не на дядю Васю – алкоголика и дебошира. И только твой выбор: ограничиться наследованием хороших черт дяди Васи или оправдывать свои пороки тем, что «это у нас семейное, и это выше меня».
Хорошо чувствовать свою уникальность. Но с некоторых пор я нахожу немало успокоения в том, что я такая же, как все. «Все не как все», – сказал кто-то из классиков. Да, каждый из нас уникален, но в целом-то мы устроены примерно одинаково, хотим примерно одного и того же, и чувствовать способны лишь то, что дано человеку. Другое дело, что не каждая личность «выходит на проектную мощность»…
Так вот, в тяжелые минуты меня очень успокаивает мысль: «Я – как все». Ни в чем не первая и не последняя. Как и все – смертная.
«Как я переживу, если случится что-то?» И внутренний голос отвечает: «Так же, как и все. Переживешь, как сможешь. Как все переживают. Или не переживешь. Как некоторые не переживают. И как в какой-то момент каждый из нас чего-то не переживет».
Сравнивали ли вас в детстве с каким-то родственником? Как вы к нему относились? Как воспринимали это сравнение? А как вы относитесь к тому, когда сейчас вас с кем-то сравнивают?
Каким вам больше нравится себя ощущать – особенным или таким, как все? Какие черты в себе вы считаете уникальными? Откуда они возникли? Каким вы становитесь с годами – все более уникальным или все больше похожим на других? Или одно не мешает другому?
Эти славные ребятки
Я росла «одиночкой», а бабу Надю это беспокоило. Не знаю, от рождения ли она была такой общительной или жизнь заставила, ведь умение заводить и поддерживать социальные связи, наверно, помогало ей выживать.
А тут внучка – на улицу не протолкнешь, сидит дома, читает-рисует. К сверстникам не тянется. В вышибалы и калимбамба не играет. И бабушка взялась за мою «социализацию». Как других детей с боем загоняли домой, так меня просили выйти во двор, подводили к ребятам. Бабушка учила знакомиться с ними и вливаться в их игры. Я шла на это с неохотой. Надо так надо. Впрочем, иногда меня увлекали и игра, и детская болтовня. Как-то я с большим удовольствием поиграла в прятки и навсегда запомнила радость, азарт, которые пережила. Такие увлекательные прятки были у меня лишь раз в жизни.
Когда мне было 15 лет, мы с мамой и бабушкой путешествовали на теплоходе из Нижнего Новгорода в Астрахань. В круизах я люблю проводить время, уединившись в каюте. Читаю, пишу, слушаю путевую информацию, нет-нет – гляну в окно. В то лето 1990 года мне было о чем подумать – полугодом ранее разбитым сердцем закончилась моя первая большая любовь. И вот я лежала в каюте, слушала Цоя, раскидывала картишки и размышляла о своем.
А бабушка часто гуляла по палубе, общалась с людьми, пела под баян, ходила на концерты. И там она присмотрела мне потенциальных подруг и мягко, но настойчиво свела с ними. Хорошие были девочки Альбина и Чулпан, татарочки из Казани. Какие-то темы для разговора у нас нашлись. А с Ирой из Волгограда мы даже стали переписываться. Письма были из разряда: «У нас погода хорошая, а у вас? Учусь хорошо. Больше писать не о чем. Жду ответа, как соловей лета».
Прошло много-много лет, а я по большому счету все та же. Собираясь на интервью или встречу даже с очень приятным человеком, я бы не отказалась остаться дома и провести время без общения.
Но стоит встретиться, как тема идет за темой, интерес разгорается, и все проходит великолепно, оставляя приятное послевкусие.
При всей моей интровертности я не «дикарка». Я коммуникабельный человек, мне нетрудно начать и поддержать общение с кем угодно, «естественно» познакомиться.
Мне тут посоветовали: «А не съездить ли тебе в санаторий, “отключить голову”?» Бродить по лесу, спать с открытыми глазами, глядя на озеро, ни с кем не общаться… Э, куда там. Не сомневаюсь, что ко мне обязательно «прибьет» очередного интересного человека, который порасскажет такого, что только успевай запоминать и обдумывать. Вот такой я интровертный экстраверт.
Так кем же быть лучше – экстравертом или интровертом?
Я думаю, лучше всего быть… всем.
Если ты определяешь себя как экстраверта, холерика, визуала, Весы, Гексли, Крысу, то ты обедняешь свою жизнь, встраивая себя в эти искусственные рамки. Даже если ось твоей личности – вот это все, то можно и нужно развивать «периферию», достраивать себя.
Пусть экстраверт учится погружаться в себя и иногда обходиться без общения.
Пусть холерик старается взрываться хотя бы через раз и иногда смеяться скорее тихо, чем громко.
Пусть визуал открывает для себя мир звуков, запахов, осязаний.
Думаю, чем большими способами мы можем понимать, чувствовать жизнь и получать от нее удовольствие, тем более мы гибки и устойчивы к ее изменениям.
Представьте себе ослепшего экстраверта-визуала. Трагедия. Потребуется очень большая перестройка.
А какие черты составляют ось вашей личности? Удовлетворены ли вы этим или пытаетесь «достроить» себя? Как вы это делаете и каковы успехи? Изменилась ли ваша натура по сравнению с детством?
Глава 3
Очей очарованье
Литература, пожалуй, самый важный предмет для становления личности. Литература дает возможность человеку как бы прожить жизнь за героев произведения. Нет, я не о вульгарном подражании герою, мол, прочитает молодой человек роман и непременно станет лучше. Чтение классики – это огромный духовный процесс.
Дмитрий Лихачев
Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного великого труда.
Максим Горький
В нашем семейном архиве есть фотография, где я, лет 2–3, с недетским выражением лица и сдвинутыми бровями смотрю в газету «Правда», развернув ее перед собой. В те годы читать я еще не умела – меня научили к пяти. Но смотреть в книгу, даже если пока и «видишь фигу», – это у меня словно встроенная программа.
Я никогда не понимала, как это можно – не любить читать. Я диву давалась, когда мои однокашники отлынивали от чтения, торговались со взрослыми: «Почитаю за мороженое», «Ой, нет, читать не буду – шрифт мелкий, не для ребенка», «Поищите другую книгу, а я пока поиграю».
И я была в шоке, когда совсем недавно узнала, что есть взрослые, и их немало, которые читают… по слогам! Сразу стало ясно, почему для кого-то чтение не радостный досуг, а пытка.
Я раньше не понимала, зачем с нас в младших классах требовали технику чтения. И от года к году нужно было наращивать число слов, которые мы способны прочитать за минуту. А вот зачем, оказывается. Чтобы не читать по слогам всю жизнь. Чтобы не маяться чтением, а наслаждаться им.
«Любите книгу – источник знаний, она облегчит вам жизнь», – со школьных стен внушал нам Горький.
Точно. Самый элементарный пример: книга о вкусной и здоровой пище дала мне много полезной информации. Например, если готовишь бульон, то мясо нужно класть в холодную воду, а если варишь мясо ради мяса, то в кипяток. Некоторые подолгу жарят котлеты, кипятят супы на большом огне, пренебрегают асептикой и невольно травят себя и близких. А читали бы книги – может, и не делали бы этого.
Но книга существует не только для пользы и облегчения жизни. Книга – это праздник, который всегда с тобой. Кто любит книгу, никогда не будет скучать.
Книга – это возможность смоделировать настроение, поддержав себя «правильным» чтением. В дни, когда надо отвлечься, «перебить» тревогу, подсластить какую-то горькую пилюлю, можно прийти за порцией беззаботного веселья к Аркадию Аверченко или Джерому К. Джерому. А если настроение такое, что ты «веселый и злой», то с полки лучше достать уже Зощенко или Ивлина Во.
Хочешь чего-то классического, добротного, психологичного – стряхиваешь пыль с «Американской трагедии» Драйзера или «Мадам Бовари» Флобера. «Загрузив» голову, обдумаешь что-то из прочитанного: сейчас – активно, и долгие годы – фоново, ведь прочитанное навсегда стало твоим интеллектуальным и эмоциональным багажом.
Книга – это и гинкго билоба в печатном виде. Ведь, читая даже для развлечения, мы приводим в действие свои «серые клеточки», как говорил Эркюль Пуаро. По этой же причине я стараюсь считать в уме или на бумажке столбиком, а не пользуюсь калькулятором. Пусть мозги почаще шевелятся!
Лет 5 назад меня попросили написать статью о нынешнем житье библиотек. Как они привлекают людей в наш век цифровизации всего и вся? Ходит ли кто туда? Пришла в читальный зал и встретила очень престарелого, но бодрого и улыбчивого мужчину. Это был 95-летний Иван Кириллович Кузьмичев, доктор филологических наук и экс-декан филфака моей альма-матер – ННГУ имени Лобачевского.
Мы разговорились, и оказалось, что ходит он сюда очень давно. Да сколько себя помнит, столько и ходит! Почти каждый день. По несколько часов читает и конспектирует. И разве удивительно, что в свои 95 лет Иван Кириллович был бодр, подвижен, общителен, излучал интеллект и здравомыслие без всяких скидок на возраст?
И вот в 2023 году, перебирая домашнюю библиотеку, нашла книгу Кузьмичева «Последние дни Горького». Сколько же лет сейчас дедушке? И… жив ли? Полезла в Интернет. 100 лет исполнилось Ивану Кирилловичу! Долгих лет вам, уважаемый человек! Пусть эта книга выйдет, а вы все еще будете живы, здоровы и ежедневно в библиотеке за чтением и конспектами.
Как я читаю? Часто – с карандашом. Книга не предмет роскоши, с которого надо сдувать пылинки. Книга – рабочий инструмент. Исключение – художественные альбомы. Они созданы для любования. Обращаться с ними нужно трепетно, переворачивать страницы неспешно и строго за верхний правый уголок.
С некоторых пор я перестала дочитывать то, что не увлекает. В университете по программе был «Русский лес» Леонида Леонова. Осилила с трудом. И дело не в объеме – «Войну и мир» я прочитала влет и потом перечитывала много раз. Но вот Захар Прилепин выпустил книгу про Леонова, которого считал недооцененным. Я спустя 15 лет решила перечитать «Русский лес», доскрипела до половины и поняла: «А ну его».
Что «не зашло» в юности – навряд ли зайдет потом. Не нравились мне «Хождения по мукам» или стихи Максимилиана Волошина – и не понравятся уже. Вот почему я решила сделать «расхламление» домашней библиотеки. Отнесла к контейнерам четырехтомник Мережковского, «Улисс» Джойса, книги Андрея Белого. Их тут же размели. А на освободившиеся места в шкафу придут новые книги.
Есть очень сильные книги, которые настолько задели меня, так больно полоснули по сердцу, так сковали его тоской, отчаянием, что я никогда не буду их перечитывать.
«Красный смех», «Жизнь Василия Фивейского» и другие вещи Леонида Андреева, «Леди Макбет Мценского уезда» и «Житие одной бабы» Лескова, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Гроздья гнева» Стейнбека, «Тихий Дон» Шолохова, «Вечный зов» Иванова, «Красный снег» и «Далекие берега» Бондарева…
Как я подбираю книги для чтения? Во-первых, регулярно пересматриваю содержимое собственных книжных шкафов. От умершего родственника мне досталось много книг. С некоторыми я не знакома, поэтому сначала нужно их прочитать, чтобы понять, оставлять их или нет. Так в мои руки приплыли роман-эпопея Александра Чаковского «Блокада», мемуары авиаконструктора Александра Яковлева и полководца Георгия Жукова.
Во-вторых, я ищу книги по своим интересам. И умный Интернет знает, что мне нужно, поэтому подбрасывает интересные варианты. Моя последняя покупка: воспоминания художников Серова и Коровина, автобиографическая книга Вениамина Каверина «Освещенные окна», его же роман «Открытая книга». А то даже удивительно: люблю Каверина, а кроме «Двух капитанов» ничего у него не читала.
В-третьих, я перечитываю. И если прямо сейчас вы не знаете, что почитать или под рукой нет новой книги, вспомните, какие произведения когда-то вас впечатлили, и перечитайте. Или возьмите другие книги этого автора.
Например, очень давно, еще в университете, я наскоро прочитала что-то из Владимира Маканина. Спешила к экзаменам. В одно ухо влетело, в другое вылетело, но отложилось: автор – своеобразный, надо будет найти время и «распробовать» его.
И вот спустя 25 лет настал день, когда я стала искать книги Маканина. Не так-то просто оказалось их купить: не переиздают. Нашла букинистические. Чем больше читала, тем больше охватывало ощущение, что попадаю под чары недюжинного таланта. Рассказ «Ключарев и Алимушкин» просто ошеломил. В самом деле, отчего вдруг у одного счастье прибывает, а у другого убывает? Виноват ли счастливый Ключарев в том, что несчастен Алимушкин? И что же такое произошло с Алимушкиным, который совсем недавно был таким веселым и успешным мужем красавицы-жены?
У Маканина никто не прав, никто не виноват. Никто не подлец, никто не герой. Обычные люди, о-быч-ны-е. Правильно критики назвали героя Маканина «срединным человеком».
Или вот еще пример. Когда-то давно я читала роман «Пушкин» Юрия Тынянова. Автор непростой и ни на кого не похожий. И вот недавно поехала в речной круиз и в библиотеке очень удачно попала на книжку Тынянова, а в ней оказались нечитанные мной «Подпоручик Киже» и «Малолетний Витушишников». Изящные, слегка ироничные, тонко выписанные вещи. Одно из ярких впечатлений 2023 года.
А что значит книга для вас? Любите ли вы читать? Какие у вас любимые книги? Перечитываете ли вы их? Случалось ли разочаровываться в книгах, которые любили? И, наоборот, полюбить те, которые не нравились раньше?
Как моя жизнь перевернулась в 11 лет
В 11 с половиной лет я пережила одно из знаковых событий в своей жизни. Мы с родителями на машине путешествовали по Прибалтике и по ходу подкупали вещи, книги, пластинки, которых было не найти в нашем Горьком. Так у меня появился прелестный дневник с розовой обложкой, стильная школьная форма «не как у всех», подзорная труба для наблюдения за звездами. А самое главное – книги Эдгара По, Джерома К. Джерома. И самое-самое главное – Льва Толстого.
Это была «Война и мир». Я тут же, в поездке, начала ее читать. Родители думали, что я брошу. Но меня затянуло с первой же главы, и даже длинные сноски не стали помехой. Когда я закрыла второй том, мое потрясение было так велико, что я несколько месяцев ходила, «пошатываясь», ударенная мощью толстовского гения. Словно речь шла о знакомых мне людях, я осуждала «ветреницу» Наташу, презирала «глупую» маленькую княгиню, боготворила князя Андрея и оплакивала его смерть. Сейчас я, конечно, иначе отношусь и к Наташе, и к Лизе. Да и к князю Андрею, конечно.
Часто слышу: «Нельзя проходить в школе “Войну и мир”», «Надо исключить из программы “Преступление и наказание”». Лексикон Пушкина устарел. Дети не понимают, что такое багрец и салазки».
Дети не понимают? А дети и не поймут, если не учить их понимать – через увлекательные, доброжелательные беседы, где не просто «вдалбливать» верное понимание текста, но и вовлекать ребенка в разговор.
Вот, например, известные строки Пушкина из «Евгения Онегина»:
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Конечно, 8-летний может не понять такой образности и в лучшем случае просто затвердит стих. А если поговорить с ним?
«Что такое полевая дань? Как ты это понимаешь? А восковая келья? Ты знаешь, что такое келья? Как ты думаешь, почему автор назвал улей кельей? Просто потому, что слово хорошо встало в строку или есть тут еще какой-то смысл?»
Так очень постепенно ребенок обогащает не только свой словарный запас, но и кругозор, чувственный мир. Учится видеть грани, оттенки цветов, чувств, поступков…
Да и что значит «дети не понимают»? Ни одно произведение невозможно понять полностью и «правильно». А дети понимают, но на своем уровне. Потом они будут перечитывать эти вещи и поднимать иные пласты.
Да, я не понимала, что «запикано» у Толстого в разговоре Долли и Анны. Но в принципе из контекста было понятно, что Анна учила Долли чему-то «взрослому». Ну и что, что я не понимала, чему конкретно? Ясно же, что автор противопоставлял жизнь Долли и жизнь Анны.
Да, мы лишь в общих чертах догадывались, чем занимается Сонечка Мармеладова, но это не мешало понимать, что она находилась в тяжелой жизненной ситуации, как говорят сейчас, и от безысходности делала нечто осуждаемое, лишь бы прокормить себя, братика с сестрой и избежать травли мачехи.
Многие современные «эффективные» люди считают блажью перечитывание полюбившихся книг. Зачем мусолить по пятнадцатому разу «Войну и мир», когда можно взять на себя обязательство – прочитать за год 100 книг – и гордо отрапортовать о выполненной миссии? Сейчас модны такие «челленджи».
Меж тем перечитывать и интересно, и полезно. Читая «Преступление и наказание» в 16 лет, ты сосредоточен на Раскольникове, Соне, Свидригайлове. А перечитывая ту же книгу в 40 лет, уже заостряешь внимание на героях второго плана – например, Разумихине. На оптимистичном, деятельном, предприимчивом, эмоциональном Разумихине, который до этого находился в тени центральных персонажей.
И вот отчасти это ответ на ваш популярный вопрос: «А есть ли положительные герои в нашей литературе?» Конечно, есть! Только надо поглубже вникнуть в книгу своими уже более зрелыми и сострадательными мозгами и «реабилитировать» Ленского, Разумихина, Соню Ростову и многих других героев, которых нас в школе учили едва ли не презирать. Соня – «пустоцвет», Ленский – восторженный идиот, которому Ольга обязательно будет изменять, а он сам опошлится и наденет шлафрок… Словно это позор какой – дома ходить в шлафроке, то есть халате!
«В своем отношении к произведениям искусства не следует быть успокоенным, – пишет академик Лихачев. – Следует стремиться к тому, чтобы понять то, чего не понимаешь, и углубить свое понимание того, что уже частично понял. А понимание произведений искусства всегда неполное. Ибо настоящее произведение искусства «неистощимо» в своих богатствах».
В Интернете то и дело читаю призывы: «Уберите из школьной программы Толстого, Достоевского и прочих классиков! Пусть дети читают то, что им по возрасту, – да хоть “Гарри Поттера”. А вот когда вырастут – то и прочитают “Войну и мир”».
Нет, друзья, не прочитают. Если со школы не приучать детей к чтению серьезной литературы, их мозг привыкнет к «облегченке» и выходить из «зоны комфорта» им не захочется.
Зачем «истязать» себя Стейнбеком или Салтыковым-Щедриным, когда есть куча детективчиков, хоррорчиков, фэнтези и тому подобного проходного чтива? Которое, конечно, тоже нужно, но не в качестве основного блюда в вашем читательском меню.
Мне могут возразить: «Ну, не прочитает человек “Войну и мир”, и бог с ним, невелика потеря». А вот я вам сейчас расскажу, велика или невелика.
Bepul matn qismi tugad.