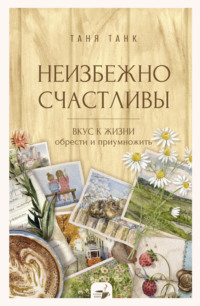Kitobni o'qish: «Неизбежно счастливы. Вкус к жизни: обрести и приумножить», sahifa 3
Носи с достоинством
Мне было лет 12, когда я очень захотела сшить красивый костюм. О том, как это делается, я тогда имела самое приблизительное понятие, но это меня не остановило. Среди ночи я совершила налет на мамин склад тканей и унесла в комнату отрез красивого голубого ситца. Тут же без всякой выкройки нанесла на ткань контуры будущего костюма. Снять с себя мерки мне в голову не пришло.
Когда я кое-как сметала вещь, оказалось, что я не прохожу по бедрам. Светало. С разочарованием я скомкала ткань и запихнула ее в шкаф.
Скоро тайное стало явным. Не скажу, что меня погладили по головке: все-таки я самовольно взяла не свое, а на этот ситец у мамы были свои виды. Но ругани не было. Родители предложили мне – раз я хочу шить – заняться этим серьезно. И вскоре мы с подругой записались в кружок «Эстетика быта».
Темп работы там был неспешный: за учебный год мы отшивали одну вещь или комплект. Наша руководительница Ирина Александровна приучала нас к аккуратности и постепенности. «Упразднять» какие-то операции, как делают современные швеи, не допускалось. И вот, примерно как крестьянки ткали долгими зимними вечерами, мы неделю кроили, неделю прокладывали «силки», еще две недели сметывали…
Зато когда был готов мой первый костюм – брюки-бананы и блузон, Ирина Александровна внимательно осмотрела меня со всех сторон и напутствовала:
– Носи с достоинством!
Легко сказать. Каким бы скромным ни был костюм, он все же сильно выделялся на фоне одежды сверстников. И, конечно, обратил на себя внимание.
– Кокина, ты это из занавески, что ли, сшила? – прокомментировала мою обновку одноклассница, однако в ее глазах мелькнуло нечто среднее между любопытством, завистью и одобрением.
Но ничьи ироничные замечания уже не могли отбить охоту одеваться по-особенному, по-своему.
Причем у меня никогда не было цели кого-то поразить или стать центром внимания. Мне лишь хотелось шить то, что я считаю красивым, и ходить в этом. Например, в широкой юбке почти до пят. Мы сшили с подругой по такой юбке и «рассекали» в них с достоинством, как и учила Ирина Александровна.
Мы с родителями до сих пор с добрым смехом вспоминаем ту «ночь вдохновения» и мой «интуитивный крой». Как же здорово, что мне тогда не надавали по рукам, а, наоборот, определили в кружок, купили швейную машинку. Прошло почти 40 лет, а мой «Зингер» с ножным электроприводом до сих пор со мной и хорошо себя чувствует.
Знаю по историям читательниц, что высмеивание, наказание, оскорбительная критика их родителей навсегда отбили у них желание шить-рисовать-танцевать, породили неверие в свои силы, страх провала, болезненный перфекционизм. К сожалению, в дальнейшем эта «язва» распространяется на все сферы жизни, мешая работать с радостью, гордостью за свои результаты.
Отсюда – нереализованность многих изначально талантливых людей. И это я считаю не только их личной трудностью, а проблемой и даже бедой для всего общества. Ведь от их нераскрывшихся талантов недополучаем все мы.
Как вы считаете, есть ли в вас нераскрытые таланты? Если да, жалеете ли вы о них или пусть покоятся с миром, ведь вы выразили себя в другом?
Порхать не вредно
Многие родители тревожатся, что их дети «поверхностные», «неусидчивые». Даже меня в детстве подозревали в «порхании». Ведь остыла же к рисованию! Почему? Предполагали разное: спасовала перед первыми трудностями, сравнила себя с более талантливыми ребятами и приуныла… Но все это было не обо мне. Рисование мне разонравилось, потому что никогда особо и не нравилось.
Часто детские «поверхностность» и «порхание» – это не то и не другое, а познание мира и себя, поиск своего. А как его найти, если не перепробовать несколько занятий?
Необязательно, чтобы от каждого нашего интереса был «толк», а каждое занятие увенчивалось результатами.
Мол, раз рисуешь – так учись рисовать хорошо, иначе какой смысл? А смысл есть. Пробуя разное, мы обогащаем свой кругозор, эмоциональный мир, украшаем свою жизнь приятным досугом. Пусть я не солировала в хоре, но в меру своих способностей наслаждалась пением, красотой музыки, стихов, вокальными талантами других. Немаловажно и то, что я была «при деле», а не болталась после школы не пойми где и с кем.
Или вот, скажем, школьный кружок художественной гимнастики, в который меня взяли во втором классе. Да, мои данные не предвещали карьеры Алины Кабаевой, я даже не смогла осилить то, с чем справилось большинство девочек из кружка: например, вставать на мостик, спускаясь руками по стенке. Недостижимым оказался и поперечный шпагат.
Но относительно себя самой мои результаты были не так уж и плохи. Я научилась садиться на обычный шпагат. Скручивалась в недоколесико. Делала кривенькое боковое сальто. Но куда важнее было другое: я стала гибче, ушла сутуловатость, окрепли мышцы.
К сожалению, в большинстве детских секций настроены на выявление «перспективных» и отсев прочих. Руководитель секции – обычно спортсмен «в отставке» – имеет личность особого, спортивного, склада. Он занимается спортом не «для здоровья» и не для досуга. Его цель – достижения, триумфы, награды. Его личные спортивные победы остались позади, теперь он хочет реализоваться через учеников. Конечно, он сделает ставку на «перспективных», а с «увальнями» возиться не будет.
Вот и получается, что неспортивные или обычные, «средние» дети остаются за бортом физической культуры. Их неспортивность усугубляется, а это сказывается на самооценке, здоровье, привлекательности и по большому счету качестве и продолжительности жизни. Поэтому, мне кажется, должно быть больше спортивных кружков, где от детей не будут требовать «выше-сильнее-быстрее», а станут учить их базовым вещам и позволят физически развиваться в своем темпе, как это позволила мне тренер по художественной гимнастике и не позволила преподавательница хореографии.
И такое еще. Неумные учителя разжигают противостояние «тупых спортсменов» и «умных очкариков».
– Будешь плохо учиться – пойдешь в спортивную школу, – пугала неуспевающих одна из моих учительниц.
Вот почему так мало гармонично развитых детей и подростков. Или ты, «как павиан» прыгаешь на волейболе, вызывая презрение одухотворенной «литераторши», или ходишь в хор и с подачи учительницы считаешь себя выше «тупых спортсменов».
К сожалению, учительница художественной гимнастики вскоре ушла из школы, и я оказалась занятой лишь в хоре и позднее – в «Эстетике быта», где требовалась усидчивость.
Физкультурные неуспехи усугублялись. Я не могла ни бегать, ни прыгать, ни метать мяч, ни лазить по канату. Единственное, по чему я сдавала нормативы, – по прессу. Дошло до того, что в седьмом классе мне светила «двойка» за четверть по физкультуре.
Сейчас смотрю на себя с высоты своих почти 50 лет и 17 лет в тренажерке и удивляюсь, как такое вообще могло быть. Особых проблем с физическими кондициями у меня не было. Думаю, что могла бы иметь по физре и «четверку». Если бы нас действительно чему-то учили. Если бы меня не считали «неспортивной».
Но физрук говорил:
– Сегодня бежим стометровку.
Или:
– Сдаем метание мяча.
Но самого обучения, как правильно бежать, как заносить руку с мячом, как прыгать в длину, а как – в высоту, что делать с руками и ногами при подтягивании на канате, не было.
И конечно, «сдавали» лишь дети, которые занимались в секциях или носились по дворам, лазили по деревьям, прыгали по крышам гаражей.
Детально нам преподали лишь технику кувырка. Как подогнуть голову, как обезопасить шею, как сгруппироваться в конце. И что же? Я без проблем сдала кувырок!
В общем, я росла с уверенностью: физкультура – это не мое. Пару раз родители пробовали завести в семье какие-то спортивные традиции – например, бег по утрам. Но не пошло. И мне, и им казалось самоистязанием вставать спозаранку и бегать под дождем. Не прижилась и утренняя зарядка.
Лет до 28 я спокойно жила без спорта. Фигура устраивала, а о другом я тогда и не думала. Но однажды я почувствовала, что пуговички жилета застегиваются немного с трудом. Тогда я впервые пошла в тренажерный зал. Отзанималась месяц, увидела отличные результаты. И… бросила. Ведь привела же себя в форму!
Вернулась в тренажерку через 5 лет, в 2007 году. С тех пор дружу с «железом» и научилась получать от этого удовольствие. За это время были взлеты и падения. Бывало, входила в лучшую для себя форму. А иногда чувствовала какой-то кризис жанра и делала «понемногу, чего-нибудь и как-нибудь».
Но вернемся к «порханию». На своем примере скажу, что иметь 2–3 интереса помимо основного любимого занятия – это натуральный «антискучнин». Как бы я ни любила писать книги, делать это больше 4 часов в день – самоистязание.
Поэтому иметь любимое дело и успешно в нем самореализовываться – это еще не «полный пакет». Нужны яйца и в других корзинах – то есть занятия, которые вас будут радовать. У меня это, например, шитье, чтение, тренажерный зал, кулинария. Я люблю планировать рацион, искать хорошие продукты и готовить.
Еще один рецепт антискуки: в основном деле заниматься не одним проектом. Допустим, главное на данный момент – написание этой книги. Но в работе – еще 3 других, на которые можно по настроению переключаться, если «позвало». Ведь голова постоянно что-то фоново обдумывает, и важно успеть вписать в файл новую мысль.
Но моя литературная работа – это не только книги. Написать пост – похожее, но все же другое занятие. Написать статью совсем на другую тему, нежели абьюз, – тоже.
Таким образом, «дробление» помогает развлекать саму себя и работать с интересом. Писать восемь часов книгу и эти же часы разбить на несколько литературных занятий – совсем разные вещи. Первый вариант – каторга. Второй – нескучная литературная работа. Думаю, и мозг от такого переключения упражняется, и глаз не «замыливается».
Предлагаю вам вспомнить все кружки, которые вы посещали в детстве, и проанализировать, что они вам дали, чему научили.
А еще вопрос такой: какие интересы, помимо любимого дела, есть у вас сейчас? Какие эмоции вы от них получаете? Хватает ли вам этих увлечений, чтобы ощущать свою жизнь наполненной и интересной? А может, у вас слишком много интересов, и до всего не доходят руки? А может, вы годами мечтаете чем-то заняться, но что-то вас останавливает?
Почему моя елка стоит до марта
В 13 лет я впервые оказалась одна в чужом городе: на весенние каникулы родители отправили меня в Киев со сборной группой школьников. Тур был с авиаперелетом из Горького, стоил целых 75 рублей (часть из них компенсировал профком), а жили мы в гостинице «Интурист», что было круто по тем временам.
После одной из экскурсий нам дали время для самостоятельных прогулок по городу. И я пошла искать подарки близким. Есть у нас семейная традиция – что-то привозить друг другу из поездок. Первым делом я заглянула в книжный на Крещатике – баба Надя попросила привезти томик Тараса Шевченко на украинском. Но найти книгу оказалось не так-то просто. «Кобзар» обнаружился лишь в букинистическом. Много слез пролила бабушка, читая и перечитывая про наймичку. Ведь это была ее жизнь… Сейчас, когда бабы Нади не стало, «Кобзар» вновь вернулся в мою библиотеку.
А что привезти в семью, решилось быстро, едва я увидела в магазине торт «Киевский». Его и сейчас упаковывают в круглую картонную коробку с зелеными листьями ореха-лещины. И вот этот торт прилетел из Киева в Горький. Каким же радостным было это семейное чаепитие! Каким божественно вкусным оказался этот торт! 20 лет спустя вновь оказавшись в Киеве, я купила тот же самый торт и пережила то же самое вкусовое и эмоциональное блаженство.
Когда нам с подругой было по 15 лет, нас на зимние каникулы отправили в похожую поездку в Калугу. Возвращаясь обратно, на несколько часов остановились в Москве. Подростки разбежались по ГУМам-ЦУМам. Время тогда было дефицитное, и дети учились у взрослых «добывать». Хозяйственные ровесницы из группы урвали какие-то ползунки, малышовые комбинезончики, полотенца. Мы с подругой не знали, что хватать, но тоже выстояли пару очередей и купили какое-то «богатое» с виду мыло и два свежайших торта «Трюфельный». Самых обычных, далеко не таких роскошных, как киевский «Киевский».
Сели в вагон, и вокруг наших тортов поднялся ажиотаж. После забега по Москве всем захотелось сладенького. Нам даже поступило предложение продать торты по десятке за каждый. Если учесть, что «Трюфельный» стоил около 3 рублей, мы могли неплохо «навариться». Но нет, мы отвергли все предложения и привезли родителям по торту «из самой Москвы».
В нашей семье всегда отмечали 1 сентября. И хотя сейчас все уже давно выучились, я стараюсь беречь эту традицию. Каждое 1 сентября готовлю типично осенние блюда: разноцветные перцы, фаршированные мясом и рисом, шарлотку, покупаю арбуз. Самое вкусное в нем – барашек, как называла его баба Надя. Это «сахарная» серединка арбуза, где нет косточек.
Пока были живы дед и бабушка Сахаровы, каждую Пасху собирались у них. Баба Надя сама пекла куличи, а за пару дней до Пасхи ходила выбирать на рынок особенный творог от заволжских крестьянок – для вкусной, жирной домашней пасхи с изюмом. Красила яйца луковой шелухой. Сев за праздничный стол, взрослые выпивали по рюмке или две водки, а потом подходили другие родственники, и большой компанией мы шли обходить родные могилы. Ну а потом снова собирались у Сахаровых, угощались нашим и принесенным, играли в дурака на копеечку, а иногда дед Кокин приносил гармонь, и были пение и пляски.
Сейчас мы по-прежнему отмечаем Пасху в семейном кругу, и на столе у нас – все те же яства. Только куличи и пасху покупаем. А яйца мама все так же красит луковой шелухой. Я вот уже не умею этого. Сейчас все можно купить. И от этого и радостно, и грустно.
А как долго у вас дома стоит новогодняя елка? У нас – с начала декабря до весны. Разбираю ее только после 8 Марта. А всю зиму, когда темнеет рано, а светает поздно, наслаждаюсь мерцанием гирлянды. И ночью сплю в «сказке».
Когда я была маленькой, долгие годы на семейный Новый год папа готовил свое коронное блюдо – цыплята табака. Отбивал до расплющивания куриные бедра и крылышки, щедро присыпал черным перцем и жарил, поставив на крышку сковороды чугунную гантель. К блюду он делал особый соус – тертый чеснок, разведенный в наваристом курином бульоне. Потом это блюдо сошло со стола (наверно, потому, что курица стала нашей обыденностью?), зато папа принес с работы новый рецепт – салат «Царский». В нем чередуются слои отварной говядины, картошки, свеклы, лука, а сверху все посыпается зернами граната. Вот уже лет 20 он готовит это блюдо по большим семейным праздникам.
Есть у нас и такая семейная традиция: родители хранят мои школьные дневники, некоторые тетради, выпускные сочинения, дипломы и почетные грамоты. А я по инерции храню весь свой «архив»: романы, написанные в детстве, записки, дневники, рисунки со школьных и университетских пар, переписку с друзьями. Тогда письма мы отправляли по почте, а при расставании переписывались с близкими так часто и многостранично, как Мари Болконская с Жюли Карагиной…
Новая традиция последних 15 лет – «открытие навигации». В семье много «речников», и все мы – волгари. А на Волгу нельзя наглядеться. Поэтому в мае мы с близкими выезжаем в живописное место на берегу, жарим шашлыки, дегустируем новые напитки домашнего производства, «мочим ножки», поем песни… Мы даже составили семейные песенники, чтобы не пыкать и не мыкать, если не знаешь весь текст.
Если традиций не было в вашей семье, вы можете создать их сами. Если вы не отмечали дни рождения и ничего не дарили, вы можете делать это для своего ребенка и, между прочим, для себя.
Постепенно новая традиция войдет в привычку, и вы уже начнете предвкушать праздники. Вас будет греть мысль, что каждый год при любых обстоятельствах в вашей жизни будет такой «островок» радости. Вот вам еще один якорь счастья.
Семейные традиции – это не что-то глобальное и обязательно связанное с праздниками. Милыми, греющими душу мелочами мы можем наполнить каждый день. Утром – помахать в окно мужу, который первым уезжает на работу. Вечером – встретить каждого пришедшего члена семьи, выйдя в прихожую, улыбнувшись и приняв сумки. По субботам это может быть тихий час, а потом – чаепитие с домашним печеньем… Подумайте, какую традицию вы могли бы внедрить в свою жизнь уже завтра или на днях. Пусть она будет легкой в исполнении.
А какие традиции были и есть в вашей семье? Какие из них вам нравятся, а какие кажутся устаревшими или поднадоели? Какие вы унесли в свою взрослую жизнь и какие создали сами?
Глава 2
Последняя в алфавите, первая в жизни
Лет в 14 я захотела перешить себе что-то из темно-синей папиной ветровки, которую он мне «списал» для швейных экспериментов. На отделку я нашла в домашних закромах обрезки алого ацетатного шелка – цвет примерно как у пионерских галстуков.
И вот разложила я это на кровати, чтобы представить будущую вещь.
Смотрю, и как будто что-то не то. Но сама себя стала уговаривать. Ведь синее хорошо с красным. Это же общеизвестный факт!
Поторговавшись с собой, решила посоветоваться с папой.
– Все просто: эти оттенки не сочетаются, – сказал он.
– Но тогда почему на мамином платье из Прибалтики красный и синий прекрасно смотрятся вместе?
– Значит, это другие оттенки. Синий и красный бывают разными. В теории они сочетаются, но конкретно эти – нет. Всегда верь тому, что видишь.
Запомнилось. Хороший антигазлайтинговый3 совет. Верь глазам своим. Верю.
Поэтому не буду восхищаться «Черным квадратом», как бы меня ни убеждали в его гениальности. Я вижу в нем пустоту, «много шума из ничего» и верю себе.
По этой же причине, выбирая чтение, я не полагаюсь на отзывы о книге. Много раз приходилось читать восторженные рецензии на посредственные произведения, и наоборот. Расхваленные фильмы и якобы классика мирового кинематографа тоже нередко оказываются пустышками. Например, «культовые» фильмы вроде «Вальсирующих» или «Последнего танго в Париже» вызвали у меня лишь недоумение, местами – с отвращением.
Я почти никогда не читаю то, что модно. Несколько раз меня убеждали взяться за тот или иной бестселлер. Иногда поддавалась, но почти не припомню, чтобы осталась довольна. А вот разочарования помню отлично: Бегбедер, Уэльбек, Иванов…
Особенно претит мне нажим в духе:
– Кааак?! Вы еще не прочитали «Даниэля Штайна, переводчика»?! Его же сейчас читают все культурные люди!
Пусть читают. Значит, я некультурная. Еле осилила 40 страниц и закрыла навсегда. Не буду говорить, что книга плохая. Просто не мое. И при чем тут «вся культурная общественность»?
А что делаете вы, чтобы лучше слышать себя и не дать «культурной общественности» заглушить свой собственный голос?
Как обо мне прокатилась дурная слава
Мне было лет 5 или 6, когда «прокатилась дурная слава», что я высокомерна. Отчего меня сочли такой? Может, потому, что я не любила быть в гуще детей? Не хотела беситься на детской площадке, носиться по двору, прыгать в «резинки»? Не любила пионерболы, прыжки в мешках, вышибалы и зарницы? Мне нравилось читать, рисовать, «считать ворон» и чтобы меня не трогали, никуда не вовлекали и не знакомили ни с какими «замечательными ребятами».
Наверно, мою отстраненность и сконцентрированность на себе старшие объяснили так, как смогли: зазнайством ребенка, рано научившегося читать и на этом основании смотрящего свысока на «глупых» сверстников и не желающего с ними якшаться.
Интересно, почему не догадались объяснить мое поведение, например, тем, что я интроверт?
Предположить, что мое нежелание с кем-то сближаться продиктовано не высокомерием, а отсутствием интереса к традиционному детскому досугу?
В начальной школе, когда наш класс готовил утренник по «Букве “я”» Бориса Заходера, учительница назначила меня именно на роль этой буквы – капризной единоличницы, которая «гнобит» весь алфавит. Мама предположила, что классная сделала это с умыслом, чтобы я подумала над своим поведением4. Проклятый ярлык не желал от меня отлипать! Но что я делала не так, в чем выражалось мое «высокомерие» – я так и не поняла. Поэтому и вины не почувствовала, и выводов не сделала. Я уже тогда знала: люди заблуждаются насчет моего высокомерия. Это не оно.
В моей жизни много буквы «Я». Словом «Я» начинается, наверно, каждое второе мое предложение. Я думаю. Я считаю. Я решила. Я выбрала. Я пойду. Я не хочу.
Но я не считаю себя «якалкой». Возвращаю этот ярлык тем, кто ко мне его приклеил. Потому что с каким вниманием я отношусь к своему «Я» – примерно с таким же и к чужому. А истинные «якалки» – самовлюбленные и высокомерные – не видят других. Мое «яканье» не об этом. Оно – от осознания того, что я мыслю, чувствую, живу и сама управляю своей жизнью.
Хорошая жизнь и хорошие отношения начинаются с хороших отношений с самим собой. Невозможно нести добро людям, отдавать всего себя и обнимать весь мир, если себя не любишь, плохо понимаешь и принимаешь лишь частично. Вот пример.
Сейчас много пишут о естественном старении, путь которого избирают некоторые знаменитости. Например, актриса Моника Беллуччи, которую долгие годы провозглашали красивейшей женщиной мира. А сейчас она говорит: «Что я буду делать, когда постарею и мое отражение в зеркале больше не будет радовать? Я не буду смотреть в зеркало – я буду смотреть на своих детей».
Многие считают эту мысль мудрой, а я – нет. Если человек дружил-дружил, да вдруг раздружился с зеркалом – значит, по-настоящему он и не принимал свою внешность. А через внешность – и свое «Я». Он любил себя только красивым и гладким. А сейчас, когда стал «некрасивым», просто обрезал эту часть себя, перестав на себя смотреть, спрятав ее подальше в своем сознании. И мне это странно.
Меня не считали красавицей, но я нравилась себе всегда. Нравиться себе – не значит считать себя красивой. Я с интересом и пониманием смотрела на себя в зеркало и в «некрасивые» периоды. Спокойно отмечала то прыщи, то морщины. Я видела «недостатки», но не шарахалась от зеркала. Мне всегда было приятно видеть себя.
Любовь к себе – это нечто естественное, встроенное в нас самой природой. Такая «натуральная» любовь к себе живет в нас фоново, и постоянно согревает нас и поддерживает в нас внутренний стержень. Человек может даже не задумываться, любит он себя или нет, как мы не думаем, хорошо ли функционирует наше сердце, пока в нем не заколет или оно не забьется чаще.