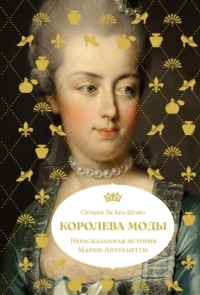Kitobni o'qish: «Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты», sahifa 5
При дворе лишь тетушки сумели разглядеть давление, которое оказывали на дофину в отношении ее одежды, как это унижало ее и подавляло юную женственность. Вполне вероятно, что они поддержали ее. Для элегантной Аделаиды, столь непреклонной в вопросах иерархии, внешний вид принцессы, пусть и австрийского происхождения, был чрезвычайно важен. Став королевой, Мария-Антуанетта немедленно возьмет на себя роль законодательницы мод, тем самым положив конец первенству фавориток в этой области (не в пример ее предшественницам). Пока же ее метаморфоза еще не завершилась и она еще не заразилась «модной лихорадкой», которой позже будет одержима. Хотя она уже замечала на королевской любовнице и на некоторых знатных дамах, приезжавших в Версаль, сногсшибательные парижские новинки, она не могла так же свободно удовлетворять свои прихоти. Пока Версаль скучал, закованный в позолоту, Париж кипел жизнью: театры, балы, салоны хорошего общества были настоящими центрами моды. Париж! Город света, такой близкий и одновременно такой далекий для молодой дофины, которая официально появится там под восторженные крики толпы лишь в июне 1773-го, спустя три года после прибытия во Францию. Наконец, с позволения короля ей разрешили без официальных церемоний надеть «простое платье» и показаться в таком виде в театре. Здесь, в Париже, не любимая Версалем дофина обрела успех, столь стремительный, сколь и обнадеживающий. Тем временем вопрос о замене герцогини де Виллар стоял на повестке дня с 1771 года. Ослабленная болезнью, но не потерявшая политического чутья, она умело подготовила свою преемницу – герцогиню де Сен-Мегрен, невестку интригана-кузена де ла Вогийона, которая вскоре вошла в окружение дофины.
Для графини Дюбарри это означало возможность иметь под рукой глаза и уши, преданные ей и ее клике. Возмущенная такой перспективой, Мария-Антуанетта обратилась к своему супругу, который под давлением своего бывшего наставника дал свое согласие «из любви к миру», как он сам сказал, что уже тогда было вполне в его характере. В сентябре мадам де Виллар отдала Богу душу. Заручившись поддержкой Мерси-Аржанто, Мария-Антуанетта преодолела свои опасения и умоляла Людовика XV назначить в качестве новой фрейлины молодую особу по ее выбору. Ее просьба не увенчалась успехом. Король, разрываясь между страстью к своей очаровательной фаворитке, интригами придворных, желаниями дофины и тенью Марии Терезии, колебался, а затем принял довольно разумное решение. Искусно пытаясь угодить всем сторонам, он назначил на пост герцогиню де Коссе-Бриссак, женщину с безупречной репутацией, что было редкостью при Версальском дворе. Несмотря на свои сомнения, герцогиня, будучи супругой человека из окружения Дюбарри, не могла отказаться от распоряжения короля. Мария-Антуанетта пришла в ярость, но, проявив хитрость, подчинилась и встретилась с герцогиней наедине. К чему они пришли? Точно неизвестно, но, вступив в должность, герцогиня де Коссе разорвала все связи с графиней, что вызвало недовольство ее мужа, герцога де Коссе-Бриссака. В 1786 году он стал возлюбленным бывшей фаворитки до тех пор, пока смерть не разлучила их.
Герцог и герцогиня де Коссе-Бриссак
Аделаида-Диана-Гортензия де Мазарини вышла замуж за Луи-Эркюля-Тимолеона де Коссе-Бриссака в феврале 1760 года. У них родился сын, который умер в детстве, и дочь. В 1791 году герцог командовал конституционной гвардией Людовика XVI. Он был заключен в тюрьму в Орлеане, а затем доставлен в Париж. Его жестоко убили в Версале в сентябре 1792 года, а голову бросили в гостиную мадам Дюбарри в Лувенсьене. Его супруга скончалась в 1808 году.
Вдохновившись примером новой дамы гардероба, несколько женщин, колебавшиеся между принцессой и графиней, поступили точно так же. Как говорится, кто кого перехитрил – дофина уже заметно продвинулась вперед! Когда в сентябре 1771 года герцогиня де Коссе приступила к своим обязанностям, она обнаружила огромный перерасход бюджета в ведении гардероба. С момента прибытия Марии-Антуанетты расходы практически утроились и составили 350 000 ливров всего за полтора года. Только со дня свадьбы до лета 1771 года торговец шелком Барбье поставил тканей на 137 067 ливров. Спустя год он все еще ждал оплаты и в итоге передал долг своему коллеге Буфо, поставщику золотой парчи для свадебного наряда дофина, который и выплатил сумму [43], не без личных амбиций. Обвиняя дофину в перерасходах, придворная дама встретилась с Мерси-Аржанто, который пришел на помощь. Уже в феврале он предупреждал Марию-Терезию, что значительная часть денег уходит в карманы тех, кто ими распоряжается, злоупотребляя своими полномочиями. Добившись доступа к отчетам, он обнаружил многочисленные «вопиющие хищения» [44], полностью оправдав таким образом Марию-Антуанетту в докладе императрице. Остается неизвестным, были ли приняты какие-либо санкции или проведено расследование, однако герцогиня де Коссе взялась за наведение порядка в управлении гардеробом – задача столь сложная и изматывающая, что требует нашего отдельного внимания. Что касается дофины, то, по словам Мерси-Аржанто, ее попросили проявлять осторожность и ежегодно проверять не совсем ясные отчеты о расходах на наряды. Хотя мадам де Виллар уже скончалась, ее право на перепродажу (право на реформу) стало частью ее наследства. В 2017 году в архивах ее нотариуса был случайно обнаружен уникальный документ [45]. Для того чтобы ее наследники, которых представлял ее брат Филипп де Ноай, получили доходы от продажи гардероба под ее управлением, был составлен посмертный инвентарный список. Он содержал детальное описание нарядов весны, лета и осени 1771 года из всех королевских резиденций. Зимний гардероб и наряды 1770 года к тому времени уже были проданы, и, к сожалению, неизвестно, что они собой представляли. Список включает 185 различных костюмов, не считая нескольких костюмов наездницы, в том числе охотничий костюм, изображенный на картине, и утренние неофициальные наряды. В него также вошли кружевные аксессуары, такие как манжеты, воротники, рукава для корсетов, барбы, отделка для корсетов, ленты, платки и несколько классических головных уборов. Любопытно, что в списке упоминается немало одинаковых платьев.
Обувь же отсутствовала, поскольку право на ее перепродажу неоспоримо принадлежало камеристкам, что, по словам Мерси-Аржанто, составило немалую сумму – около 300 пар, при четырех парах в неделю! Поскольку, как утверждал посол, Мария-Антуанетта не имела к этому никакого отношения, что же тогда произошло? Дама гардероба пренебрегла своими обязанностями из-за болезни или же пыталась компенсировать унижения, связанные с историей о корсетах, предвосхищая щедрую прибыль? Ответить на этот вопрос невозможно. Если не говорить о количестве, то относительно подробное описание каждого наряда дает нам представление о консервативном гардеробе, в котором почти не находилось места для модных новшеств. Вот его состав.
Платья и условность
Шесть десятков церемониальных нарядов: практически забытый сегодня и редко представленный, такой костюм был обязательным для ежедневного ношения при дворе, поэтому в гардеробе дофины их имелось довольно много. Все наряды были разными: те, что предназначались для торжественных церемоний, отличались особым богатством отделки, остальные были более скромными. Однако не стоит заблуждаться: несмотря на роскошь, изображенную на портретах, многие из них были не более пышные, чем не столь формальные платья. Введенный в основных чертах еще при Людовике XIV, церемониальный наряд предназначался для членов королевской семьи, титулованных дам, представленных ко двору, и в меньшей степени – для женщин, занимавших значительные должности в свите королевы. Он был обязателен каждый день, когда предполагались официальные представления в присутствии короля.
Согласно протоколу Версаля, сложившемуся десятилетиями ранее, крой и состав женского церемониального наряда был строго регламентирован. Он обязательно включал три основных предмета:
1. Корсет (grand corps). Как следует из его названия, этот элемент служил для того, чтобы придать телу определенную форму, независимо от естественных пропорций. Корсетный элемент, напоминающий конус, надевался через переднюю часть и затягивался шнуровкой на спине. Его глубокий овальный вырез декорировался тонкой кружевной отделкой. Совершенно неудобный с точки зрения эргономики из-за своей изогнутой формы и жесткого каркаса из китового уса, корсет отводил плечи назад, стягивал лопатки, придавал груди плоский вид, одновременно выталкивая ее вперед, и утягивал талию. Такой силуэт создавал эффект «голубиной грудки», не подчеркивая грудь как таковую, и придавал силуэту форму буквы V (в отличие от корсетов XIX века, придававших силуэту очертания буквы X). Тесные проймы, упиравшиеся под мышки, служили своеобразными плечиками, к которым пришивались легкие съемные тканевые рукава с рядами кружевной отделки. Они назывались petits bonhommes (маленькие человечки), их можно было отстегнуть и использовать повторно. Богатство отделки корсета зависело от статуса его владелицы и конкретного случая. Для торжественных мероприятий он украшался драгоценными камнями, которые мастера-ювелиры складывали в изысканные узоры под названием pièces de corps (корсетные украшения). Носить подобную броню было столь же физиологически разрушительно для организма, сколь и морально тягостно для Марии-Антуанетты, которая, как уже упоминалось, ненавидела его за неудобство. Примечательно, что в описаниях инвентаря вместо термина grand corps все чаще использовали слово corset (корсет), что подтверждает, что Мария-Антуанетта добилась своего благодаря вмешательству матери. Чтобы прикрыть декольте, его часто дополняли фишю – полоской кружева, которую либо перекидывали вокруг шеи и перекрещивали на груди, либо оставляли свисать в виде изысканного шарфа, украшенного различными деталями. Похожий предмет одежды – палантин – получил свое название в честь прабабушки Марии-Антуанетты, принцессы Пфальцской, которая ввела его в моду случайно, прикрываясь от холода старой меховой накидкой. Сначала над этой задумкой смеялись из-за недостаточной элегантности, но затем она нашла своих сторонников, и предмет превратился в утонченный придворный аксессуар, получивший название в честь принцессы.
2. Юбка панье, которая надевалась поверх большого каркаса. Этот аксессуар проник во Францию в эпоху Регентства через Англию. Он стал отголоском огромной конструкции, которая использовалась при испанском дворе, чтобы обеспечивать дистанцию между представителями высшего общества и их подчиненными. Каркас, покрытый тканью, мог достигать 7 метров в окружности. Некоторые модели были складными благодаря системе креплений, что позволяло сравнительно изящно проходить через двери, особенно когда в силу правил этикета и положения открывалась только одна створка! Панье, относительно расширенное по бокам, использовалось также для того, чтобы удобно облокачиваться на него, отсюда его название panier à coudes (панье для локтей) или commodité (удобство). Это действительно было удобно, учитывая, что оставлять руки свободно свисать было недопустимо. Помимо жестких требований к одежде, движения рук, кистей и даже пальцев строго регулировались нормами приличия. Когда в кино изображают, как маркизы и герцогини обеими руками подхватывают свои юбки, это скорее напоминает манеры девиц легкого поведения, чем дам из высшего общества.
3. Нижняя юбка8, или шлейф, крепилась к корсету вокруг талии и образовывала шлейф разной длины в зависимости от статуса владелицы и торжественности случая. После официальной церемонии шлейф можно было убрать: либо сложить с помощью хитроумной системы кулисок, либо просто снять.
Наряд дополнялся барбами – двумя длинными лентами из тонкого кружева, которые крепились к прическе и свободно ниспадали сзади.
Именно в таком наряде дофина отправилась в Королевскую капеллу Версаля на мессу в день Пятидесятницы в июне 1771 года. Ее туалет был выполнен из серебристой ткани, усеянной букетами розово-зеленых оттенков с золотыми нитями. В том году ее церемониальные костюмы шили преимущественно из богатых тканей, схожих с материалами, которыми обтягивали мебель. Некоторые из них, не столь старомодные, были выполнены из шелковой тафты – ткани с эффектом пестрого узора, похожей на икат. Этого узора добивались с помощью особой печатной техники, разработанной в Лионе. За исключением насыщенного красного цвета или ярких оттенков зеленого, цветовая гамма ее нарядов была в целом нежной, пастельной. Пусть и понемногу, дофина уже тяготела к воздушной тафте из шелка, известной как флорентийская, которая впоследствии станет одной из ее любимых тканей.
Особое упоминание: церемониальный наряд для представления
Это особое и эффектное платье предназначалось для молодых женщин, которые впервые представлялись королевской чете после замужества. Оно требовало невероятного количества ткани – не менее 27 метров, как свидетельствует баронесса фон Оберкирх. Надеть его было не менее сложно, чем выполнить три обязательных реверанса, а затем удалиться со сцены пятясь, при этом «удачно откидывая шлейф ногой, чтобы не запнуться и не упасть» [46]. По традиции платье для представления изготавливалось из черной ткани, украшенной золотом или серебром, дополненной тончайшим белым кружевом. Однако с приходом Марии-Антуанетты, которая терпеть не могла черный цвет, такие наряды стали появляться в других оттенках. Образ завершали длинные перчатки, драгоценные камни и жемчуг. Вот описание такого платья, которое принадлежало маркизе де ла Тур дю Пен: «Мое платье для представления было великолепным: полностью белым из-за траура, украшенным только прекрасными вставками из черного жемчуга с вкраплениями бриллиантов, которые одолжила мне королева; юбка была полностью расшита жемчугом и серебром… Грудь оставалась полностью открытой. Мою шею частично скрывали семь или восемь рядов крупных бриллиантов, на которых настояла королева. Корсет был спереди как будто зашнурован бриллиантовыми рядами. На голове у меня также было множество украшений: в виде колосьев и иголочек» [47].
Сегодня трудно представить себе, какие позы принимали женщины в подобных доспехах, дополненных высокими, шаткими, ужасно неудобными мюлями: «Вся часть ноги от подъема до кончика пальцев изгибалась; именно на эту часть приходилось давление при ходьбе. Такая обувь вынуждала женщин откидывать корпус назад, чтобы удерживать равновесие, сопротивляясь естественному наклону тела вперед» [48].
Теперь становится яснее, какой ценой давалась та знаменитая скользящая походка королевы, которую воспевали ее современники.
Перейдем к 97 платьям а-ля франсез, также называемым «нарядными платьями» или «домашними платьями»: в 1771 году этот фасон чаще всего дофина надевала после завершения официальных мероприятий. Более комфортное, чем церемониальный наряд, но такое же регламентированное, платье а-ля франсез объединяло элементы двух типов одежды XVII века: заднюю часть свободного платья с глубокими складками или сборками, введенную мадам де Монтеспан, и переднюю часть распашного «домашнего платья» – роскошного «халата» эпохи Великого века. Эта модель достигла своего эстетического апогея при маркизе де Помпадур и долгое время оставалась символом изящества и элегантности как при дворе, так и для городских нарядов, не только по всей Европе, но и в Северной Америке. Это платье, с небольшими вариациями, носили с юных лет до старости, и оно всегда состояло из трех элементов:
1. Верхнее платье.
Основной характеристикой верхнего платья была плиссировка на спине. Сегодня такие складки называют «складками Ватто», поскольку они часто появлялись на его картинах. В то время их именовали просто le pli (складка). Без этого элемента платье не могло считаться платьем а-ля франсез. Изначально широкая складка струилась от одного плеча к другому и переходила в длинный ниспадающий шлейф. Со временем она сузилась и поместилась между лопатками.
Чтобы танцевать или свободно двигаться, не боясь наступить на шлейф, боковые части верхнего платья подворачивали и убирали в длинные внутренние карманы из ткани, доступные через разрезы в юбке. Отсюда возникло выражение robe retroussée dans les poches (платье, заправленное в карманы). Это создавало изящную линию, столь часто изображаемую на пасторальных полотнах Ватто.
2. Нижняя юбка.
Ее ткань и стиль всегда соответствовали верхнему платью. Она украшалась воланами из кружев, которые назывались фалбала, и надевалась поверх панье, ширина которого могла варьироваться.
3. Стомак.
Он представлял собой треугольную вставку, чаще всего прикалывавшуюся булавками, чтобы закрыть переднюю часть верхнего платья. Декольте, которое формировалось благодаря этой вставке, всегда имело квадратную форму и могло быть довольно глубоким, но при этом не стремилось к созданию эффекта «голубиной грудки». Накладка могла либо гармонировать с платьем, либо иметь отдельный декор. Ее часто украшали крупным бантом из ленты, называвшимся parfait contentement (совершенное удовольствие), или градиентом из нескольких бантов, известным как échelle de rubans (лесенка из лент). Существовал также вариант под названием комперы, который являл собой две отдельные вставки, заранее пришитые с обеих сторон верхнего платья. Они заменяли стомак и создавали эффект ложного жилета, застегиваясь спереди на маленькие пуговицы или крючки, что значительно упрощало процесс одевания.
Основа платья состояла из этих трех частей, которые впоследствии дополнялись различными украшениями, часто прикреплявшимися непосредственно во время одевания. Таким образом, будучи «одетой с иголочки», снять или надеть платье самостоятельно было практически невозможно. Примером тому может служить сцена в фильме «Герцогиня» (The Duchess), когда герцог Девонширский использует ножницы, чтобы раздеть свою супругу в их брачную ночь. Хотя подобные платья в большом количестве представлены в музеях, те, что сохранили все свои оригинальные украшения, встречаются крайне редко. Особенно это касается ценных кружев, которые часто перерабатывались и перекраивались для других нарядов, а также передавались от матери к дочери, порой на протяжении нескольких поколений. Именно это объясняет их представленность на современных аукционах.
Независимо от стилистических изменений, которые претерпевало платье а-ля франсез, оно надевалось поверх обычного корсета из китового уса разной жесткости, а также с панье различных размеров. Самое компактное панье называлось de considération (для соблюдения приличий). Среди платьев а-ля франсез, принадлежавших дофине, некоторые описаны как «закрытые» (вероятно, благодаря комперам), другие же оснащены стомаками, которых в описи ее дамы гардероба упоминается около дюжины. Большинство платьев изготовлено из традиционных богатых шелковых тканей с узорами, часто дополненных вышивкой: гродетур, пекин, гургуран, дофин, различные виды тафты, а также несколько отрезов очень дорогого дамаста в старинном стиле. Можно заметить появление более легких тканей и современных украшений, пусть и в небольшом количестве: например, упоминается платье цвета гвоздики, отделанное серебряным газом, что отражает новые модные тенденции и предвещает развитие будущего гардероба Марии-Антуанетты.
В инвентаре также упоминаются несколько карако – неофициальных жакетов. Существовало две версии этого элемента одежды. Одна напоминала платье а-ля франсез, укороченное до линии бедер, вероятно, именно такое и носила Мария-Антуанетта. Вторая версия не имела знаменитых складок Ватто и представляла собой облегающий корсаж, дополненный широкими басками. Их немного, и это значит, что фантазии в гардеробе отводилось мало места, если только сама дофина намеренно не пожелала оставить некоторые экземпляры. На тот момент ее это еще устраивало…
Недобросовестная конкуренция
Если судить по портрету Франсуа-Юбера Друэ, написанному в 1773 году, гардероб дофины был освежен и значительно обновлен, но все еще оставлял желать лучшего в плане актуальности. Этот художник в возрасте ранее служил придворным живописцем маркизы де Помпадур, а затем стал портретистом графини Дюбарри. Годом ранее по просьбе Людовика XV, стремившегося сохранить мир между «богинями» Версаля, Друэ написал портрет Марии-Антуанетты в аллегорическом образе Гебы, богини юности, одновременно изобразив графиню Дюбарри как Флору, покровительницу цветов. Несмотря на мнение, что портрет слабо передавал сходство, он снова запечатлел лицо дофины в работе, представлявшей ее по пояс в церемониальном наряде, для которого она, скорее всего, не позировала лично. В подобных случаях наряды предоставлялись художнику службой гардероба. В статичной позе, с безжизненно опущенными руками, Мария-Антуанетта изображена в, безусловно, роскошном, но давно устаревшем церемониальном туалете, где старомодные кружева так же унылы, как и выражение ее лица, покрытого толстым слоем румян. Великолепное бриллиантовое колье, тесно охватывающее шею, только усиливает впечатление натянутости, скрывая ее естественную грацию. Для сравнения: ее невестка, Мария-Жозефина Савойская, известная своей невыразительной внешностью и отсутствием изящества, на портрете того же Друэ выглядит гораздо более привлекательно в ярком церемониальном наряде розового цвета, украшенном ослепительно-белыми, исключительно модными кружевами.
Внучка Карла-Эммануэля, короля Сардинии и герцога Савойского, вышла замуж за графа Прованского 14 мая 1771 года, ровно через год после свадьбы Марии-Антуанетты. Скандал с хищением приданого дофины, просочившийся через некие тайные каналы, возможно, даже через Вену [49], привлек внимание искусного монарха. Он решил выяснить, идет ли речь о случайности или подобная практика «будет соблюдаться впредь». Учитывая сложности, с которыми столкнулась императрица, в переговорах он проявил осторожность, чтобы избежать недоразумений и ненужных трат для обеих сторон. Таким образом, Версаль сохранил полный контроль над приданым, а дед невесты взял на себя часть расходов с условием, что оно не перейдет даме гардероба до того, как его внучка сможет им воспользоваться. Это была отличная идея, так как одновременно восстанавливался ритуал передачи приданого на границе, неосмотрительно нарушенный годом ранее Марией-Терезией. Прибыв в Пон-де-Бовуазен, Мария-Жозефина, с заранее удаленными волосами (они были очень темными), надушенная и тщательно прихорошившаяся для Франции, облачилась в соответствии с традициями Версаля в церемониальный наряд из серебряной ткани с вставками розовых пайеток. Это соответствовало всем требованиям протокола, «соблюдение которых в глазах публики ожидалось от представителей обеих династий» [50]. Мало-помалу ей предоставляли первые элементы ее приданого по мере необходимости, а остальное ожидало ее в Версале. Великолепный гардероб был составлен с особой тщательностью ее фрейлиной, графиней де Валентинуа, которая близко дружила с графиней Дюбарри. Приданое стоимостью 575 000 ливров значительно превышало расходы дофины с момента ее прибытия в Версаль. Шелковые ткани, поставленные торговцем Баффо, оценивались в 150 886 ливров, а за одну только вышивку серебряной сетки для церемониального свадебного наряда, украшенного букетами и гирляндами с блестками, модистка мадемуазель Александр выставила счет на 9900 ливров. Церемониальный наряд из белого шелка гроденапль, расшитый серебром, украшенный розами, гвоздиками, кистями и золотыми бахромками, с букетом сирени на декольте обошелся в 11 800 ливров [51]. В сентябре 1770 года Мерси-Аржанто предупредил императрицу, написав: «Здесь уже заняты поисками средств, чтобы придать мадам графине Прованской как можно больше блеска». К этим изощренным интригам добавился скандал с распределением покоев, упомянутый ранее. В благодарность за преданность мадам Валентинуа была повышена до фрейлины новой графини. В то время как верность семьи де ла Вогийона фаворитке была вознаграждена назначением герцогини Сен-Мегрен на должность дамы гардероба – той самой, которую мадам де Виллар так и не смогла определить к дофине. Так обстояли дела «в этой стране». На следующий год, после того как Людовик-Август и Мария-Антуанетта резко раскритиковали герцога де ла Вогийона за его безобразную слежку, он, как говорят, скончался от огорчения через пять дней. В Версале его смерть не вызвала ни малейшего сожаления.
Пока что, несмотря на горести, которые она не забыла, дофина хорошела и наблюдала. Та, кого в свое время брат Иосиф называл «ветреной головушкой», строила свое будущее в окружении, отравленном интригами. Тонко понимавшая, как утверждала ее мать, суть и характеры людей, она терпеливо ждала своего часа. Оставалось совсем немного до начала ее жизни в качестве королевы. Когда момент настал, молодая женщина больше не пожелала участвовать в невыносимой игре «дрязг этой страны» [52]. Наделенная новой властью, она при первой же возможности стремилась вырваться из своей удушливой золотой клетки и, не предвидя последствий, жила «ничего не планируя, ибо единственный замысел, который ее занимал, был избавиться от обычаев и ограничений своего положения, которое она могла поддержать с полным достоинством, если хотела; но чаще всего она не желала этого» [53].
Bepul matn qismi tugad.