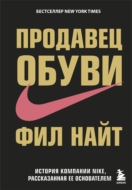Kitobni o'qish: «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем»

SHOE DOG
by Phil Knight
Copyright © by Phil Knight.
Originally published by Scribner, a division of Simon & Schuster, Inc.
© Царев В. М., перевод, 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Рассвет
Я пробудился раньше других, еще до птиц и до восхода солнца. Выпил чашку кофе, с жадностью проглотил кусок тоста, натянул шорты, куртку, зашнуровал свои зеленые кроссовки и тихо выскользнул через заднюю дверь.
Размяв ноги, буквально принуждая себя преодолевать боль, возникшую при первых же шагах, я со стоном побежал по холодной дороге, уходившей в туман.
Почему всегда бывает так трудно начинать?
Вокруг не было ни машин, ни людей, ни малейших признаков жизни. Я был совершенно один, будто весь мир существовал только для меня, хотя казалось, что деревья странным образом ощущают мое присутствие. Но, опять же, дело происходило в штате Орегон. Здесь всегда было ощущение, что деревьям всё известно и что они тебя, оберегая, прикрывают. Деревья всегда вас прикрывали, подстраховывая.
«В каком же прекрасном месте я родился! – думал я, оглядываясь вокруг. Спокойно, зелено, безмятежно». Я с гордостью называл Орегон своим домом, ведь здесь, в маленьком городке, я и появился на свет. Но была во мне и горечь сожаления. Пусть Орегон и был красив, но на некоторых он производил впечатление места, где ничего значительного никогда не происходило, не происходит да и навряд ли когда-нибудь произойдет. Знамениты мы, орегонцы, были лишь нашей историей, нашей Орегонской тропой, приведшей нас в эти земли. Ну а с того времени жизнь стала весьма заурядной.
Лучший из всех моих учителей, один из лучших людей, которых я когда-либо знал, часто говорил об этой тропе. Со свойственным ему неким трубным рыком он повторял о нашем праве, данном нам от предков. Это наш характер, наша судьба, наша ДНК. «Трусы никогда ничего не начинали, – твердил он. – Слабые умирали в пути. А сильные остались. Сильные – это мы».
Мы! Мой учитель верил, что на том маршруте был обнаружен некий редчайший ген первооткрывателей, некое незаурядное, выходящее за рамки обычного ощущение возможности, не оставлявшее места для пессимизма, – и наша, орегонцев, задача заключалась в том, чтобы сохранить этот ген.
Я кивал ему в знак полного согласия и уважения. Я любил этого парня, хоть порой и думал: «Бог ты мой! Этот «путь» же был простой проселочной дорогой».
В то туманное утро, в то знаменательное утро 1962 года я только что проложил свою собственную, мысленную тропу – обратно домой спустя семь долгих лет. Странно было вновь оказаться дома, странно было вновь оказаться под дождем, лившим не переставая. С моими родителями и сестрами-близняшками теперь жил словно другой человек, спавший все еще в моей постели. И глубокой ночью я, случалось, лежал на спине, уставившись взглядом на свои учебники для занятий в колледже, на кубки и наградные голубые ленты, полученные мною в школьные годы, и думал: «Я ли это? Все еще?»
Я ускорил бег. От холода я выдыхал облачка пара, которые, закручиваясь сначала в клубки, быстро поглощались туманом. Это физическое пробуждение, этот чудесный момент перед тем, как сознание полностью прояснится, а в конечностях и суставах начинает ослабевать напряжение, и материальное тело начинает как бы растворяться. Терять как будто бы форму.
Быстрее, говорил я себе. Быстрее.
А ведь на бумаге выходило, что я взрослый. Окончил хороший колледж – Университет штата Орегон. Получил степень магистра в лучшей бизнес-школе – Стэнфорде. Выжил после года службы в армии США – в Форт-Льюисе и Форт-Юстисе. Строчки в моём резюме сообщали, что я образованный, опытный солдат, полностью сформировавшийся 24-летний мужчина… Так почему же, почему же я все еще чувствую себя ребенком?
И даже хуже: я чувствовал себя все тем же застенчивым, бледным, худым как щепка мальчишкой, каким всегда был.
Может, потому, что я все еще ничего не испытал в жизни. Не говоря уже о немногочисленных соблазнах и волнениях. Я и сигареты еще не выкурил, и дури не попробовал. Не нарушил ни одного правила, не говоря уж о законе. 1960-е годы, годы бунтарства, уже неслись во весь опор, а я оставался единственным человеком во всей Америке, не начавшим свой бунт. Я и представить себе не мог, что сорвусь с цепи, сделаю что-то неожиданное.
У меня даже девушки никогда не было.
Пожалуй, сожалениям об упущенных возможностях я предавался очень часто, но у этого была простая причина – это я делать умел лучше всего. А вот об имеющихся или грядущих возможностях думать было куда сложнее. Как и всем моим друзьям, мне хотелось добиться успеха. Но, в отличие от моих друзей, я не представлял, что вообще такое успех. Деньги? Возможно. Жена? Дети? Дом? Несомненно, но только если мне повезет. Меня приучили стремиться к этим целям, и какая-то часть моей личности действительно стремилась к ним – инстинктивно. Но в глубине души я искал нечто иное, нечто большее. Какое-то ноющее чувство подсказывало мне, что наше время коротко, оно короче, чем мы думаем, оно так же коротко, как утренняя пробежка, а я хотел, чтобы мое время было наполнено смыслом. Было целеустремленным. Творческим. Важным. И превыше всего… особенным.
Я хотел оставить свой след в мире.
Хотел победить.
Нет, не то. Я просто не хотел проиграть.
И тогда это и произошло. Когда забилось с силой мое молодое сердце, когда мои легкие раскрылись, когда деревья покрылись густой зеленой дымкой, я с ясностью увидел перед собой всё, к чему стремлюсь и чем именно должна стать моя жизнь. Игрой.
И тогда я подумал: вот оно. То самое слово. Тайна счастья, как я всегда предполагал, суть красоты, или истины, или всего того, что нам вообще следует знать о том или другом, скрывалась где-то в том мгновении, когда мяч зависает в воздухе, когда оба боксера предчувствуют скорый удар гонга, когда бегуны приближаются к финишной черте, а толпа зрителей встает в едином порыве. Есть некая бьющая энергией через край торжествующая ясность в этой пульсирующей полусекунде перед тем, как решится вопрос о победе и проигрыше. Я хотел, чтобы это, чем бы оно ни было, стало моей жизнью, моей каждодневной жизнью.
Когда-то я мечтал стать известным писателем, знаменитым журналистом, великим государственным деятелем. Хотя заветным желанием всегда было стать великим спортсменом. К сожалению, судьбой мне было предначертано стать хорошим, но не великим. В двадцать четыре года я с этим наконец смирился. Я занимался бегом, во время учебы в Орегонском университете даже смог добиться заметных успехов и в течение трех из четырех лет студенчества имел право ношения логотипа университета на спортивной форме как постоянный участник и призер соревнований. Но это был конец. Теперь же, нарезая каждые шесть минут одну милю за другой, когда восходящее солнце уже освещало своими лучами хвою на нижних ветвях сосен, я спрашивал себя: а что, если бы нашелся способ, не будучи спортсменом, почувствовать то же, что чувствуют спортсмены? Играть вместо того, чтобы работать? Или же извлекать из работы столько удовольствия, что она, по существу, становилась бы игрой.
Мир был настолько перегружен войнами, болью и страданиями, а ежедневная рутина трудовых будней была настолько утомительна и зачастую несправедлива, что я думал даже: единственным ответом было бы найти какую-нибудь сногсшибательную, невероятную мечту, которая оказалась бы стоящей, приносящей радость и вписывающейся идеально в жизненные планы. Найти – а потом преследовать ее, как спортсмен, без колебаний и сомнений, целеустремленно и преданно. Нравится вам это или нет, но жизнь – игра. Опровергающий эту истину или отказывающийся играть оказывался в итоге выброшенным на обочину, а я такой участи не хотел. Не хотел этого сильнее, чем чего бы то ни было.
Как и всегда, подобные размышления привели меня к моей Безумной идее. Может быть, мне стоит еще разок взглянуть на свою Безумную идею. Может, моя Безумная идея вдруг… сработает?
Может быть.
Нет, нет, думал я, все ускоряя свой бег, будто одновременно и преследуя, и убегая. Она сработает. Богом клянусь, я сделаю так, что она срабоет. Без всяких «может быть».
Я улыбнулся неожиданно для себя самого даже. Едва ли не рассмеялся даже. Весь в поту, продолжая бежать, привычно, расслабленно и ловко, я видел перед собой свою сверкающую в лучах Безумную идею, но больше безумной она мне уже не казалась. Она даже идеей уже не была. Скорее она выглядела как некое место. Как некая жизненная сила, которая была задолго до меня, была отдельно от меня, при этом была и частью меня самого. Ожидая меня и одновременно прячась от меня. Все это, возможно, звучит несколько высокопарно, отчасти безумно. Но именно такие чувства я тогда испытывал.
Или, быть может, не испытывал. Возможно, память моя раздувает этот момент внезапного вдохновения – «Эврика!» или же объединяет в одно множество таких моментов озарения. А может быть, это всё была просто эйфория бегуна. Не знаю. Не могу сказать. Довольно воспоминаний о тех днях, месяцах и годах, в которых они покоятся, будто рассортированные в картотеке. Они растаяли, как те облачка пара, вылетающие при дыхании. Лица, числа, решения, казавшиеся когда-то неотложными и безоговорочно неизменными, все они канули в вечность.
Однако есть одна абсолютная правда, утешительная уверенность, которая вас никогда не покинет. В возрасте 24 лет ко мне действительно пришла Безумная идея, и каким-то образом, несмотря на головокружение от экзистенциальной тоски, страхи по поводу будущего и сомнения в себе, испытываемые мною, как и всеми молодыми людьми старше 20, но еще не достигшими 30, я действительно пришел к выводу, что весь мир стоит на безумных идеях. История – это один длинный гимн безумным идеям. Все мои любимые занятия в жизни – книги, спорт, демократия, свободное предпринимательство – начинались с безумных идей.
Впрочем, мало найдется идей настолько же безумных, как мое любимое занятие – бег. Оно тяжелое. Болезненное. Рискованное. Награды малочисленны и далеко не гарантированы. Когда ты бежишь по овальной беговой дорожке или по безлюдной дороге, у тебя нет никакого реального пункта назначения. По крайней мере, ни одного, который бы в полной мере оправдал твои усилия. Само действие превращается в цель. Дело не только в том, что впереди нет финишной черты, а в том, что ты сам определяешь, где ей быть. Какое бы удовольствие или выгоду ты ни получал от бега, идти они должны изнутри тебя. Все дело в том, в какую рамку ты обрамляешь то, что делаешь, и как продаешь это самому себе.
Это знает каждый бегун. Ты бежишь и бежишь, оставляя за собой милю за милей, и не знаешь наверняка даже, зачем бежишь. Ты говоришь себе, что своим бегом ты преследуешь некую цель, следуешь за каким-то порывом, но на самом деле ты бежишь потому, что альтернатива твоему бегу – остановка – до смерти пугает тебя.
Так что в то утро, в 1962 году, я сказал себе: пусть все назовут твою идею безумной… просто продолжай двигаться вперед. Не останавливайся. Даже думать не смей об остановке до тех пор, пока не достигнешь цели, и особо не заморачивайся о том, где она. Что бы ни случилось, просто не останавливайся.
Это был скороспелый, пророческий, срочный совет, который мне удалось дать самому себе, неожиданный, как гром среди ясного неба, но каким-то образом я сподобился им воспользоваться. Полвека спустя я верю, что это – лучший совет, а возможно, и единственный, который каждый из нас должен когда-нибудь получить.
Часть первая
Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее.
ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ. СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО И ЧТО ТАМ УВИДЕЛА АЛИСА, ИЛИ АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Безумная идея
Когда я собрался всё же с духом, чтобы рассказать отцу о своей Безумной идее, то сделал всё возможное, чтобы разговор состоялся с наступлением вечера. Лучшее время для общения с папой. Хорошо поужинав, он расслаблялся, располагался, вытянув ноги, в своем виниловом кресле в уголке, перед телевизором. До сих пор я могу, закрыв глаза, вспомнить смех аудитории в телестудии и резковатые звуки музыкальных заставок его любимых сериалов «Караван повозок» и «Сыромятная плеть». А в фаворитах у него ходил комик Ред Баттонс. Каждый эпизод начинался с песни Реда: «Хоу-хоу, хии-хии… странные творятся дела».
Я подвинул стул с прямой спинкой ближе к отцу, дожидаясь, пока не наступит очередная рекламная пауза. Я много раз репетировал про себя, что и как сказать, особенно с чего начать. «Это-о, пап, а помнишь ту Безумную идею, которая мне ещё в Стэнфорде пришла в голову?..»
Это случилось в одном из моих выпускных классов, на семинаре по предпринимательству. Я свою курсовую по профильному предмету посвятил обуви, и со временем эта тема превратилась из обычного учебного задания во всепоглощающую навязчивую идею. Всё же, будучи спортсменом-бегуном, в кроссовках я кое-что смыслил. А ещё, как человек, увлеченный бизнесом, я знал, что японские фотоаппараты совершили внушительный прорыв на рынке фотокамер, на котором прежде доминировали немцы. Так что в своей курсовой я доказывал, что японские кроссовки могут произвести аналогичный эффект. Поначалу эта идея заинтересовала меня, затем вдохновила и наконец покорила. Всё казалось таким очевидным, таким простым, таким потенциально грандиозным.
На написание курсовой ушли недели. Я буквально переехал в библиотеку, штудируя все, что мог найти об импорте и экспорте, о том, как создать компанию. А потом, на защите, выступил с официальной презентацией курсовой перед сокурсниками. Их реакцией была банальная скука. Никто не задал ни единого вопроса. Мои страстность и энергия были встречены тяжкими вздохами и бессмысленными взглядами.
Профессор посчитал, что моя Безумная идея заслуживает внимания: поставил мне «отлично». Но это – всё. По крайней мере, предполагалось, что на этом все закончилось. А я всё думал о своей курсовой. Думал до самого конца учебы в Стэнфорде, во время каждой утренней пробежки и вплоть до того самого разговора перед телевизором у нас дома я размышлял, как бы мне поехать в Японию, найти там обувную компанию и закинуть японцам свою Безумную идею в надежде получить от них более восторженную реакцию, чем от сокурсников, услышать, что они хотели бы вступить в партнерские отношения с застенчивым, худым как щепка мальчишкой из заспанного Орегона.
Я представлял также, как совершу экзотическое путешествие в Японию и обратно. Как мне оставить след в мире, если я его сперва не посмотрю? Перед большим забегом всегда хочется пройти по беговой дорожке и опробовать ее. Так что путешествие вокруг света, имея за плечами лишь рюкзак, резонно заключал я, это может быть как раз то, что надо. В то время никто не говорил о bucket-списках (списках заветных желаний, реализовать которые человек намерен до конца жизни. – Прим. пер.), но, думаю, это понятие ближе всего к тому, что было у меня на уме. Перед нырком в каждодневную рутину, перед дряхлой старостью и смертью я хотел посетить самые красивые и удивительные уголки планеты.
И самые святые. Я, разумеется, хотел попробовать иную пищу, услышать иную речь, окунуться в другую культуру, но то, чего я действительно жаждал, была связь с заглавной буквы «С». Я хотел испытать то, что китайцы называют Тао, греки – Логосом, индусы – Гьяной, буддисты – Дхармой. То, что христиане называют Святым Духом. Прежде чем пуститься в свое собственное, личное плавание по жизни, думал я, дайте мне прежде понять более великий путь, пройденный человечеством. Позвольте мне исследовать грандиозные храмы и церкви, святилища, святые реки и горные вершины. Позвольте мне ощутить присутствие… Бога?
Да, сказал я себе, да. Именно Бога – лучшего слова не подобрать.
Но сперва мне требовалось одобрение отца.
И его деньги, конечно же. За год до этого я уже упоминал о своих планах совершить большое путешествие, и, похоже, отец тогда был готов выслушать мою просьбу. Но наверняка он об этом забыл. И я, разумеется, собирался настаивать на этом, прибавив к первоначальному плану свою Безумную идею, эту дерзкую поездку с отклонением от основного маршрута. Посетить Японию? Чтобы организовать свою компанию? Бессмысленный разговор о бесполезной поездке.
Наверняка он посчитает, что я зашел слишком далеко, согласиться со мной означало бы сделать слишком большую уступку. И чертовски дорогостоящую. У меня были некоторые сбережения, сделанные за время службы в армии, включая зарплату за временную подработку в летнее время в течение нескольких последних лет. Сверх того я намеревался продать свою машину, темно-вишневый родстер «Эм-Джи» 1960 года с гоночными шинами и двумя распредвалами (такой же автомобиль водил Элвис в фильме «Голубые Гавайи»). В общей сложности это тянуло на тысячу пятьсот долларов, и мне не хватало еще тысячи, как я заявил отцу. Он кивал, хмыкал, издавал неопределенное «М-м-м-м» и переводил глаза от телеэкрана ко мне и обратно, пока я все это ему выкладывал.
Помнишь, как мы говорили, пап? Как я сказал, что хочу увидеть мир?
Гималаи? Пирамиды?
Мертвое море, пап? Мертвое море?
Ну, так вот, ха-ха, я также думаю сделать остановку в Японии, пап. Помнишь мою Безумную идею? Про японские кроссовки? Да? Это могло бы стать грандиозным делом, пап. Грандиозным.
Я сгущал и пересаливал, наседал, будто впаривал товар, перебарщивая, потому что всегда ненавидел торгашество и потому что шансы протолкнуть мой «товар» равнялись нулю. Отец только недавно раскошелился на сотни долларов, оплачивая мою учебу в Орегонском университете, и еще на многие тысячи – за Стэнфорд. Он был издателем газеты «Орегон джорнел», и то была отличная работа, обеспечивающая нам все удобства жизни, включая наш просторный белый дом на улице Клейборн, в самом тихом пригороде Портленда – в Истморленде. Но богачом отец не был.
А еще шел 1962 год. Земля тогда была больше. Хотя люди уже начинали кружить на орбите вокруг планеты в своих капсулах, 90 процентов американцев все еще ни разу не летали на самолете. Среднестатистический житель Соединенных Штатов в жизни не рисковал отходить от входной двери своего дома дальше чем на сто миль, так что даже простое упоминание о кругосветном путешествии на самолете расстроило бы любого отца, а моего-то особенно. Его предшественник в издательском кресле погиб в авиакатастрофе.
Да даже отметая в сторону деньги, отмахиваясь от соображений безопасности, вся эта затея все равно жизнеспособной не выглядела. Двадцать шесть компаний из двадцати семи прогорали, и это изестно было и мне, и моему отцу, и идея взвалить на себя такой колоссальный риск противоречила всему, за что он выступал. Во многом мой отец был обычным сторонником епископальной системы церковного управления, верующим в Иисуса Христа. Но втайне он поклонялся еще одному божеству – респектабельности. Дом в колониальном стиле, красивая жена, послушные дети – моему отцу нравилось все это иметь, но еще больше он дорожил тем, что его друзьям и соседям было известно, чем он располагает. Ему нравилось, когда им восхищались. Поэтому в его понимании идея отправиться вокруг света забавы ради была просто лишена смысла. Не делается так. Во всяком случае, не порядочными детьми порядочных отцов. Такое могли позволить себе дети других родителей. Такое вытворяли битники и хипстеры.
Возможно, основной причиной зацикленности моего отца на респектабельности была боязнь хаоса внутри самого себя. Я ощущал это нутром, поскольку время от времени этот хаос прорывался у него наружу. Бывало, раздавался телефонный звонок в гостиной на первом этаже – без предупреждения, поздно ночью, и когда я поднимал трубку, то слышал все тот же рассудительный голос: «Приезжай, забери-ка своего старика».
Я надевал плащ – в такие ночи всегда казалось, что за окном моросит дождь, – и ехал в центр города, в отцовский клуб. Этот клуб я помню так же отчетливо, как собственную спальню. Столетний, с дубовыми книжными полками от пола до потолка и креслами с подголовниками, он походил на гостиную английского загородного дома. В общем, респектабельность на высшем уровне.
Я всегда находил отца за одним и тем же столом, в одном и том же кресле, всегда бережно помогал ему подняться. «Ты в порядке, пап?» – «Конечно, в порядке». Я выводил его на улицу, к машине, и всю дорогу домой мы делали вид, что ничего не случилось. Он сидел совершенно прямо, почти в царственной позе, и мы вели беседу о спорте, поскольку разговорам о спорте я себя отвлекал, успокаивал во время стресса.
Отцу спорт тоже нравился. Спорт всегда респектабелен. По этим и дюжине других причин я ожидал, что отец отреагирует на мой зондаж у телевизора быстрым уничижительным высказыванием вроде: «Ха-ха, Безумная идея. Ни малейшего шанса, Бак». (Мое имя с рождения Филипп, но отец всегда звал меня Баком. Вообще-то он звал меня так еще до моего появления на свет. Мама рассказывала мне, что у него была привычка поглаживать ей живот и спрашивать: «Как там сегодня поживает маленький Бак?») Однако как только я замолчал, как только я перестал расписывать свой план, отец качнулся вперед в своем виниловом кресле и уставился на меня смешливым взглядом. Сказал, что всегда сожалел, что в молодости мало путешествовал. Сказал, что предполагаемое путешествие может добавить последний штрих к моему образованию. И много чего еще сказал. И пусть все сказанное было больше сконцентрировано на поездке, нежели на Безумной идее, я и не думал поправлять его. Не собирался я и жаловаться, поскольку в итоге он давал мне благословение. И деньги. «О’кей, – сказал он. – О’кей, Бак. О’кей».
Я поблагодарил отца и выскочил из уголка, где он смотрел телик, прежде чем у него появился бы шанс передумать. Лишь позже я с чувством вины осознал, что именно отсутствие у отца возможности путешествовать было скрытой, а возможно, и главной причиной того, что я хотел отправиться в поездку. Эта поездка, эта Безумная идея оказались бы верным способом стать другим, чем он. Менее респектабельным.
А возможно, и не менее респектабельным. Может, просто менее одержимым респектабельностью.
Остальные члены семьи оказались не настолько благосклонны. Когда моя бабушка пронюхала о моем маршруте, один из пунктов назначения в особенности разволновал ее. «Япония! – вскричала она. – Зачем, Бак? Всего лишь несколько лет тому назад япошки намеревались перебить нас! Ты что, забыл? Перл-Харбор! Японцы пытались завоевать весь мир! Некоторым из них невдомек, что они проиграли! Они маскируются! Они могут захватить тебя в плен, Бак. Выколоть тебе глаза. Они так делают, это все знают… Твои глаза!»
Я любил бабушку, мать своей матери. Мы все звали ее мамаша Хэтфильд. И я понимал ее страх. До Японии было почти так же далеко, как до Розберга, фермерского поселка в штате Орегон, где она родилась и прожила всю свою жизнь. Много раз я проводил там лето у бабушки и деда Хэтфильдов. Почти каждый вечер мы усаживались на крыльце, слушая, как кваканье синеногих литорий (здоровенных лягушек-быков, издающих звуки, больше похожие на мычание, – откуда их английское название, – а не на кваканье. – Прим. пер.) соперничает со звуками напольного радиоприемника. В начале 1940-х радио у всех было настроено только на трансляцию новостей о войне.
А новости эти всегда были плохими.
Нам многократно сообщали, что японцы не проиграли ни одной войны за последние 2 600 лет и, похоже, и нынешнюю проигрывать не собирались. Битву за битвой наши войска терпели поражения, пока наконец в 1942 году Гэбриэл Хиттер, работавший в радиосети «Мьючуал бродкастинг», не начал свое ночное радиосообщение с пронзительного восклицания: «Всем добрый вечер – сегодня есть хорошие новости!» Американцы наконец-то одержали победу в решающей битве. Критики буквально на шампур насадили Хиттера за его беззастенчивый оптимизм, схожий с пританцовыванием девушек из группы поддержки на стадионе, за отказ от любых претензий на журналистскую объективность, но ненависть публики к Японии была настолько сильна, что большинство радиослушателей приветствовали Хиттера как народного героя. После этого он неизменно начинал свои радиорепортажи с фразы: «Хорошие новости к сегодняшнему вечеру!»
Из моих самых ранних воспоминаний: бабушка и дедушка Хэтфильды сидят со мной на крыльце, папаша Хэтфильд снимает карманным ножиком кожуру с желтого яблока сорта гравенштейн, отрезает и дает мне кусочек, съедает такой же сам, затем дает мне следующий и повторяет все снова и снова до тех пор, пока вдруг резко не замедляется. В эфире Хиттер. Тсс! Тише! Я все еще вижу, как мы все сидим и жуем яблоки, глазея на ночное небо, будучи настолько поглощены мыслью о Японии, что чуть ли не ожидаем увидеть, как японские истребители «Зеро» проносятся на фоне созвездия Большого Пса. Неудивительно, что во время моего первого в жизни полета на самолете, когда мне было лет пять, я спросил: «Пап, нас япошки не собьют?»
И пусть слова мамаши Хэтфильд меня, откровенно, напугали, что аж волосы на голове зашевелились, я стал уговаривать ее не волноваться, повторяя, что все у меня будет в порядке и что я даже привезу ей кимоно в подарок. Моим сестрам-близнецам, Джин и Джоан, на четыре года младше меня, похоже, было абсолютно все равно, куда я отправлялся и что я делал.
А вот моя мама, как помню, ничего не сказала. Она вообще редко высказывалась. Но на этот раз в ее молчании чувствовалось нечто иное. Что-то похожее на одобрение. Даже на гордость.
Я затратил недели на планирование и подготовку к поездке. Совершал длинные пробежки, раздумывая на бегу над каждой деталью и одновременно соревнуясь с дикими гусями, пролетающими надо мной в плотном V-образном строю. Я где-то вычитал, что гуси, пристроившиеся в конце клина и использующие как подъемную силу завихрения восходящего воздушного потока, образуемые впереди летящими, – обратную тягу, затрачивают лишь 80 процентов энергии по сравнению с вожаком и летящими в авангарде сородичами. Каждому бегуну это понятно. Бегущим впереди всегда приходится труднее, и они рискуют больше других.
Задолго до того, как я обратился к отцу, я решил, что было бы хорошо иметь в поездке спутника. И им должен стать мой сокашник по Стэнфорду Картер. Хотя он и был звездой по кручению обруча в колледже имени Уильяма Джюэлла, Картер не стал типичным студентом-спортсменом, недалеким и помешанным на спорте. Он носил очки с толстыми стеклами и читал книги. Хорошие книги. С ним было легко говорить и легко молчать – в равной степени важные качества друга. Жизненно необходимые для спутника при совместном путешествии.
Но Картер рассмеялся мне в лицо. Когда я положил перед ним список мест, которые хотел бы посетить, – Гавайи, Токио, Гонконг, Рангун, Калькутту, Бомбей, Сайгон, Катманду, Каир, Стамбул, Афины, Иорданию, Иерусалим, Найроби, Рим, Париж, Вену, Западный Берлин, Восточный Берлин, Мюнхен, Лондон, – он сложился пополам и захохотал. Я опустил глаза и стал извиняться, после чего Картер, продолжая смеяться, проговорил: «Какая клевая идея, Бак!» Я оторвал глаза от пола. Он надо мной не смеялся. Он смеялся от радости, с ликованием. Он был впечатлен. Нужно действительно иметь смелость, чтобы составить подобный маршрут, сказал он. Точнее, железные яйца. Он хотел войти в команду.
Спустя несколько дней он получил «добро» от своих родителей, а также кредит от отца. Картер никогда не суетился без толку. Увидел лазейку – жми вперед! – таков был Картер. Для себя я решил: мне многому можно было бы научиться у такого парня, путешествуя с ним вокруг света.
У каждого из нас с собой было по одному чемодану и одному рюкзаку. Только самое необходимое, как мы договорились друг с другом. Несколько пар джинсов, несколько футболок. Кроссовки, обувка для пустыни, солнцезащитные очки плюс пара летнего солдатского обмундирования – сантан (слово, обозначавшее в 1960-х легкую армейскую форму защитного цвета «хаки»).
Упаковал я и один хороший костюм. Зеленый, с двумя пуговицами, от Brooks Brothers. Просто на тот случай, если моя Безумная идея даст плоды.
* * *
7 сентября 1962 года погрузились мы с Картером в потрепанный старый «Шеви» и рванули на запредельной скорости по межштатной автостраде 15, через долину Вилламетт, прочь из лесистого юга штата Орегон, и впечатление было такое, будто мы продираемся сквозь корневища огромного дерева. Выскочили на заросшие соснами горные вершины Калифорнии, перебрались через зеленые перевалы высоко в горах, а затем помчались все ниже, ниже, до тех пор, пока уже далеко за полночь не въехали в Сан-Франциско. Несколько дней провели у друзей, спали у них на полу, а затем заскочили в Стэнфорд и взяли с собой кое-какие вещи, находившиеся там у Картера на хранении. Наконец заскочили в винный магазин и приобрели там два билета со скидкой на самолет авиакомпании «Стандарт Эйрлайнз» в Гонолулу. В одну сторону, за 80 долларов.
Казалось, прошло каких-то несколько минут, и мы с Картером ступили на песчаную полосу аэропорта Оаху. Мы выкатили свой багаж, взглянули на небо и подумали: нет, небо не такое, как дома.
Стайка красивых девушек с нежными взглядами и оливковой кожей шагнула нам навстречу. Они были босыми, с гиперподвижными бедрами, на которых подергивались и шуршали их юбки из травы. Мы с Картером переглянулись, и наши губы расплылись в медленной улыбке.
На такси мы доехали до пляжа Вайкики, там зарегистрировались в мотеле – через дорогу от моря. В одно мгновение побросали свой багаж и натянули плавки. И наперегонки к воде!
Как только мои ноги коснулись песка, я завопил, рассмеялся и сбросил свои сандалии, после чего рванул бегом прямо в волны. Я не останавливался до тех пор, пока не оказался по шею в пене. Нырнул, достав до самого дна, а затем вынырнул, хватая ртом воздух и смеясь, и перевернулся на спину. Наконец, спотыкаясь, вышел на берег и шлепнулся на песок, улыбаясь птицам и облакам. Наверное, со стороны я напоминал пациента сумасшедшего дома. У Картера, сидевшего рядом со мной, было такое же безумное выражение лица.
«Нам надо остаться здесь, – сказал я. – К чему спешить с отъездом?»
«А как же План? – спросил Картер. – Объехать вокруг света?»
«Планы меняются».
Картер усмехнулся: «Классная идея, Бак».
Поэтому мы нашли себе работу. Продавать энциклопедии наразнос, от двери до двери. Не самое гламурное занятие, но, черт подери, зато смена начиналась не раньше семи часов вечера, что оставляло нам массу времени для серфинга. Неожиданно ничего важнее того, чтобы научиться серфингу, не осталось. Потребовалось всего несколько попыток, чтобы я уже мог стоять во весь рост на доске, а спустя несколько недель смотрелся совсем молодцом. Действительно был неплох.
Bepul matn qismi tugad.