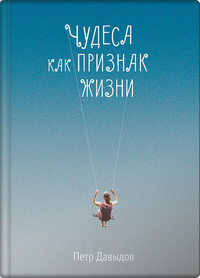Kitobni o'qish: «Чудеса как признак жизни»
© Давыдов П. М., 2019
© Фонд социокультурных проектов «Традиция», 2019
Переводчик Юрского периода

Давно подмечено, наверное с первых дней нашего радостного странствия вне покинутого рая: осудив кого-либо другого кроме себя любимого, человек неизбежно впадает ровно в то же самое, за что осмелился осудить ближнего, а то и похлеще. Закон этот не только духовный, но и самый что ни на есть физический, материальный, ощутимый – последствия осуждения скажутся и на душе, и на теле. «Не судите да не судимы будете» (Мф. 7,1), «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает» (Рим. 14, 4). Христос и апостолы говорят о вреде осуждения не только евреям, пришедшим на гору в Галилее, или римским христианам первых лет. Закон о недопустимости осуждения непреложен, как и факт, что чем-либо похвастаться мы, христиане нынешнего века, вряд ли способны перед предками. Разве что грехами, но тут лучше промолчать.
Прививая человеку навыки неосуждения, Бог использует все методы – от жестких, весьма и весьма чувствительных, до не менее доходчивых, но, как бы это выразиться правильнее, методов помягче: часто прибегая к шутке, иронии. Хорошо, если человек найдет в себе силы улыбнуться вместе с Христом и, конечно, попытается исправиться.
Хороший урок мне преподали переводчики. С большим удивлением я обнаружил, что один из главных законов их славной братии – «Не осуждай того, кто переводит, – неизвестно, во что сам вляпаешься». Хм, интересно, думаю. Язык либо знаешь, либо нет, и переводить ты просто обязан хорошо. Так же хорошо, как я, а не как эти вот, которые двух слов связать не могут. Неучи. Ох и издевался же я над ошибками разволновавшихся собратьев! Угу, недолго, правда.
Крестный, родившийся в Париже в семье эмигрантов первой волны, жутко ревновал к моему немецкому происхождению и требовал, чтобы я освоил французский. «Учи, крокодил, французский – пригодится!» – кричал. Я ему орал (по-немецки, разумеется, потому что это еще больше выводило его из себя) в ответ, что успею добраться и до его галльских изысков, и Экзюпери его несчастного прочитаю, благо «Маленький принц» на каждом углу в его Париже продается: «Оставь меня в покое, мне с германскими языками разобраться надо, вот». Тот махнул рукой, но подсунул мне все-таки какой-то учебник: «Хоть в автобусе почитаешь. Может, не сразу опозоришься. А вообще, молчи лучше, ладно?» Ехал я, понятное дело, во Францию. По горам погулять, воздухом подышать.
Мне – что, я ж гений, ну почти: языки быстро схватываю. Пока ехали, пару оревуаров освоил. Всё. Бурже отдыхает, Экзюпери стыдливо краснеет, Марсель забился под лавку.
Слабым поводом для снисхождения к писателям и прочим французам послужили Юрские горы1, красота которых вдохновила в свое время не только археоптериксов с брахиозаврами, но и чуть позднее – путешественника с немецкими корнями. Достойное спокойствие, размеренная мощь древней природной твердыни, музыкальный шум буковых и еловых лесов, которому иногда подпевают серебряные родники и водопады, – для достойного описания требуется Карамзин, ну или кто-нибудь из французов, так и быть.
Кто-нибудь как раз появился – в лице, правда, не француза, а француженки, миловидной юной крестьянки, вышедшей ранним утром из своего домика и радостно потягивавшейся на крыльце. Перед домиком – луг, по которому бродит огромный черный конь. Д’ Артаньяну такие в молодости только снились. В смысле – кони, конечно.
Раннее утро. Девушка смотрит с удивлением на вышедшего из горного леса странника с огромным рюкзаком за плечами. Я тожепялюсь – то на крестьянку, то на ее лошадину непомерных размеров. А у живота лошадины, смотрю, кружатся мухи: какая-то ранка, видимо, зацепился за что-то.

В таких достойных и дружелюбных местах необходимо не только пожелать друг другу доброго утра – надо и парочкой фраз переброситься: о погоде, красоте и жизни. И вообще я кофе выпить не против – сонливость согнать. Завязываю (вежливо) беседу – говорю сей юной пастушке, что, мол, утро доброе, но, похоже, лошадка ваша недомогает. Лошадь, говорю, у вас больная, видимо. И пальцем то в коня, то в девушку тычу.
Так я начал седеть. Знаете, бывает такое, что ты знаешь, что делаешь что-то неправильное, но остановиться уже не можешь. Случилось это и со мной: я понимаю, что вместо «Ваша лошадь больна, мадам» («Votre cheval est malade») говорю «Мадам, вы – больная лошадь» («Vous etes un cheval malade»), причем говорю это с ужасающим немецким акцентом. С тем же акцентом можно в русской деревне пропеть «Идет солдат по городу, по незнакомой улице» и получить доброго утра от души.
В общем, я седею от ужаса, проклиная свою лень в изучении французских притяжательных местоимений и призывая на помощь молитвы крестного, а бедная крестьянка оцепенела. Немая сцена. Гутен морген.
Крестный точно молился: девушка как расхохоталась! Стою, цвета меняю от стыда, а она хохочет. Махнула рукой: «Доброе утро! Заходи давай. Устал, поди, с дороги». Зашел, конечно, заизвинялся. Та простила великодушно, кофе с печеньками на террасу поставила. Правда, посмеивалась время от времени, когда я ей про свои странствия рассказывал (от акцента я так и не избавился).
Расстались по-доброму. Она мне на память бутылку местного вина подарила. Мы ее с крестным потом выпили. Еще раз посмеялись над последствиями вавилонской истории, обеспечившей работой армию переводчиков. Которых я теперь ни в коем случае не осуждаю. «Начни хотя бы с них. Лошадь ты, лошадь! – говорит крестный. – Шевалье – два уха».
Остров коровищ

Нет, по-моему, других двух народов в Европе, которые испытывают друг к другу столь интересные чувства, как русские и немцы. У нас – то драка от Кремля до Рейхстага, то дружба: Европу вместе делим или фамилии царские основываем. Вроде бы несовместимы известное наше «авось» и не менее известное их «яволь». А ведь, тем не менее, кто из европейских народов знает недостатки и положительные качества друг друга лучше этих двух?
Для французов Европа кончается за Рейном. Дальше, убеждены они, начинаются земли варваров, пьющих пиво и гогочущих в самый неуместный момент. Ясновельможные поляки опять-таки убеждены: за Бугом проживают неудачные потомки просвещенных славян. И ведь иногда за эту свою убежденность ой как им доставалось: то немцы ходят по Парижу, то русские по Варшаве… То наоборот. Для китайцев, наверное, проблемы взаимоотношений европейцев вообще непонятны: мы для них все на одну широкоглазую физиономию.
Исполненный такими противоречивыми мыслями, я навестил однажды весной своих знакомых в городе-герое Ганновере. Имея богатый опыт общения с немцами и с горечью убеждаясь, что многие из них решительно ничего ни о России, ни о русских не знают, кроме того что им показывают тамошние массмедиа, разговор с незнакомыми, которых мне представляли друзья, я обычно начинал так: «Да, я русский, живу в России, нет, в Москве (город такой) по Кремлю медведи не ходят, пользоваться шариковой ручкой, велосипедом и компьютером умею». Помогает!
Дальше разговор проходил в более располагающей к дружественным контактам атмосфере. Вечерами дело доходило даже до юмора: анекдоты травили. Сидишь перед тремя немцами, рассказываешь в третий уже раз про Вовочку и давишься от хохота. Те тупо молчат: «Когда смеяться?» – «Ладно, проехали, вы свой расскажите». Те аж икают от смеха – такой вот смешной анекдот про Фрицхен, а сам думаешь, что даже Петросян веселее. Пришли к выводу: русский юмор немцам не понять, потому что он бывает слишком мрачным, немецкий юмор нашим лучше не слышать – совсем тяжелый. Ну хоть друг над другом посмеялись. И до сих пор смеемся.
Дошло до того, что попросил один товарищ помочь ему дрова достать. «Есть, – говорит, – у меня домик охотничий в лесу. Надо пару деревьев свалить, дрова напилить. Помоги, а?» О чем разговор, думаю, поехали. Домик и впрямь в лесу. В буковом. Буковый лес по-немецки – «бухенвальд». Во, думаю, попал: что ни слово, то задумаешься. Так или иначе, работал я на немецком лесоповале.

Домик охотничий сильно смахивал на «хрущевку» после ядерной войны – ни тебе раковины, ни туалета. Только буковый лес и спасал… Зато с едой проблем никаких не было: чуть пробрал голод, берешь ружье и идешь на охоту. Кабанов там видимо-невидимо, косуль тоже. По вечерам пиры устраивали. Вот только сама охота в Германии ни в какое сравнение с нашей, русской, по-моему, не идет.
У нас по лесу походить надо, поискать – иногда долго, – пока услышишь, где глухарь токует, или тем более лося увидеть! Немецкий охотник проходит или, что чаще, проезжает пару километров до своего лабаза, поднимается, открывает дверь и окна, достает сигареты и ждет. В трех километрах шумит автобан, чуть дальше виден огромный супермаркет. Из леса выходит к кромке поля косуля. Прошла еще пять метров – всё, ужин обеспечен. Вот и вся тебе зажигательная охота.
Товарищ мой – таксидермист по профессии, чучела делает. Многие охотники просят его сохранить их трофей для следующих поколений. Всего кабана или косулю брать дорого, да и не очень удобно, заказывают у него поэтому головы добытых животных – красиво смотрятся дома на стенах. Так этот товарищ опять попросил меня ему помочь. Выкатил из дома огромный котел, развел огонь и говорит: «Слушай, тут черепа надо бы проварить, на чучела пойдут. Ты последи, будь другом!» – «Ну, парень! Мало того, что в бухенвальде, так еще и черепа варить?! Ладно, давай». Так вот и варил: утром вставал и, вздыхая и кряхтя, танцевал вокруг этого огромного котла. Зрелище, уверяю, не для детского сада: хуже Бабы-яги или фрау Холле.
Немцы в округе, понятное дело, пронюхали, что у них в лесу поселился русский и черепа варит. Смотреть на меня стадами ходили – якобы мимо шли. Иногда в дом заходили – поговорить им хотелось, – пиво с собой приносили.
«Ребята, – говорю, – вы к нам давайте! У нас места знатные, зверя много!» – «Денег нет».
Для немца «нет денег» – это не тогда, когда в кошельке и вправду смерч, а тогда, когда хочется купить еще что-нибудь, но жалко. Привыкли к достатку. Приехал старичок на «мерседесе» и жалуется: пенсия, мол, маленькая. Тебя бы, думаю, по местам боевой славы провезти – по деревням нашим. Там пожалуйся! На сей раз в плен не возьмут – на месте линчуют.
Обратил, кстати, внимание, что немцы, побывавшие в России, относятся к ней с большим уважением. Даже если в плену побывали. Очень любят наших бабушек, очень не любят наши дороги. Разделил с ними мнение. Однажды разговорился с одним тамошним ветераном о войне – тема для немцев больная. «Почему с такой мощной армией вы войну продули?» – «А мы города занимали. Ваши-то все сразу в леса подались. Не побежишь же за ними! Время подошло – из лесов и вышли. Не будешь ведь в городе сидеть да ждать, пока хозяева разбираться придут, – вот и отступили. А вообще – правильно вы нас тогда». Кончаются такие разговоры чаще всего слезами и тостами за вечный мир и дружбу. Да и можем мы в мире-то жить – раз уж смеемся друг над другом.
Черепа поднадоели изрядно. Хоть и вареные, а все-таки. В общем, ударился в пасторальную романтику и сельский труд: пошел в батраки. Стал ухаживать за коровами, в поле работать. Так понравилось, настолько втянулся, что и не заметил, как оговоренный срок работы подошел к концу. Говорим вечером на завалинке, наблюдая немецкий закат: «Слушай, мне ж завтра уезжать!» – «Да ну?! Оставайся!» – «Нет, не могу. Хватит с меня вашей романтики».
Взгрустнул хозяин. Потом встрепенулся: «Знаешь что? Покупай корову!» Я, правда, испугался. «Ты чего, – говорю, – совсем устал? Давай уж и седло сразу приладим! Здорово меня дома встретят: от самой границы довезут с коровой. На скорой-то». – «Не, ты не понял. Смотри: покупаешь у меня корову – я тебе выписываю сертификат. Ты получаешься ее собственник. Корова-то здесь пусть остается – я за ней ухаживать буду. Молоко от нее получать. Мол, беру ее у тебя в аренду – проценты тебе идти будут. А ты за ними приезжай в любое время – заодно и подработаешь».
Ну, и настолько меня вся эта затея впечатлила своей оригинальностью и простотой, что я согласился: купил себе очаровательную коровищу бельгийской какой-то породы. Местные совсем обалдели: странные русские не только черепа варят, но еще и коров скупают. Хутор стоит вдали от другого жилья, так я его «Остров коровищ» прозвал. Тут моя коровушка, тут мои сокровища сельскохозяйственные.
Так и ездил потом некоторое время на этот самый «Остров коровищ» – и работал, и с людьми хорошими общался, и просто жизнь узнавал. Интересная она, жизнь. Бывает, даже веселая. И слава Богу.
Несофринские самаряне

Дебил стоял на остановке и приставал к каждому встречному, стремясь обнять и расцеловать.
Глупая улыбка, слюни, сопли, бессвязное мычание – порядочные прохожие в ужасе отшатывались. Особо благочестивые, издалека приметив паренька, готовили монетку-другую и, увертываясь от объятий, брезгливо подавали, стремясь попасть в раскрытую ладонь счастливого дебила. Привокзальные завсегдатаи – панки, бомжи и прочие сливки общества – веселились вовсю, иногда подбадривая паренька и освистывая тех бюргеров, кому не удалось не испачкаться. Кто-то из холеных прохожих проронил что-то вроде: «Таких раньше у нас подальше отвозили, они порядочным людям жить не мешали». Под «раньше», судя по вздохам и возрасту, подразумевалось старое доброе время тридцатых-сороковых. Паренек ничего не знал ни о тридцатых, ни о сороковых. У него были свои заботы. Какие-то особые, одному ему ведомые. И довольно серьезные. Не зря же он вдруг иногда садился у фонарного столба и начинал плакать, развлекая веселую, но заскучавшую вокзальную публику.
Так продолжалось около получаса, пока все не замерли в предвкушении давно ожидаемого вопля, ругани и истерики: в сторону дебила шла потрясающей красоты и со вкусом одетая девчонка. Сейчас, когда этот сопливый на нее накинется с объятиями, и визг будет, и истерика, и хохот, соответственно. Дебил кинулся к ней… и остался в ее объятиях: девчонка крепко прижала его к себе, говорила что-то. Слюни стекали по курточке и шарфу – девчонка продолжала говорить полушепотом. Они, обнявшись, раскачивались в такт, выделывая какие-то па. Приготовившаяся было публика разочарованно закурила свои самокрутки, наблюдая, как дебил вновь сел под фонарь, а за ним подсела и девчонка – «Слюнявая Красавица», как ее уже успели обозвать. Сопливый вновь заревел, уткнувшись в плечо «Слюнявой», которая гладила его по голове. Так они и сидели какое-то время.
Народ глазел вовсю молча. Наконец от группы зрителей отделилось что-то вроде панка и, покачиваясь, приблизилось к двум сидящим на земле. Панк подошел к ним вплотную и встал на колени перед ними. Сделал земной поклон обоим. Когда он встал, он тоже плакал.
Девчонка встала с земли, обняла на прощание несчастного, продолжавшего свое мычание, и ушла – запрыгнула в подъехавший поздний трамвай. Вечерняя жизнь Бремена продолжалась.
Я был в Бремене долго, больше недели. Но, честное слово, единственная, настоящая достопримечательность города – это не собор, не набережная, не мельницы, а этот вот эпизод из вечерней жизни города.
* * *
Вспоминаю время беспечной и вовсе не обеспеченной юности, полной свободы, новых стран, просторов и путешествий. На необеспеченность смотрелось не просто весело, а с вызовом даже: мол, посмотрим, кто кого.
Годы автостопа, ночевок в германских и французских лесах, бельгийских телефонных будках, на шведских кладбищах, полях Люксембурга (не смейтесь – нашел и это), в горах Швейцарии, арабских песках – много всякого было. Хуже всего – это когда не ешь пару дней, не пьешь полдня и спишь на ходу ночью. И жить-то, главное, охота – страсть! Несмотря на буквально съедающий тебя холод. Бывали моменты, когда оптимизм сильно уменьшался.
И вот в один из таких уменьшительно оптимистических моментов, в феврале, под проливным снежным дождем, я пропустил последний уходящий в Данию паром. Всё. Приехали. Следующий – только через пару дней. Ночевать негде, да и не на что. Телефонные будки в Гётеборге открытые – тоже не вариант для ночлега. Мерзкая погода, пронизывающий ветер, мокрый снег, мокрые ноги. Бреду по улицам, стараюсь не смотреть на сверкающие окна кафе и ресторанов, где поедают непостную еду еретики и прочие шведы. Короче, грустно всё. И море бушует.

Вдруг сзади голос: «Ты чего такой пасмурный? Хуже погоды!» С участием кто-то спрашивает, не издевается. Почему бы и не ответить? Так и так, отвечаю, веселый у вас городок. И улыбку, соответственную случаю, продемонстрировал. Получилось! «Слушай, хватит тут помирать, народ пугать. Я тут живу неподалеку – пошли ко мне! Поешь, переночуешь. Я ж вижу, что нелегко». Я, честно, встревожился: «Не-не-не! Я не из „этих“, понял?!» «Не городи ерунды. Все нормально. Помощь тебе предлагаю, понял?» – искренне сказал парень, даже обиделся.
Хотя потом признался, что и понять мою тревогу мог вполне: мало ли там кто по городу ошивается. Впрочем, и меня тоже тогда можно было испугаться: так себе вид. В общем, пригласил меня к себе домой, приготовил потрясающий ужин, после которого мы с ним до полуночи беседовали «за жизнь». Парень оказался из Ирана. «Я, – говорит, – самый настоящий перс! Зороастриец! Аты откуда? О, христианин! Расскажи!» И так далее. Рассказывали друг другу новости-старости из России и Персии, удивлялись, смеялись.
Наутро он отвел меня до автобусной остановки, поговорил о чем-то с шофером, тот моргнул другому – так или иначе, в тот же день я оказался в нужном мне датском городе. Сытый, выспавшийся и довольный жизнью и новым приключением.
Таких вот случаев, когда люди предлагали от всего сердца кров, ночлег и еду, я могу перечислить множество. То ровесник в Будапеште спасает тебя из насквозь промерзшего зала ожидания вокзала, то ночью французский араб подбирает тебя, потерявшего последнюю надежду, на автостопе где-то под Нантом, то супруги-голландцы вытаскивают из реки, куда провалился, то немцы спасают от смерти, – случаев, повторюсь, очень много.
Два случая крепко запомнились. С чеченцами. Первый – самый неприятный – был в поезде из Варшавы в Берлин. В купе оказались четверо: молодой чеченец, англичанин, полячка и я. По натуре я человек не из разговорчивых, поэтому сидел в стороне, в беседу не вступая, – журнал какой-то читал немецкий. А англичанину не терпелось познакомиться с попутчиками – начал выспрашивать соседа.
Полячка переводила, благо русским языком владела. Диалог англичанина и чеченца быстро прекратился после того, как последний ответил, в чем же он видит лучшее будущее для своего народа: «Всех русских вырежем – тогда и будет хорошо». Дальше ехали в напряженном молчании: англичанин смотрел в окно, полячка вжалась в кресло, я демонстративно изучал журнал, потом другой. На границе нужно было показать паспорта. Когда юный ваххабит или кто он там есть / был увидел мой российский паспорт, то произнес:
– Брат, помоги, а? Мне сто марок очень нужно. Помоги, брат.
– Не понял. Ты же только что говорил, что для тебя значат русские. Не очень-то, похоже, мы братья.
Тут начались угрозы, которые прекратились с появлением сначала пограничников, а потом и полицейских, уведших попутчика в участок. Впечатление, сами понимаете, не из приятных. И оно, увы, много значило для моего отношения к чеченцам долгое время.
До тех пор, пока в ужасном международном автобусе не познакомился с другим чеченцем. Сказать, что тот автобус ужасный, – ничего не сказать: мертвящий холод на борту, наглые водители, невозможность пересесть на другой автобус. Хотя бы просто потому, что нет денег на билет. То есть вообще нет – наглухо. Нет и еды. «Ну, и не в таких переделках бывали, – произнес мой сосед, извлекая из сумки свертки с едой. – Угощайся, парень!» Слово за слово, оказалось, что едет он аж из самого Грозного, убегая от войны (на дворе был тогда 1995 год). Многое рассказал, все больше со слезами. О том, что творили сначала дудаевцы, потом другие, сменившие их, «борцы за веру» в когда-то мирной Чечне. О том, как прятались по подвалам, изредка выбегая на улицу, чтобы найти или выпросить у наших солдат хлеба. О том, как попали под наш артобстрел, когда был дан «зеленый коридор» для беженцев… Многое рассказал. «В конце концов, – говорит, – спасся чудом. Сейчас вот пробираюсь в Германию, там какие-то дальние родственники живут. Обещали приютить. Вот и еду».
К концу поездки мы почти сдружились. Он с удовольствием угощал припасами: «Иначе нельзя! Мы же соседи!» Я попутно переводил какие-то письма, помогал ему чем мог в дороге, старался, короче, есть его хлеб не даром.
Две ночи в дороге – в конце концов приехали в Берлин, где я должен был выйти. А дальше – автостопом к друзьям и на работу. Чеченцу надо было ехать еще дальше. На прощание мы обнялись, он опять всплакнул. Я вскинул рюкзак на плечи, зашагал прочь от автобуса. Вдруг – голос сзади: «Эй, стой! Погоди, дорогой!» Оборачиваюсь: бежит мой чеченец, в руках что-то держит. «Слушай, я ведь все равно скоро приеду, там меня родственники накормят-приютят. Вот, у меня несколько марок осталось – возьми, а? Я же знаю – тебе куда-то далеко надо ехать! Так что возьми – пригодятся!» Быть попрошайкой – свинское дело. «Не буду я брать ваши деньги, – отвечаю. – Вы что?» – «А я тебе как старший младшему говорю: возьми! Иначе обидишь! Ты меня вон выручил так в дороге – письма мне переводил! Бери, говорю».
Втиснул он мне в карман эти марки, хлопнул по плечу и успел заскочить в уезжавший автобус. Стою я на перроне озадаченный: денег хватит на поезд до друзей. М-да. И поесть даже можно.
Такие вот истории.
* * *
Я намеренно не говорю про помощь от братьев по вере – православных. Намеренно рассказываю о помощи, часто чудесной, от не только не православных, но даже иноверцев-мусульман или язычников-огнепоклонников и вообще атеистов. Вполне допускаю, что годы странствий, этого юношеского «Sturm und Drang»2, даны мне были Христом для того, чтобы внимательнее читать притчу не только о блудном сыне, но и о милосердном самарянине.
И я не могу не молиться – дома, конечно же, в своей частной молитве, – о всех тех, кто творил мне благодеяния, кто встречался мне на пути, а то и спасал от смерти. Ведь благодарить людей, делающих нам добро, – это даже не тот «минимум», который заповедан нам Христом, это – ветхозаветная «детскость», которую мы, наверное, должны бы были давно перерасти, научившись молиться и за врагов.
Оттого так резануло вот это свечное: «Мы, православные, молимся только о православных».
А записки с японскими, китайскими и корейскими именами от французских монахинь я все-таки передал священнику в Бари. Тот улыбнулся: «Конечно, будем молиться! Неофициально!»