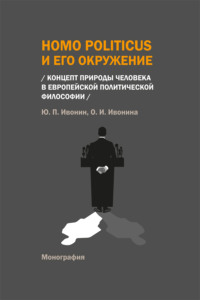Kitobni o'qish: «Homo Politicus и его окружение. Концепт природы человека в европейской политической философии»
Изображение на обложке с ресурса Shutterstock.com
Авторы:
Ивонин Ю. П., Ивонина О. И.
Рецензенты:
Белковец Л. П., доктор исторических наук, профессор (Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета);
Донских О. А., доктор философских наук, профессор (Новосибирский государственный университет экономики и управления).
© Ивонин Ю. П., Ивонина О. И., 2024
© ООО «Проспект», 2024
Введение
Монография продолжает исследования авторов, посвященные проблематике политической антропологии, т. е. изучению природы человека в многообразной сфере властных отношений посредством категорий философской антропологии и политической философии1.
Предметом исследования в предлагаемой работе является сравнительный анализ концепции природы человека в трудах философов Античности (Платон, Аристотель, Аврелий Августин), Нового времени (Гроций, Гоббс, Локк), Просвещения (Юм и французские авторы), ранней немецкой классики. Целью авторов была реконструкция смыслового ядра понятия о природе человека и характера эволюции данной категории в философской и политической антропологии классиков европейской мысли. Глобальным контекстом этой книги выступили: а) осуществлявшийся переход от онтологизма к антропологизму; б) принадлежность изучаемых авторов к классическому направлению в философии.
А. Онтологизм рассматривал человека как подчиненную часть сущего, включенную в надчеловеческий объективный порядок и открытую для неограниченного регулирования. Онтологизм сменяется антропологизмом, который полагал, что условия человеческого существования образуются опредмеченной деятельностью, т. е. искусственным миром вещей и форм сознания. Эти условия носят объективный и отчужденный от человека характер. Овладение человеком этими условиями равнозначно устранению какой-либо внешней детерминации, как и внешнего универсума вообще. Человеческое существование стремится к тотальной субъективации, т. е. исчезновению объективного порядка. Антропологизм настаивает на приоритете свободы над порядком.
Б. Главный принцип классической философии – принцип тождества мышления и бытия, онтологического и нормативного. Подлинно существует только то, что мыслится метафизически и еще только должно реализоваться в эмпирии. И сущность государства, и природа человека должны одновременно рассматриваться как актуализированные и потенцированные состояния. Актуализированным будет сущность предмета как набор законченных атрибутивных свойств, не имеющих завершенного эмпирического обнаружения, и идеал его существования как предельная возможность его совершенствования. Исторически сложились следующие концепты природы человека: эссенциалистская (человек – разумное существо, сводимое к процедурам рефлексии и способное контролировать внекогнитивные источники поведения), феноменалистская (основанная на идее субъектности соматического в человеке и аффективности его поведения), компромиссная и опосредующая их модель формально-телеологической обусловленности человека.
Сознавая значимость категории природы человека для описания онтологии политики, авторы стремились показать взаимосвязь философско-антропологических представлений с главными концептами европейской политической аксиологии – этатизмом и либерализмом.
Методология данного исследования, относящегося к жанру истории идей, определяется сочетанием двух принципиально различных подходов: герменевтического («антикварного») и интерпретационного («презентистского»). В первом случае объект исследования фиксируется в его уникальности, специфичности. Исследовательская стратегия антикваризма (историзма) враждебна генерализации, привнесению в описание объекта языковых средств исследователя. В пределе это превращается в практику герменевтического вхождения в объект и усвоение самоописания последнего, т. е. утрату какой-либо исследовательской дистанции.
Презентистский контекст предусматривает установление соизмеримости философских конструкций прошлого и достижений современной философской теории. Усвоению самоописания объекта здесь противопоставляется использование модельных представлений о философии вообще. Презентизм достигает соизмеримости объектов историко-философской реконструкции, однако за счет момента исторической уникальности.
Последний представляется наиболее реализуемым и актуальным, ведь исследователь всегда устанавливает соизмеримость идейного наследия с проблематикой современных теорий и расставляет в нем акценты иначе, чем это делал изучаемый автор.
Нам свойственно представление о философском тексте как о законченном произведении. Это означает, что если в нем что-либо не нашло отражения, то оно должно быть признано несущественным для автора. Обнаружение скрытого (подразумеваемого) содержания, которое невозможно выявить из текста посредством рациональных исследовательских процедур, вряд ли можно считать оправданным. Вот почему анализируемые тексты представляются нам логически связными и цельными образованиями, а совокупность тематически близких текстов – как написанные в одно время. Мы придерживались принципа аутентичного толкования первоисточников, следуя правилу «Максимум текста, минимум (в идеале никакого) контекста!». Лишь в исключительных случаях мы считали возможным говорить об эволюции воззрений философов.
Политическая мысль представлена как последовательное обсуждение проблемы, связанное преемственностью концептуальных основ и их постепенным развертыванием. Авторский подход тяготеет к интерналистской программе в истории философии, что минимизирует обращение к внекогнитивным факторам развития мысли. Развитие политической философии показывается как непрерывный и преемственный процесс, имеющий собственную природу и направленность развития.
При реконструкции идейного наследия мы стремились соблюсти баланс между понятийным аппаратом самих классиков и современными средствами анализа идей. В этом смысле нашим преобладающим методологическим подходом был умеренный презентизм.
Глава первая. Платон
Философская антропология Платона
Философская антропология Платона содержит больше вопросов, чем ответов на них. Неочевидны ответы на самые главные вопросы: что описывает понятие «природа человека»? Можно ли говорить об универсализме его антропологии? Она описывает то, что является массовым антропологическим опытом, или содержит размышление о том, чем должен быть человек в теологической перспективе? Если природу человека образуют дескриптивные высказывания, то к какому объекту они относятся: к человеку вообще или, учитывая ксенофобию мыслителя, человека следует искать среди эллинского народа и оставить «варваров» за пределами антропологии?
Можно заметить, что понимание Платоном природы человека осуществляется в трех различных планах:
1. Природа человека – ретроспективное описание достигнутого в прошлом и утраченного состояния человека. В диалоге «Пир» первоначальное состояние человека – целостность, эйдетическое тело, т. е. «правильное» воплощение идеи в веществе и, следовательно, наличие у него совершенной души как эйдоса жизни. По мысли Платона, «все души всех живых существ одинаково хороши, коль скоро душам свойственно оставаться тем, что они есть, – душами» («Федон», 94а [43, т. 2, с. 53]). Души бессмертны, и, что принципиально важно, их число конечно. Платон писал: «…и раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличивалось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти… только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным стало бы все» («Государство», Х, 611а [43, т. 3, с. 409]). Такое эйдетическое тело – бессмертная душа в бессмертном теле – и является для Платона природой человека. Природа человека – состояние совершенства, блаженства. Блаженство же переживается как счастье. Блаженство, как состояние «эйдетичности», господство идеи над своим носителем (субстратом), мыслится Платоном так: «…если мы не в состоянии уловить благо одной идеей, то поймаем ее тремя – красотой, соразмерностью и истиной; сложив их воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря ее благости самая смесь становится благом» («Филеб», 65а [43, т. 3, с. 75]).
Блаженство присуще существам-андрогинам, чье поведение вылилось в претензию нарушить космическую иерархию. В результате наказания андрогин распадается надвое и утрачивает бессмертие тела, т. е. перестает быть эйдетическим телом. Образуется современный человек, для которого характерно «неправильное» соединение души и носителя, возникает конфликт души и тела.
2. Природа человека – цель его совершенствования, приобретение эмпирическим человеком полноты его эйдоса, т. е. слияние реального и эйдетического человека (промежуточным состоянием мыслится так называемый малый круг метемпсихоза).
3. Природа человека – массовые стереотипные, неправильные варианты соединения души и тела.
Очевидно сходство и различие этих трех планов истолкования природы человека. Сходство в том, что все три варианта, по замыслу Платона, носят дескриптивный характер, т. е. описывают реальные (с его точки зрения) эмпирически данные или эмпирически возможные проявления жизни человека. Несходство заключается в том, что для вариантов 1 и 2 можно говорить о единой природе человека, которой Платон дает положительную оценку, т. е. придает высокий ранг ценности. В варианте 3 можно говорить лишь о множественности «человеческих природ», подлежащих исправлению и потому относимых к числу отрицательных ценностей. Платон скептически относился к массовому опыту. Свойства отдельного человека вряд ли могут быть обобщены в представление о человеке. Он отмечал: «…сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также» («Государство», II, 370а [43, т. 3, с. 131]). Несовпадение этих планов антропологических представлений Платона было отмечено исследователями [50, с. 11].
Для философской антропологии Платона существенен тезис об экзистенциальной недостаточности человека. Самодостаточность (согласно «Пиру») была достоянием андрогинов, человек же не обладает ресурсом индивидуального выживания, поскольку не может поддерживать базовые потребности. Философ отмечал: «…займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности… А первая и самая большая потребность – это добыча пищи для существования и жизни» («Государство», II, 369e – d [43, т. 3, с. 130]). Однако общество может рассматриваться как подобие коллективного андрогина. Общество восполняет недостаточность каждого индивидуального существования («Государство», II, 369c [43, т. 3, с. 130]). Общество компенсирует эту недостаточность на надындивидуальном уровне посредством кооперации множества усилий [4, т. 1, с. 111–112].
Отдельный индивид не может реализовать присущие ему задатки. По сравнению с количеством возможных проявлений жизнедеятельности его существование всегда «частично». Общественная кооперация реализуется в форме общественного разделения труда. Платон отмечал, что в идеальной модели общества «…мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам: этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время» («Государство», II, 374b [43, т. 3, с. 136]). Альтернативой общественному разделению является распределение индивидуальных трудовых усилий поровну между всеми занятиями, что ведет к растрате человеческих усилий. Напротив, общественная кооперация увеличивает общую сумму благ и экономит время их производства. Нужно обратить внимание, что Платон настаивает на институционализации общественного разделения труда мерами государственной власти. Он полагал, что стихийное общественное разделение труда не сможет обеспечить правильного соответствия природных задатков человека выполняемым трудовым действиям. Как отмечал еще В. Н. Карпов, социальное и антропологическое совершенство взаимно обусловливают друг друга: «…представление правильного гражданского общества является у Платона уже как некоторого рода обобщением представления о нормальном человеке [31, с. 349].
Проблема экзистенциальной недостаточности человека обсуждается Платоном вместе с проблемой целостности человеческого существа. Образует ли человек какое-то специфическое единство, несводимое к образующим его Единому и беспредельному, или это противоестественный космический коктейль, удерживаемый от распада божеством? При реконструкции мыслей Платона следует учитывать, что его антропологию образуют как конститутивные, так и регулятивные суждения, а антропологическая проблематика обсуждается при помощи двух несводимых категориальных рядов – сакральное/профанное и душа/тело.
Наиболее точным образом понятие души вводится методологическим путем. Душа – это конструкция ad hoc. Она используется для того, чтобы исключить бесконечную последовательность передаточных движений. Вместо этой последовательности причин и следствий Платон предложил начальную причину, которая сама не обусловлена ничем предшествующим. Она начинает движение и служит основанием последующей передачи движений. Душа необходима для того, чтобы сделать мыслимым это начинающее, инициирующее движение. По словам Платона, «…то, что движет само себя, есть не что иное, как душа» («Федр», 245е [43, т. 2, с. 154]). Основные конститутивные антропологические соображения автора могут рассматриваться как содержательные интерпретации регулятивной конструкции. Они проигрывают ей в строгости, поскольку включают в себя отсылки к мифам, которые Платон считал в лучшем случае «правдоподобными».
Сакральное и профанное, душевное и соматическое в антропологии Платона
Душа причастна Божественному («Федон», 80b [43, т. 2, с. 36]), что предполагает следующие ее свойства:
1. Душа бессмертна. Бессмертие включает два процесса: отделение души от тела и последующий метемпсихоз.
2. Душе доступен эйдетический мир, т. е. душа мыслит умопостигаемое: «…сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе». Ей не следует «…считать истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе говоря, из ощутимых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно» («Федон», 83b [43, т. 2, с. 39]). Мышлению самому по себе, независимо от других источников, доступна полнота разумения, хотя в своем земном существовании знание потенцировано и актуализируется после уничтожения тела («Федон», 66d – е [43, т. 2, с. 18]).
3. Душа предшествует телу и может быть соединена с неограниченным количеством тел.
Метафизика Платона не ограничивается тезисом о Божественном происхождении души. Себетождественность сакрального не может объяснить многообразных изменений, происходящих в человеческом мире. Объективация души вводит ее в состав инобытия. Объективированная душа наряду с телом оказывается посредником бытийственного и внебытийственного. Многообразные проявления объективации души обозначаются мыслителем как «смертная душа». Смерть души описывается иначе, чем смерть тела. Если тело распадается на составляющие элементы, то «смертная душа» сохраняется в виде субъективной реальности в посмертии. Многочисленные (и неизменно иронические) замечания философа о приключениях душ в загробном мире указывают на сохранение ими памяти, т. е. себетождественности (Я=Я). Последующий метемпсихоз полностью уничтожает этот состав души. Дальнейшие «припоминания» души касаются только эйдетического мира. Платон никогда не писал о «припоминании» прошлых земных жизней.
Посредствующее положение души предполагает, что она и удерживает, и утрачивает какие-то свойства Божественного. Душа утрачивает свою сосредоточенность на благе и обращается на внешнее и внебожественное. В зависимости от предмета экстериоризации души Платон выделяет интеллектуальную, волевую и эмоциональную объективации: душа создает мысленную копию предмета; душа ограничивает движения, в которые включен предмет; душа соединяется с телом предмета. Для мыслителя эти экстериоризации имеют разную ценность, согласно которой объективированные проявления души распределяются по телу («Тимей», 69d – е [43, т. 3, с. 476]).
Объективация изменяет положение души в мироздании. По общему правилу, «…душа умопостигаема и не может быть предметом наблюдения» («Законы», X, 898d – e [43, т. 4, с. 359]). Однако «падшая» душа уже доступна визуализации. По утверждению мыслителя, «… душа, смешанная с телесным, тяжелеет, и эта тяжесть снова тянет ее в видимый мир. В страхе перед безвидным, перед тем, что называют Аидом, она бродит среди надгробий и могил – там иной раз и замечают похожие на тени призраки душ. Это призраки как раз таких душ, которые расстались с телом нечистыми; они причастны зримому и потому открываются глазу» («Федон», 81c – d [43, т. 2, с. 37]).
Обращает на себя внимание, что одни и те же конструкты получают у Платона разный онтологический статус. Мышление, воля («ярость») и эмоционально-чувственное («вожделение») понимаются им то как «начала» души, то как ее «части». Различие в обозначении имеет принципиальное значение. Если душа состоит из «частей», то говорить о бессмертии невозможно. Можно предположить, что такое различие в понимании позволяло Платону утверждать вечность антропологических задатков, но преходящий (и уничтожаемый в метемпсихозе) характер их реализации.
Мыслящее начало души божественно по направленности своей активности (постоянному эротическому стремлению), но не по ее наличному содержанию. Общий упрек Платона сводится к указанию на недостаточную рефлексивность человеческого интеллекта, создающего продукты типа мнения и истинного мнения. Они не являются дефектом индивидуального мышления, а вызваны ограниченностью человеческой природы, которая носит общий характер, противореча божественному характеру души. Платон утверждал, что человеку следует «…через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена» («Тимей», 90d [43, т. 3, с. 498]).
Объективация души происходит не только внутри нее, но и продолжается за ее пределами. Тело – дальнейшая объективация души, но отношение источника и результата объективации понимается мыслителем по-разному применительно к душевному и соматическому. Платон выступает здесь предшественником классических антропологических концепций.
Эссенциалистская традиция в антропологии Платона
Некоторые размышления философа носят характер радикальной пневматологии. Человек – это его душа. Платон писал: «…если ни тело, ни целое, состоящее из тела и души, не есть человек, остается, думаю я, либо считать его ничем, либо, если он все же является чем-то, заключить, что человек – это душа» («Алкивиад I», 130с [43, т. 1, с. 259]). Душа определяет иерархию антропологического состава, душа и тело связаны отношением управления («Федон», 80а [43, т. 2, с. 35–36]). Душа меняет состояния тела. Душа – это «…нечто первичное, возникшее прежде всех тел, и потому она более чего бы то ни было властна над всякого рода изменениями и переустройствами тел» («Законы», X, 892a [43, т. 4, с. 350]). Состояние тела оказывается показателем состояния души: «…я не считаю, что, когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние; по-моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела» («Государство», III, 403d [43, т. 3, с. 170]).
В рамках этой традиции соматическое лишено субъектности. Оно необходимое условие человеческого действия, но не его причина. Согласно Платону, «если бы кто говорил, что без всего этого – без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, – я бы не мог делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю, и в то же время что в данном случае я повинуюсь Уму, а не сам избираю наилучший образ действий, было бы крайне необдуманно. Это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиною» («Федон», 99а – b [43, т. 2, с. 48]). Но «душа отличается от тела: она обладает разумом, а тело – как мы установили – не обладает; она правит, тело подчиняется; она причина всего, тело же не бывает причиной какого-либо состояния» («Послезаконие», 983d [43, т. 4, с. 449]).
Платон критиковал точку зрения здравого смысла о конкуренции сознания и телесных желаний. Он считал, что тело лишено детерминирующего содержания. Философ приводит остроумные аргументы: «…у тела не бывает вожделений…Ведь оно обнаруживает у всякого живого существа стремление, постоянно противоположное состояниям тела…Всякое влечение и вожделение всех живых существ, а также руководство ими принадлежит душе» («Филеб», 35c – d [43, т. 3, с. 37]). То, что считается потребностями тела, является действием памяти. Мыслитель поясняет это на примере жажды и желания воды: человек «…вожделеет, конечно, не к тому, что испытывает: ведь он испытывает жажду, т. е. опорожнение, желает же наполнения» («Филеб», 35b [43, т. 3, с. 37]).
За иллюзией здравого смысла скрывается дефектность души, а именно отсутствие в ней иерархии. Тело «захватывает» душу посредством эмоций ввиду автономии «вожделеющего начала»: «…у любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвождает душу к телу, пронзает ее и делает как бы телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представления и вкусы тела, душа, мне кажется, неизбежно перенимает его правила и привычки» («Федон», 83d [43, т. 2, с. 40]). Платон отмечал, что эта иллюзия достоверна в практике обыденного сознания. Сосредоточенность души на действиях своего инструмента – тела – подтверждает представление, что тело определяет чувственную и эмоциональную жизнь человека, его «страсти»: «…то, что стремится к состояниям, противоположным состояниям тела, – это душа, а то, что доставляет страдание или какое-либо удовольствие, связанное с претерпеванием страдания, – тело» («Филеб», 41c [43, т. 3, с. 45]). Масштаб приложения «страстей» является существенным. Даже войны для Платона выступают следствием автономии вожделеющего «начала» души: «А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим. Вот по всем этим причинам – по вине тела – у нас и нет досуга для философии» («Федон», 66d [43, т. 2, с. 17]).
Автономия душевных «начал» пагубна для человека, поскольку приводит к его страданию. Страдание – это состояние определяемости существования извне; в терминах аксиологии страдание есть проявление зла. Вожделеющее начало души неизбежно стремится к беспредельному, отказываясь от законченности и упорядоченности Божественного, к которому причастна душа. Нерефлексивное мышление порождает бесконечный ряд потребностей, через которые и реализуется страдание. Наоборот, сконцентрированность души на самой себе приобщает ее к благу и ненуждаемости: «…когда возникший сообразно с природой из беспредельного и предела одушевленный вид, упомянутый нами раньше, портится, то эта порча причиняет страдание; полное же возвращение к своей сущности есть удовольствие» («Филеб», 32b [43, т. 3, с. 32]).
Правильная иерархия души и тела предзадана самим порядком мироздания. «Начала» души, т. е. психофизиологические задатки, созданы таковыми, чтобы реализовать определенную цепь управления и подчинения: интеллект – воля – чувства. Эта цепь будет реализована, если задатки достигнут предела своего совершенствования – состояния «добродетели». Таковыми оказываются мудрость, мужество и умеренность. В данной иерархической цепи логически исходным является мыслящее начало души и его добродетель – мудрость. Платон отмечает процедурную и содержательную стороны мудрости: она существует для чего-то и характеризуется чем-то.
С процедурной стороны мудрость:
1) это сотериологический инструмент, обеспечивающий «спасение» души. Посредством мудрости душа созерцает бытие и его сверхбытийственный источник – благо («Государство», VI, 509b [43, т. 3, с. 291]);
2) непрерывное трансцендирование реальности. Благо связано с Богом, и поэтому посредством мудрости человек осуществляет выход к Нему: «Бог, раз он благ, не может быть причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногого для людей, а во многом он неповинен: ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не бога («Государство», II, 379c [43, т. 3, с. 143]);
3) источник морального действия (стремления быть самим собой) и субъективации реальности. Мудрец никогда не попадает в неприятности. В соответствии с этой линией рассуждения Платон писал: «… мудрость во всем несет людям счастье, ибо мудрость ни в чем не ошибается, но необходимо заставляет правильно действовать и преуспевать» («Менексен», 280b [43, т. 1, с. 168]). Мудрость оберегает человека от страдания, поскольку страдание есть утрата меры и погружение в бесконечное. Мудрость позволяет человеку быть самим собой, т. е. обеспечивает устойчивость его жизненных ориентаций: «…если кто-либо чего-то не знает, душа его по необходимости в этом колеблется» («Алкивиад I», 117b [43, т. 1, с. 239]).
С содержательной стороны мудрость – это организация психического мира в форме знания. Платон выделил следующие существенные свойства знания:
1) знание доступно лишь мудрецам. Человек приобретает знание, лишь достигая предела совершенствования интеллекта;
2) объектом знания выступает бытие. Знание свидетельствует о стабильном и неисчезаемом. Это высказывание о том, что есть, а не о том, что становится («Теэтет», 248а);
3) знание существует только при работе с абстракциями идеализации. Знание начинается там, где заканчивается визуализация познавательных конструкций («Федон», 66а [43, т. 2, с. 17]) и начинается интеллектуальная интуиция («Государство», VII, 532а – b [43, т. 3, с. 316]);
4) знание – продукт тотальной рефлексивности сознания. Знание есть там, где субъект осознает предельные основания своих высказываний и достигает полной прозрачности интеллекта для самого себя: «…ум рождается в нас от наставления, а истинное мнение – от убеждения; первый всегда способен отдать себе во всем правильный отчет, второе – безотчетно; первый не может быть сдвинут с места убеждением, второе подвластно переубеждению; наконец, истинное мнение, как приходится признать, дано любому человеку, ум же есть достояние богов и лишь малой горстки людей» («Тимей», 51е [43, т. 3, с. 455]). Требование такой интеллектуальной дисциплины означает, что знание – редкий элитарный продукт. Причем радикальный рационализм Платона вовсе не означал его интеллектуального снобизма. Для мыслителя существенна тенденция гносеологического эволюционизма. Знание – это истинное мнение с объяснением [ «Теэтет», 202с]. Образование знания не может миновать стадию истинного мнения. Массовые же интеллектуальные усилия не достигают стадии знания ввиду своей недостаточной рефлексивности: «…душа в своем стремлении к нему бывает вынуждена пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их выражение» («Государство», VI, 511a [43, т. 3, с. 293]);
5) знание существует только в ситуации отчуждения человеческого сознания (создания вербального двойника интеллектуального действия). Знание артикулировано и вербализовано и потому существует в акте рациональной коммуникации. Субъект говорения отдает себе отчет о содержании речевых актов: «…прекрасное свидетельство знания своего дела – каким бы это дело ни было, – если человек в состоянии передать свои знания другому» («Алкивиад I», 118 [43, т. 1, с. 242]). В силу рефлексивного характера знание не может быть предметом простого ознакомления и запоминания. Получение знания предполагает работу с его основаниями, усвоение его предпосылок. Согласно Платону, владение знанием удостоверяется не единичным актом коммуникации, а их последовательностью. Философ ссылается на Перикла и других представителей афинской элиты, которые не смогли свое политическое умение передать детям и согражданам («Протагор», 319е [43, т. 1, с. 429]; «Менон», 99b [43, т. 1, с. 611]). Для мыслителя это было показателем того, что какие-то умения Перикла существовали только в актах живой деятельности и были предметом личного опыта, не отчуждаемого в текст. Платон понимал, что успех коммуникации зависит не только от качества текста, но и от готовности принимающего субъекта. Мыслитель утверждал: «Свободнорожденному человеку ни одну науку не следует изучать рабски. Правда, если тело насильно наставляют преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже, но насильственно внедренное в душу знание непрочно» («Государство», VII, 536e [43, т. 3, с. 321]). Все это предполагает, что знание не может быть предметом мимезиса или манипулятивного внушения, поскольку полученный текст не содержит скрытого содержания;
6) знание сосредоточено в предметной области философии. Исследование оснований мышления является предметом философии, организованной как диалектика («Теэтет», 253e [43, т. 2, с. 324]), которая «подходит к первоначалу с целью его обосновать» («Государство», VII, 533c [43, т. 3, с. 317]). Геометрия, например, не осознает всей совокупности своих оснований («Государство», VI, 510c – d [43, т. 3, с. 293]). В итоге философия оказывается не только особым интеллектуальным занятием, но и наивысшим уровнем существования и сотериологическим действием: «…в род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, – никому, кто не стремился к познанию» («Федон», 82с [43, т. 2, с. 38]).