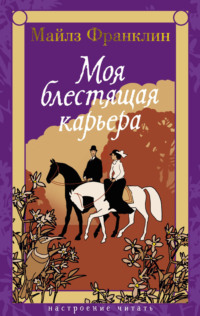Kitobni o'qish: «Моя блестящая карьера»
Miles Franklin
MY BRILLIANT CAREER
© Е. С. Петрова, перевод, 2025
© З. А. Смоленская, примечания, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
Предисловие
Поссумов Лог, близ Гоулберна,
Новый Южный Уэльс, Австралия,
1 марта 1899
Дорогие мои соотечественники-австралийцы,
лишь несколько строк, чтобы сказать вам: эта история – целиком и полностью обо мне; именно по этой, а не по какой-либо другой причине я ее пишу.
Не стану извиняться за свою эгоцентричность. В этом отношении моя книга может дать фору любой другой автобиографии, которые часто утомляют читателя извинениями за свой эгоцентризм. Какое вам дело до моей эгоцентричности? Какое это вообще имеет значение?
Перед вами не романтическая повесть – слишком часто я слушала музыку жизни под аккомпанемент лишений, чтобы тратить время на сопли и вопли по поводу фантазий и снов; но это и не роман, а просто история –реальная история. По-настоящему реальная, реальнее некуда, если, конечно, сама жизнь – это нечто большее, чем бессердечная маленькая химера; моя история столь же реальна в своей усталости и горькой сердечной боли, как высокие эвкалиптовые деревья, среди которых я впервые увидела белый свет, реальны в своем величии и надежности.
Мое жизненное пространство мне не по душе. Ох, как я ненавижу эту живую смерть, которая съела мое отрочество, с жадностью поглощает мою молодость, готовится выжать все соки из расцвета зрелости, а напоследок сотрет в прах мою старость, если мне выпадет несчастье до нее добраться. По мере того как моя жизнь, убийственно однообразная, ограниченная и совершенно мне чужая, нескончаемо ползет сквозь долгие, заполненные тяжелым трудом дни, дух мой что есть сил противится, стремясь разрушить нерушимые оковы, – но все напрасно!
Особое предуведомление
Вы можете, условно говоря, с головой погрузиться в эту историю. Не беспокойтесь: здесь вас не ждет такая дребедень, как описания дивных рассветов и шепота ветров. Мы (девятьсот девяносто девять человек из тысячи) не видим в рассветах ничего, кроме примет и знаков, сулящих близкие дожди или наоборот, а потому давайте оставим эти тщетные и глупые фантазии на откуп художникам и поэтам – бедным глупцам! Порадуемся, что мы сами сделаны из другого теста!
Лучше родиться рабом, нежели поэтом; лучше родиться чернокожим, нежели увечным! Ведь поэту на роду написано уединение… одиночество, устрашающее одиночество среди любимых им собратьев. Он одинок, потому что душа его взмывает очень высоко над простыми смертными, подобно тому как простые смертные поднимаются выше приматов.
Сюжет в этом повествовании отсутствует, поскольку его нет в моей жизни, да и ни в одной другой, доступной моему наблюдению. Я принадлежу к особой касте – к тем личностям, у которых нет времени на сюжеты, но зато есть все для того, чтобы, не отвлекаясь на такую роскошь, заниматься своим делом.
Майлз ФранклинАвстралия
Глава первая. Помню, помню
– Кыш, кыш! Ай, ай, ой-ой-ой! Умираю. Жгёт, жгёт! Кыш, кыш!
– Ну что ты, тихо, тихо. Папиной дочурке-помощнице реветь не к лицу, правда? Сейчас смажу жиром из нашего сухого пайка да носовым платком перевяжу. Не плачь, не надо. Ш-ш-ш, нюни распускать нельзя! А будешь так шуметь – наша старушка Стрела брыкаться начнет.
Это мое самое ранее воспоминание. Было мне три года. Помню, нас окружали величественные эвкалипты, на их прямых стволах играло солнце и падало в журчащий средь папоротников ручей, который исчезал под крутым заросшим косогором по левую руку. Долгий и ясный летний день перевалил за середину. Мы уехали далеко по ручью – туда, где мой отец приноровился добывать соль. Из дому он вышел ранним росистым утром, неся меня перед собой на маленьком коричневом матрасике, который специально для разъездов сшила мама. Куски каменной соли мы загодя сложили в корыта на другом берегу ручья. С того места, где мы устраивали привал, нам была видна эвкалиптовая крыша соляного сарая, которая защищала корыта от дождя, живописно выглядывая из густых зарослей мускуса и перечного кукурузника. С литровым котелком, в котором мы заваривали чай, я повторно сбегала к ручью, отец залил наш костер, а затем полоской сырой шкуры приторочил котелок к луке седла. Переметные торбы для доставки соли, сработанные из той же сырой шкуры, висели на крюках вьючного седла, обременявшего гнедую лошадь. Отцовское седло и заветный коричневый матрасик были доверены Стреле, крупной чалой лошади, на которую обычно сажали меня, и мы засобирались домой. Перед обратной дорогой отец, скормив собакам то, что осталось от нашего обеда, принялся надевать им намордники. Собаки яростно противились такому насилию, совершенно необходимому по вполне понятной причине. В тот день отец захватил с собой флягу со стрихнином и, надеясь истребить хотя бы нескольких динго, обильно посыпал ядом валявшиеся на дороге тушки разного зверья.
Пока собаки боролись с намордниками, я начала собирать букет из папоротников и цветов. Это потревожило большую черную змею, которая, свернувшись кольцом, лежала в тени страусника.
– Кусит! Ой, кусит! – Я заходилась воплем, и отец ринулся ко мне, чтобы отогнать ползучую гадину хлыстом.
При этом он уронил свою трубку в папоротники. Я ее подняла, и тлеющие крошки табака обожгли мои грязные пухлые кулачки. Отсюда – та паника, с которой начинается этот рассказ.
По всей вероятности, именно ожог пальцев произвел столь неизгладимое впечатление на мой детский разум. Отец постоянно брал меня с собой, но моя память сохранила лишь одну вылазку, и это все, чем она мне запомнилась. Мы были в двенадцати милях от дома, но как возвращались – нипочем не припомню.
В ту пору мой отец прочно стоял на ногах: ему принадлежали Бруггабронг, Бин-Бин-Ист и Бин-Бин-Уэст, а площадь этих трех угодий составляла около двухсот тысяч акров. В высшее общество он был принят исключительно в силу своего имущественного положения. В его генеалогическом древе значился только дед. Зато моя мать была чистокровной аристократкой. Она принадлежала к каддагатской ветви семейства Боссье, в чьей родословной присутствовал один из самых необузданных старых пиратов, который совершал набеги на Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем.
Дик Мелвин славился не только гостеприимством, но и веселым нравом, и в нашем причудливом доме со всеми удобствами и широкими верандами, сложенном из каменных плит в отрогах Тимлинбилли, всегда было полно гостей. За нашим изобильным столом сиживали врачи, адвокаты и скваттеры1, коммивояжеры и банкиры, журналисты и туристы – люди из разных краев и разных слоев; но вот женское лицо мелькало там крайне редко (мамино – не в счет): уж очень глухое это место – Бруггабронг.
Я была и грозой, и отрадой этой скотоводческой станции2. По сей день обо мне с интересом справляются престарелые конные полицейские и гуртовщики.
Род занятий каждого гостя был мне известен и мог в самый неподходящий момент прилюдно слететь у меня с языка.
Не останавливаясь ни перед разухабистыми выражениями, слышанными от батраков, ни перед мудреными длинными словами, перенятыми у наших гостей, я выносила на всеобщее обсуждение немыслимые вопросы, от которых бросало в краску даже самых заядлых выпивох.
Ничто не могло заставить меня выказывать больше уважения ценителю местных ручьев, нежели объездчику, или отдавать священнику предпочтение перед пастухом. Какой я была, такой и осталась. Мой орган почтения, надо думать, тоньше блинчика, поскольку благоговеть перед человеком только по причине его ранга у меня никогда не получалось и уже не получится. По мне, принц Уэльский ничем не лучше простого стригаля3; впрочем, если во время нашей встречи он предъявит помимо своего титула какие-нибудь небывалые личные качества, это изменит дело, а иначе пусть умоется.
Подлинных записей, датированных тем днем, когда у меня впервые появилась собственная лошадь, не сохранилось, но определенно было это в пору моего детства, потому как в восемь лет я уже могла разъезжать по округе как заблагорассудится. Что дамское седло, что мужское, и без седла, и враскорячку – мне было все едино. Гоняла наравне с объездчиками не хуже любого здоровенного загорелого бушмена4.
Мать меня упрекала, сетовала, что я вырасту неженственной – этаким сорванцом. Отец отмахивался.
– Оставь ее в покое, Люси, – говорил он, – не приставай. Скоро настигнут ее критические дни, будь они неладны, – проклятье женского пола. А пока оставь ее в покое!
И мать, с улыбкой приговаривая: «Надо было ей мальчиком родиться», оставляла меня в покое; я скакала верхом, и при своем малом росте хлыст у меня руках свистел оглушительно, почище, чем у многих. Всякие житейские неурядицы были мне нипочем: я выходила из них целой и невредимой.
Страха я не ведала. Если какой-нибудь пьяный бродяга начинал бузить, я всегда первой бросалась ему наперерез и с высоты своего карликового роста в два фута и шесть дюймов по-королевски требовала ответа: на что, собственно, он нарывается?
Рядом с нами устроили прииск смуглые сыны Италии. Маму они нервировали: она твердила, что доверять старателям нельзя, но я к ним тянулась и относилась с доверием. Они катали меня на своих широких плечах, закармливали леденцами и вообще баловали, как могли. Не моргнув глазом я забиралась в большую клеть и с помощью грубо сработанной лебедки опускалась в самые глубокие скважины, откуда поднимали старателей и пустую породу.
Мои братья и сестры переболели свинкой, корью, скарлатиной, коклюшем. Я прыгала к ним в кровати – и хоть бы хны. Возилась с собаками, лазала по деревьям, чтобы обшарить птичьи гнезда, управляла (под присмотром нашего погонщика Бена) запряженными в подводу молодыми бычками и всегда увязывалась за отцом, когда он ходил купаться на одинокую, скрытую кустарником, чистейшую горную речку, которая бежала по глубокому руслу среди опасных промоин, покрытых толстым ковром венериного волоса и бесчисленных видов папоротника.
Мама только качала головой и дрожала за мое будущее, а отец, похоже, воспринимал все мои выходки как должное. Пока мне не стукнуло десять лет, он был моим героем, задушевным другом, ходячим словарем и даже культом. С той поры никаких культов я не исповедую.
Ричард Мелвин, какой же ты был в ту пору душа-человек! Добрый и снисходительный отец, рыцарственный муж, бесподобный хозяин дома, поборник честолюбия и джентльменского благородства.
* * *
В такой обстановке, среди утонченности и удовольствий Каддагата, что лежит по меньшей мере в сотне миль по направлению к Риверине, и прошли мои детские годы.
Глава вторая. Знакомьтесь – Поссумов Лог
Когда я прожила почти девять раз по три летних месяца, мой отец проникся мыслью, что он попусту растрачивает свои таланты в таком захолустье, как Бруггабронг и два Бин-Бина. И решил переселиться туда, где можно размахнуться во всю ширь.
Излагая моей маме свои доводы в пользу переезда, суть дела он представил ей так: за последние годы цены на крупный рогатый скот и лошадей настолько упали, что разведением этой скотины уже невозможно заработать на жизнь. Единственным ходким товаром остаются овцы, но пасти их в Бруггабронге и в Бин-Бинах нечего и думать. Их поголовье живо проредят динго, а что останется, растащит ворье – глазом моргнуть не успеешь. В полицию заявлять – себе дороже. Копы воров к ногтю не прижмут, а попытаются, так только разозлят, и те обрушат свою злобу на жалобщика. В результате – не сомневайтесь – все заборы вокруг ранчо будут сожжены, а лишиться более чем сотни миль тяжелых бревенчатых ограждений в такой неспокойной местности, как Бруггабронг, – это, если вдуматься, сущий кошмар.
Вот такими правдоподобными красками отец расписывал свое стремление к переезду. А если серьезно, на него наложила свою клешню злющая старая карга – неудовлетворенность. Гости ему до хрипоты талдычили, что он себя губит и хоронит в буераках Тимлинбилли. Человек такого ума, да еще с таким несравненным опытом животновода, твердили они, способен сделать себе имя и состояние в мире аукционной торговли – было бы желание попробовать. Вскоре Ричард Мелвин тоже проникся этой мыслью и решил попробовать.
Забросив Бруггабронг, Бин-Бин-Ист и Бин-Бин-Уэст, отец прикупил Поссумов Лог, небольшое ранчо площадью в тысячу акров, и перевез нас всех на новое место жительства близ Гоулберна. Туда мы прибыли осенним вечером. Отец с матерью и детьми – в двуколке, а я и кухарка, сопровождавшая нас в дороге, – верхом. На новом месте нас поджидал единственный мужчина, которого отец оставил у себя на службе. Тот приехал заранее, на подводе с мебелью и пожитками – это все, что сохранил отец из семейного имущества. Только на первое время: сперва обосноваться надо, а уж после к покупкам приступать, говорил он. Десять лет минуло, а у нас другой мебели как не было, так и нет – еле-еле обходимся тем, что нажито.
Моим первым впечатлением от Поссумова Лога было горькое разочарование; даже время не смогло его развеять или хотя бы смягчить.
Каким же плоским, обыденным и скучным выглядел тот край после отрогов Тимлинбилли!
Наш новый дом представлял собой десятикомнатную деревянную постройку на бесплодном косогоре. За отдельно стоящей кухней теснились на буграх кривые, чахлые камедные деревца и каучуконосы, пробивался подлесок из черемухи, хмеля и гибридной мимозы. Вдали от фасада дома виднелись ровные участки, вроде бы обработанные, но никаких водоемов не было и в помине. Через некоторое время мы обнаружили на равнине несколько круглых, глубоких, заросших сорняками лужиц, которые в дождливый сезон объединялись в поток, сносивший все на своем пути. Поссумов Лог, одно из немногих прилично орошаемых мест в округе, способен выдержать даже самую жестокую засуху. Опыт и знания открыли нам глаза на истинную ценность здешней прозрачной и удивительно мягкой воды. Впрочем, приехав сюда с гор, где каждую ложбину пересекала кристально-чистая речушка, мы на первых порах брезговали пить местную воду.
На новых угодьях было не разгуляться. В самом широком месте они достигали всего трех миль. Неужто мне было на роду написано всегда, всегда, всегда обретаться в этих краях и никогда, никогда, никогда не возвращаться в Бруггабронг? Когда я в день приезда, захлебываясь слезами, легла спать на новом месте, тоска давила на меня тяжким грузом.
Мама сомневалась, что усилиями ее мужа наша семья сможет прокормиться с одной тысячи акров, ведь на половине этой территории стали бы пастись разве что мелкие кенгуру, но у отца были грандиозные планы и весьма оптимистичные виды на будущее. В отличие от местных бахвалов, он не собирался сидеть на месте, как кура на насесте. В его намерения входила торговля скотом, а Поссумов Лог вплоть до его продажи должен был служить всего лишь местом совершения сделок.
Боже милостивый! Страшно подумать: большую часть своей жизни он пустил на ветер в отрогах гор, куда почту доставляют раз в неделю, а до ближайшего городишки с населением в шестьсот пятьдесят душ тащиться сорок шесть миль. Причем по бездорожью. А здесь-то город всего в семнадцати милях, да не какой-нибудь, а Гоулберн, шоссе прекрасные, доставка почты через день, до железнодорожной платформы рукой подать – восемь миль, вот же он, счастливый жребий! Такие чувства рождались в его сердце, полном надежд.
Перед тем как в Бруггабронге организовали прииск, наш ближайший сосед (объездчики не в счет) жил в семнадцати милях от нас. Поссумов Лог был густонаселенной местностью, и до окрестных домов было от полумили до двух-трех миль. Для нас это было внове; достоинства и недостатки такого расположения мы осознали не сразу. Если нам требовалась какая-нибудь утварь, она всегда была под рукой, а у наших соседей дело обстояло совершенно иначе: они вечно брали у нас что-нибудь взаймы и в большинстве случаев не возвращали.
Глава третья. Безжизненная жизнь
Поссумов Лог загнивал – загнивал исподволь, как бывает со старыми поселениями.
Люди там обитали преимущественно семейные, с детьми до шестнадцати лет. Мальчики по мере взросления осваивали необжитые районы, становясь стригалями, гуртовщиками или земледельцами. Жизнь в родных краях казалась им чересчур тягучей, а кроме всего прочего, по достижении зрелости им становилось тесно в родительском доме.
Там никогда ничего не происходило. Время не играло роли; дни, отличаясь один от другого только названиями, незаметно соскальзывали в реку лет. Рождение и смерть вырастали до масштабов значительных событий, а самым значительным из всех становился приезд нового поселенца.
Когда такое случалось, отцы семейств по традиции собирались вместе для ознакомительного визита, чтобы решить, достойны ли вновь прибывшие быть принятыми в лоно местного общества. Если вердикт оказывался положительным, то церемония посвящения завершалась дружеским визитом жен.
По прибытии в Поссумов Лог мой отец с головой ушел в дела и часто бывал в разъездах, так что все муки приема визитеров, как мужского, так и женского пола, легли на мамины плечи.
Мужчины держались открыто, добродушно, уважительно, как и подобало простым фермерам-бушменам. Дружелюбие не позволяло им свернуть визит: они пришли – и сидели час за часом, отпуская какие-то фразы ни о чем. Моя бедная мать утомилась донельзя. Ее попытки вовлечь их в беседы о современной литературе и текущих событиях ни к чему не приводили. В такие моменты она словно бы переходила на французский язык.
Час за часом продолжались разговоры о надоях молока, перемежаемые бессмысленными, ни к селу ни к городу россказнями о человеке, который прежде занимал этом дом. Я совсем заскучала.
После животрепещущих историй из жизни на больших станциях в глубинке, после устрашающих рассказов о змеях, слышанных от наших кухарок в Бруггабронге, после случаев из африканской охоты, путешествий и светской жизни, которыми зачастую обменивались наши гости, меня угнетало бесконечное пережевывание цен на фермерскую продукцию и видов на урожай.
Эти мужчины, как и все местные жители, говорили только о рыночных делах. Нет, я этого не осуждаю, но просто хочу уточнить: в ту пору это нас совершенно не занимало, поскольку рынок был от нас очень далек.
Судя по всему, миссис Мелвин снискала благосклонность этих венцов творения, населявших Поссумов Лог: все тамошние матери семейств, поспешив наведаться к ней в гости, наперебой выказывали дружеское расположение и любезность. Явились они не с пустыми руками: принесли домашнюю птицу, варенье, масло и всякую всячину. Пришли к двум часам и засиделись до темноты. Произвели ревизию мебели, надавали маме кучу рецептов, подробно описали непревзойденные таланты каждого из своих отпрысков и многословно обсудили лучший способ посадить индюшку на яйца. Уходя, они сердечно приглашали нас посетить их с ответным визитом и просили маму, чтобы та отпустила к ним на день своих ребятишек – пусть поиграют все вместе.
Не прошло и месяца, как мои родители получили уведомление от учителя государственной школы, что в двух милях от нас: он сообщал, что по закону они должны определить своих детей на учебу. Мама невероятно расстроилась. Что ей было делать?
– Что делать, что делать! Не тяни, собирай ребятню в школу, вот что, – сказал отец.
Мама заспорила. Она предложила нанять гувернантку, а со временем подыскать хорошую школу-интернат. До нее доходили жуткие истории об этих государственных школах! Мыслимое ли дело – отдать своих любимых малюток в такое заведение; да их там загубят через неделю!
– Наших не загубят, – сказал отец. – Пусть походят неделю-другую, в крайнем случае – с месяц. За такой срок ничего с ними не случится. А после наймем гувернантку. Тебе здоровье не позволяет сейчас заниматься поисками, а мне и вовсе не до того. У меня намечается несколько сделок, и каждая требует моего внимания. Пока суд да дело, пускай бегают в школу.
И нас отдали в школу, где мы с сестрой благодаря фартукам с оборочками и легким туфелькам сразу стали важными птицами, на голову выше прочих. Наши одноклассники в основном происходили из семей беднейших фермеров, которые вкалывали на дорожном строительстве, на перевозке пиломатериалов – в общем, не гнушались никаким приработком. Все мальчишки ходили босиком, и половина девочек тоже. Школа стояла на неухоженном, заросшем косогоре; учитель проживал и столовался у кого-то из местных жителей, в миле от места работы. Он крепко выпивал, и родители учеников со дня на день ожидали его увольнения.
Минуло без малого десять лет с тех пор, как близнецы (поступившие вслед за мной) и я начали посещать государственную школу в Тигровом Болоте. Мое образование там же и завершилось, образование близнецов – они были младше меня на одиннадцать месяцев – тоже. Сейчас мои братья и сестры друг за дружкой получают аттестаты, но это единственная школа, где нам довелось учиться, – других школ мы не знали и не видели. Было время – даже отец заговорил о том, чтобы мы написали заявления о свободном посещении уроков. Однако мама (женская гордость – кремень) этого не допустила.
С соседями нам повезло, но один, звали его Джеймс Блэкшоу, тяготел к нам более других и выказывал желание подружиться. Был он, так сказать, самопровозглашенным шейхом нашей общины. У него было правило: брать под крыло всех новоселов и всячески стараться сделать так, чтобы каждый чувствовал себя как дома. К нам он заходил ежедневно: на заднем дворе привязывал свою лошадь к штакетнику забора в тени раскидистой ивы и, когда знал, что наша мама его не видит, мог битый час трепаться с кухаркой Джейн Хейзлип.
Как и я, Джейн терпеть не могла Поссумов Лог. Но свое чувство она облекала в более определенную форму, а потому забавно было послушать неприкрытые суждения, которыми она делилась с мистером Блэкшоу; про него самого, между прочим, она говорила: «Не парень, а курица на яйцах».
– Сдается мне, Джейн, здесь, близ Гоулберна, тебе живется веселей, чем в том захолустье, откуда ты приехала, – изрек он как-то утром, раскинувшись на просиженном диване у нас в кухне.
– Надо ж такое сказануть! «Захолустье»! Да у нас в Бруггабронге жизнь ключом била – за один день поболее событий случалось, чем тут у вас, канительщиков, за всю вашу жизнь, – горячилась она, яростно замешивая опару для хлеба. – В Бругге, считай, каждую неделю праздник был. В субботу вечером вся округа к нам в дом стекалась – насчет почты справиться. До вечера воскресенья гостьба не кончалась. И мясники, и объездчики, и шкуродеры – кого только к нам не заносило. Один на гармонике наяривает, другие пляшут. Веселились до упаду. Девушки хошь по кругу летали, хошь одного-двух кавалеров себе присматривали, а тут что? – Она презрительно фыркала. – Ни одного стоящего парня, с кем замутить не стыдно. Я тутошней жизнью сыта по горло. Жаль, обещалась хозяйке помочь на первых порах, а иначе прям завтра б отсюда сдернула. Хуже дыры, чем эта, в жизни не видала.
– Со временем пообвыкнешься, – увещевал Блэкшоу.
– Как же, пообвыкнешься тут! Чай, не курой высижены, чтоб в такой дыре прозябать.
– Уж тебя-то определенно не кура высидела, ну, разве что брама-гигант5, – отвечал он, оценивая пышность девичьей фигуры, пока Джейн снимала с огня пару тяжелых горшков. Свою помощь он не предлагал. Такой этикет был выше его понимания. – Ты ведь из дому ни ногой, вот и маешься от скуки, – заключил Блэкшоу, когда она опустила горшки на пол.
– Из дому ни ногой! Подсказали бы: куда мне ходить-то?
– Будет время – наведайся еще разок к моей супруге. Для тебя двери всегда открыты.
– Спасибочки, только супружницей вашей я с прошлого раза по горло сыта.
– То есть как?
– С полчаса посидели, а она вдруг: пора, мол, белье с веревки сымать да на дойку идти. И мужики местные не по мне. У вас тут женщины вкалывают как проклятые. Таких усталых, измотанных теток еще поди найди. Помнится, у меня времечка полно было, когда черные парни аборигенкам все подсобную работу поручали. Да у нас в Бруггабронге женщины только в доме хозяйничали, а ежели переламывались, то лишь когда все мужики на выезде были: ежели где пожар или тревога какая. А тут все работы на женские плечи взваливают. То на дойку ступай, то поросятам отходы неси, то за телятами смотри. Прям тошно делается. Уж не знаю, почему так повелось: то ли мужики еле шевелятся, то ли все силы на молочное хозяйство брошены. А оно не по мне: горбатишься, надрываешься, моешь-скоблишь с утра до ночи, покуда зенки не вылезут, – и кто это ценит? А теперь не откажите в любезности, мистер Блэкшоу, извините-подвиньтесь куда-нибудь на пару минут. Мне под диваном подместь надо.
Задерживаться после этого он не стал. Распрощался – и с глаз долой, так и не определив, позабавили его или оскорбили.
Скваттер– колонист, захвативший свободный, необработанный участок земли. – Здесь и далее примеч. З. Смоленской.
[Закрыть]
Станция– австралийский аналог ранчо или фермы.
[Закрыть]
Стригаль– работник, занимающийся стрижкой сельскохозяйственных животных.
[Закрыть]
Словом «буш» (отангл. bush – «куст») в Австралии принято называть любую малонаселенную местность. Соответственно, бушмен– австралийский фермер, живущий в буше.
[Закрыть]
Брама– порода кур.
[Закрыть]