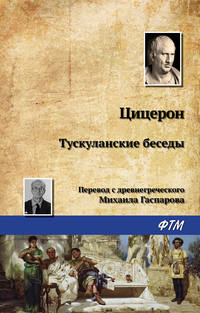Kitobni o'qish: «Тускуланские беседы»
Марку Бруту
Книга I. О презрении к смерти
I. (1) В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных защит и сенаторских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе, хоть и времени прошло много, и обстоятельства были неблагоприятны. А так как смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержится в овладении тою мудростью, которая у греков называется философией, то ее-то я и почел нужным изложить здесь на латинском языке. Конечно, философии можно научиться и от самих греков – как по книгам, так и от учителей, – но я всегда был того мнения, что наши римские соотечественники во всем как сами умели делать открытия не хуже греков, так и заимствованное от греков умели улучшать и совершенствовать, если находили это достойным своих стараний.
(2) Наши нравы и порядки, наши домашние и семейные дела – все это налажено у нас, конечно, и лучше и пристойнее; законы и уставы, которыми наши предки устроили государство, тоже заведомо лучше; а что уж говорить о военном деле, в котором римляне всегда были сильны отвагой, но еще сильнее умением? Поистине, во всем, что дается людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высокость духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?
(3) Однако же в учености и словесности всякого рода Греция всегда нас превосходила, – да и трудно ли здесь одолеть тех, кто не сопротивлялся? Так, у греков древнейший род учености – поэзия: ведь если считать, что Гомер и Гесиод жили до основания Рима, а Архилох – в правление Ромула, то у нас поэтическое искусство появилось много позже. Лишь около 510 года от основания Рима Ливий поставил здесь свою драму – это было при консулах Марке Тудитане и Гае Клавдии, сыне Клавдия Слепого, за год до рождения Энния.
II. Вот как поздно у нас и узнали и признали поэтов. Правда, в «Началах» сказано, что еще на пирах был у застольников обычай петь под флейту о доблестях славных предков; но, что такого рода искусство было не в почете, свидетельствует тот же Катон в своей речи, где корит Марка Нобилиора за то, что он брал с собою в провинцию поэтов: как известно, этого консула сопровождал в Этолию Энний. А чем меньше почета было поэтам, тем меньше и занимались поэзией; так что даже кто отличался в этой области большими дарованиями, тем далеко было до славы эллинов.

БЮСТЫ ЛУЦИЯ ЮНИЯ БРУТА И МАРКА ЮНИЯ БРУТА,
ГРАВЮРА ТЕОДОРА МАТХАМА. 1640
(4) Если бы Фабий, один из знатнейших римлян, удостоился хвалы за свое живописание, то можно ли сомневаться, что и у нас явился бы не один Поликлет и Паррасий? Почет питает искусства, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование. Так, греки верхом образованности полагали пение и струнную игру – потому и Эпаминонд, величайший (по моему мнению) из греков, славился своим пением под кифару, и Фемистокл незадолго до него, отказавшись взять лиру на пиру, был сочтен невеждою. Оттого и процветало в Греции музыкальное искусство: учились ему все, а кто его не знал, тот считался недоучкою.
(5) Далее, выше всего чтилась у греков геометрия – и вот блеск их математики таков, что ничем его не затмить; у нас же развитие этой науки было ограничено надобностями денежных расчетов и земельных межеваний.
III. Красноречием зато мы овладели очень скоро; и ораторы наши сперва были не учеными, а только речистыми, но потом достигли и учености. Учеными, по преданию, были и Гальба, и Африкан, и Лелий; не чуждался занятий даже их предшественник Катон; а после них были Лепид, Карбон, Гракхи и затем, вплоть до наших дней, такие великие ораторы, что здесь мы ни в чем или почти ни в чем не уступаем грекам. Философия же, напротив, до сих пор была в пренебрежении, так ничем и не блеснув в латинской словесности, – и это нам предстоит дать ей жизнь и блеск, чтобы, как прежде, находясь у дел, приносили мы посильную пользу согражданам, так и теперь, даже не у дел, оставались бы им полезны.
(6) Забота эта для нас тем насущнее, что много уже есть, как слышно, латинских книг, писанных наспех мужами весьма достойными, но недостаточно для этого подготовленными. Ведь бывает, что человек судит здраво, но внятно изложить свои мысли не может, – ничего особенного в этом нет; но когда человек, не умея говорить ни связно, ни красиво, ни сколько- нибудь приятно для читателя, пытается излагать свои размышления в книгах, то этим он во зло употребляет и время свое, и книги. Поэтому-то и читают такие сочинения только сами они да их друзья – никому другому до них и дела нет, кроме тех, кто так же считает для себя дозволенным писать, что ему вздумается. Вот почему и решили мы: если усердие наше принесло хоть какую-то похвалу нашему красноречию, то с тем большим усердием должны мы явить людям тот исток, из которого исходило само это красноречие, – исток философии.

СМЕРТЬ МАРКА ЮНИЯ БРУТА,
ГРАВЮРА ЛЮДВИГА ГОТЛИБА ПОРТМАНА. 1801
IV. (7) И вот как некогда Аристотель, муж несравненного дарования, знания и широты, возмутясь успехом ритора Исократа, стал сам учить юношей хорошо говорить, соединяя тем самым мудрость с красноречием, – так и мы теперь рассудили: не оставляя прежних наших занятий витийством, предаться также и этой науке, много обширнейшей и важнейшей. Ведь я всегда полагал, что только та философия настоящая, которая о самых больших вопросах умеет говорить пространно и красноречиво; и занимался я ею так усердно, что даже позволил себе устраивать уроки ее на греческий лад. Так что вскоре после твоего отъезда, милый Брут, я и попробовал испытать в этом свои силы, воспользовавшись тем, что на Тускуланской моей вилле как раз собралось много моих друзей. Когда-то я устраивал декламации на судебные темы и не оставлял этого упражнения дольше всех; а теперь, на старости лет, подобные рассуждения заменили мне декламации: я предлагал назначить, кто о чем хочет услышать, а потом, сидя или прохаживаясь, начинал рассуждать.
(8) Вот такие уроки (или, по-ученому говоря, лекции) я вел пять дней и записал в пяти книгах. Делалось это так: когда кто хотел о чем-нибудь послушать, тот сперва сам говорил, что он об этом думает, а потом уже я выступал с противоположным суждением. Ты ведь знаешь, что именно таков старинный сократический обычай – оспаривать мнение собеседника; Сократ считал, что так легче всего достичь наибольшего приближения к истине. Впрочем, чтобы понятнее было, в чем состояли эти наши споры, я изложу их тебе, словно не рассказывая, а показывая. Вот как, стало быть, мы начали:
V. (9) – Мне представляется, что смерть есть зло.
– Для кого? Для тех, кто умер, или для тех, кому предстоит умереть?
– И для тех, и для других.
– Если смерть – зло, то она – и несчастье?
– Конечно.
– Стало быть, несчастны и те, кто уже умер, и те, кому это еще предстоит?
– Думаю, что так.
– Стало быть, все люди несчастны?
– Все без исключения.
– В таком случае и при таком рассуждении все, кто рожден или будет рожден, не только несчастны, но и навеки несчастны? Если бы ты сказал, что несчастны только те, кому предстоит умереть, то это относилось бы ко всем без исключения живущим (ибо всем предстоит умереть), но, по крайней мере, смерть была бы концом их несчастий. Если же даже мертвые несчастны, то поистине мы рождаемся на вековечное несчастие. Ведь тогда несчастны даже те, кто уже сто тысяч лет как умерли, да и вообще все, кто когда-либо был рожден на свет.
(10) – Именно так я и думаю.
– Тогда скажи: что же тебя страшит? Трехголовый ли адский Цербер, или плеск Коцита, или путь через Ахеронт, или Тантал, который
В волнах по шею, но томится жаждою,
– или как
Весь в поту, Сизиф
Свой камень катит, но не в силах сдвинуться?
Или, может быть, неумолимые судьи Минос и Рада- манф, перед которыми не сможет защитить тебя ни Марк Антоний, ни Луций Красс, ни сам Демосфен, которому вроде бы и легче иметь дело с греческими судьями? Тебе ведь придется говорить самому за себя и при несметном множестве слушателей. Не этого ли ты боишься и не поэтому ли считаешь смерть вековечным злом?
VI. – За кого ты меня считаешь, скажи на милость? Не настолько же я спятил, чтобы во все это верить.
– Так ты в это не веришь?
– Нисколько.
– Плохо тогда твое дело!
– Почему?
– Потому что я мог бы на все это возразить очень даже красноречиво.
(11) – Конечно, тут это мог бы и всякий! Велик ли труд опровергать дикие выдумки поэтов и художников?
– Однако же рассуждениями против них заполнены целые книги философов.
– И зря. Какого глупца могло бы все это смутить?
– Тогда значит, если в загробном мире нет несчастных, то в загробном мире и вовсе никого нет?
– Конечно, нет.
– Где же тогда те, кого ты именуешь несчастными? Какое место в мире занимают они? Ведь если они существуют, должны же они где-нибудь быть.
– А я так понимаю, что они – нигде.
– То есть они не существуют?
– Да, они не существуют, но потому-то они и несчастны, что не существуют.
(12) – Ну, по мне, так уж лучше бояться Цербера, чем так непоследовательно рассуждать.
– Почему же непоследовательно?
– Потому что ты говоришь, что они не существуют, и в то же время – что они существуют. Где же твой здравый смысл? Ведь утверждая, что они несчастны, ты признаешь, что они существуют, хотя и говоришь, будто они не существуют.
– Нет, я не настолько глуп, чтобы это иметь в виду.

УБИЙСТВО ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ,
ГРАВЮРА ЛЮДВИГА ГОТЛИБА ПОРТМАНА. 1801
– Тогда что же ты имеешь в виду?
– Я хочу сказать, например, что несчастен Марк Красс, которого судьба лишила стольких его богатств, несчастен Гнеи Помпеи, который лишился своей великой славы, несчастны все, кому не дано более видеть света.
– Ты опять возвращаешься к тому же. Если все они несчастны – значит, они еще существуют; а ты говорил, что мертвые перестают существовать. Если они перестали существовать, то их нет, а если их нет, то они не могут быть несчастны.
– Как видно, я неправильно выразил мою мысль: само несчастие, по-моему, в том и состоит, что ты существовал и вот уже не существуешь.
(13) – Как? Неужели это еще хуже, чем совсем не существовать? Ведь получается, что и те, кто еще не рожден, уже несчастны, ибо не существуют, и мы сами, еще нерожденные, были несчастны, ибо нам предстояло умереть и стать несчастными после смерти. Вот беда, что я никак не припомню, был ли я несчастен до рождения; если у тебя память получше, то скажи, не припоминаешь ли ты?
VII. – Ты шутишь так, словно я не мертвых назвал несчастными, а неродившихся!
– Именно это ты и сказал.
– Да нет же: я сказал, что несчастие – в том, чтобы существовать и вдруг перестать существовать.
– Опять ты не замечаешь противоречия! Разве не противоречие – говорить, что тот, кого нет, несчастен, или счастлив, или каков бы то ни было? Разве, глядя на склепы Калатинов, Сципионов, Сервилиев, Метеллов за Капенскими воротами, ты думаешь, что все эти усопшие несчастны?
– Раз уж ты стараешься поймать меня на слове, я скажу так: они не вообще несчастны, а несчастны только потому, что не существуют.
– То есть ты не говоришь: «Марк Красс – несчастен», а говоришь «Несчастный Марк Красс!» – и только?
– И только.
(14) – Но ведь все равно: что бы ты ни заявлял таким образом, ты неизбежно заявляешь, что нечто или существует, или не существует! Или тебе не довелось даже пригубить диалектики? Первое ее правило (ἀξίωμα по-гречески; сейчас мне хорош и такой перевод, а если найдется лучше, то воспользуюсь и другим): всякое высказывание есть то, что или истинно или ложно. Стало быть, когда ты говоришь: «Несчастный Марк Красс!», то этим ты или говоришь: «Марк Красс – несчастен» (истинно это или ложно – разговор особый), или же вообще ничего не говоришь.
– Ладно, я согласен, кто мертв – тот не несчастен; ты добился-таки, чтоб я признал: кто не существует, не может быть несчастен. Ну а мы, те, кто живем, чтобы умереть, – разве мы не несчастны? Возможна ли в жизни радость, когда денно и нощно приходится размышлять, что тебя ожидает смерть?
VIII. (15) – Напротив! Да понимаешь ли ты сам, насколько облегчаешь ты тяжесть горькой нашей людской доли?
– Как это?
– А вот как. Если бы и в смерти мертвые были несчастны, то над жизнью нашей царило бы бесконечное и вековечное зло; теперь же я вижу тот предел, достигнув которого, можно уже более ничего не бояться. Право, мне кажется, что ты вторишь мысли Эпихарма, писателя умного и остроумного, как все сицилийцы.
– Что это за мысль? Я не слыхал о ней.
– Постараюсь сказать ее тебе на нашем языке: ты ведь знаешь, что я так же не люблю перебивать греческой речью латинскую, как и латинской греческую.
– И совершенно правильно. Но какую же мысль высказал Эпихарм?
– Мертвым быть – ничуть не страшно, умирать – куда страшней.
– Да, я догадываюсь, как это будет по-гречески. Но что же? Ты заставил меня признать, что мертвые несчастны быть не могут; заставь теперь признать, что и обреченные на смерть тоже не несчастны!
(16) – О, это не составит труда; но «нет, стремлюсь я к большему».

ГЕОМЕТРИЯ.
ГРАВЮРА ЯНА САДЕЛЕРА
– Как это не составит труда? И что это за «большее»?
– А вот что. Ведь если после смерти нет никакого зла, то и сама смерть не есть зло, так как тотчас за нею наступает посмертность, в которой, по твоим же словам, нет никакого зла. Стало быть, неизбежность смерти не есть зло: она – лишь переход к тому, что не есть зло, как это мы сами уже признали.
– Подробнее, прошу тебя! Рассуждения эти слишком тернисты и от меня требуют скорее признания, чем согласия. И что же это за «большее», к которому ты будто бы стремишься?
– Показать по мере сил, что смерть не только не зло, но даже благо.
– Не смею об этом просить, но очень хотел бы услышать: покажи хоть не все, что ты хочешь, покажи хоть только то, что смерть не зло. Перебивать тебя я не буду: гораздо охотнее я выслушаю связную твою речь.
(17) – А если я сам тебя о чем-нибудь спрошу, ты мне ответишь?
– Это уж было бы слишком самонадеянно; поэтому без крайней надобности лучше не спрашивай.
IX. – Будь по-твоему: все, что ты хочешь, я объясню по мере сил, но, конечно, не так, как пифийский Аполлон – твердо и непреложно, а как простой человек, один из многих, судящий лишь по догадке и вероятности. Далее видимого подобия истины идти мне некуда, а непреложные истины пусть возвещают те, кто притязают их постичь и величают себя мудрецами.
– Говори, как сочтешь нужным, – я готов слушать.
(18) – Итак, что же такое смерть – эта, казалось бы, общеизвестная вещь? Вот наш самый первый вопрос. Ведь одни полагают, что смерть – это когда душа отделяется от тела; другие – что душа вовсе не отделяется от тела, что они гибнут вместе, и душа угасает в самом теле. Далее, из тех, кто полагает, что душа отделяется от тела, иные считают, что она развеивается тотчас, иные – что продолжает жить еще долгое время, иные – что пребывает вечно. Далее, что такое сама душа, и где она, и откуда она, – об этом тоже немало разногласий. Иные считают, что душа – это сердце (cor), и поэтому душевнобольные называются excordes, сумасброды – vecordes, единодушные – concordes, поэтому же мудрый Назика, дважды бывший консулом, прозван «Коркул», поэтому же сказано:
Злой Секст, проницательный муж великого сердца.
(19) Эмпедокл считает, что душа – это притекающая к сердцу кровь; другие – что душою правит какая- то часть мозга; третьи не отождествляют душу ни с сердцем, ни с частью мозга, но допускают, что место ее и пристанище – то ли в сердце, по мнению одних, то ли в мозгу, по мнению других; четвертые говорят, что душа – это дух (таковы наши соотечественники – отсюда у нас выражения «расположение духа», «испустить дух», «собраться с духом», «во весь дух»; да и само слово «дух» родственно слову «душа»); а для стоика Зенона душа – это огонь.
X. Сердце, мозг, дух, огонь – это все мнения общераспространенные; а у отдельных философов есть еще вот какие. Не так уж давно Аристоксен, музыкант и философ, вслед за еще более давними мыслителями, говорил, что душа есть некоторое напряжение всего тела, такое, какое в музыке и пении называется «гармонией»; сама природа и облик тела производят различные движения души, как пение производит звуки. (20) Так говорит он, держась своего ремесла; но сказанное им было уже много раньше сказано и разъяснено Платоном. Ксенократ говорит, что у души нет ни облика, ни, так сказать, тела и что душа есть число – ибо число в природе, как еще Пифагор говорил, главнее всего. Учитель Ксенократа Платон придумал, что душа разделяется на три части: главная из них, разум, помещена в голове, как в крепости, а две другие, ей повинующиеся, гнев и похоть, каждая имеет свое место: гнев в груди, а похоть под средостением. (21) Дикеарх, излагая в трех книгах свою коринфскую речь, в первой выводит множество спорящих ученых с их речами, а в двух остальных – некоего старца Ферекрата Фтиотийского, потомка (будто бы) самого Девкалиона, и он у него рассуждает, что душа – это вообще ничто, лишь пустое имя, что «одушевленные существа» называются так безосновательно, что ни в человеке, ни в животном нет никакой души и никакого духа, а вся та сила, посредством которой мы чувствуем и действуем, равномерно разлита по всякому живому телу и неотделима от тела – именно потому, что сама по себе она не существует, а существует только тело, единое и однородное, но по сложению своему и природному составу способное к жизни и чувству. (22) Аристотель, наконец, и тонкостью ума, и тщательностью труда намного превосходящий всех (кроме, разумеется, Платона), выделяя свои четыре рода начал, из которых возникает все сущее, считает, что есть и некая пятая стихия – из нее- то и состоит ум. Размышлять, предвидеть, учиться, учить, иное узнавать, а многое другое запоминать, любить, ненавидеть, желать, бояться, тревожиться, радоваться и тому подобное – все это не свойственно ни одному из первых четырех начал; потому и привлекает Аристотель пятое начало, названия не имеющее, и приискивает для души новое слово – ἐνδελέχεια, что означает как бы некое движение, непрерывное и вечное.

ГЕОМЕТРИЯ.
ГРАВЮРА ЭТЬЕНА ДЕЛОНЕ
XI. Вот какие есть мнения у философов о душе, если только я ненароком чего-нибудь не упустил. Обошел я стороною лишь Демокрита, мужа, бесспорно, великого, но душу представляющего случайным стечением гладких и круглых частиц: ведь у этого люда все на свете состоит из толчеи атомов. (23) Какое из этих мнений истинно, пусть рассудит какой-нибудь бог; а какое из них ближе к истине, об этом можно спорить и спорить. Что же нам делать? Будем разбираться в этих мнениях или вернемся к исходному вопросу?
– Мне бы хотелось и того и другого, хотя соединить это тяжело. Поэтому, если можно избавиться от страха смерти без этих рассуждений, – сделай это; если же без разъяснения вопроса о душе это невозможно, – что ж, займемся, пожалуй, этим сейчас, а остальным в свое время.
– Как тебе больше хочется, так и мне лучше кажется. Само рассуждение покажет: какое бы из изложенных мнений ни было истинным, все равно, смерть – не зло, а может быть, даже благо. (24) В самом деле: если душа – это сердце, или кровь, или мозг, тогда, конечно, она – тело и погибнет вместе с остальным телом; если душа – это дух, то он развеется; если огонь – погаснет; если Аристоксенова гармония – то разладится; ну, а о Дикеархе с его утверждением, что душа – ничто, вообще не приходится говорить. Все эти суждения согласны в одном: что после смерти, то нас не касается. В самом деле, вместе с жизнью мы теряем чувства; а кто не чувствует, тому ни до чего нет дела. Правда, есть и другие мнения: они еще оставляют надежду, которая, может быть, тебя и тешит, – надежду, что души, покинув тела, возносятся в небо, как в свое обиталище.
– Конечно, такая надежда меня тешит; больше всего мне хотелось бы, чтобы так оно и было, а если это даже не так, то чтобы меня убедили, будто это так.
– Но тогда зачем тебе мои старания? Разве могу я превзойти красноречием самого Платона? Прочитай со вниманием его книгу «О душе» – и тебе не останется желать ничего лучшего.
– Я читал ее, и не раз; но всегда как-то получается, что пока я читаю, то со всем соглашаюсь, а когда откладываю книгу и начинаю сам размышлять о бессмертии души, то всякое согласие улетучивается.
(25) – И что же тогда? Признаешь ли ты, что души или пребывают после смерти, или гибнут, когда приходит смерть?
– Конечно, признаю!
– И если они пребывают, то что же?
– Тогда, я полагаю, они блаженны.
– А если гибнут?
– Тогда они, по крайней мере, не несчастны, ибо не существуют более: я ведь только что это признал, поддавшись твоим настояниям.
– Как же тогда и почему же тогда говоришь ты, что смерть тебе кажется злом? Ведь благодаря ей души становятся или блаженны, сохраняя бытие, или безбедны, лишаясь чувств!

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ПРИКАЗЫВАЕТ СОХРАНИТЬ РАБОТЫ ГОМЕРА.
МАРКАНТОНИО РАЙМОНДИ
XII. (26) – Вот и расскажи мне, пожалуйста, если не трудно: во-первых, если можно, о том, что души все же пребывают и после смерти, а во-вторых, если доказать это не удастся (ведь дело это нелегкое), то объясни, почему в таком случае смерть не есть зло; ведь я боюсь, что зло не столько в том, чтобы ничего не чувствовать, сколько в том, чтобы предчувствовать это бесчувствие.
– Чтобы доказать то, что тебя прельщает, я могу сослаться на самые лучшие свидетельства, которые во всяком деле и ценятся и должны цениться выше всего, – и первым делом на всю древность, которая ближе нас была к истоку и божественному нашему происхождению, а оттого, быть может, лучше могла распознать и самую истину.
(27) Итак, еще в тех стародавних людях, которых Энний называет «престарцы», врождено было одно убеждение: смерть не лишает чувств, и человек, кончая свою жизнь, не вовсе погибает. Свидетельств этому много, и не последние из них – жреческие законы и погребальные обряды, ибо мужи столь высокого ума не блюли бы их так бережно и не карали бы нарушение их так неумолимо, если бы не держалась в их сознании мысль: смерть – это не погибель, все сокрушающая и истребляющая, смерть – это лишь как бы переселение, перемена жизни, которая великим мужам и женам открывает путь на небеса, а всех прочих, хоть и не уводит с земли, но и не уничтожает.
(28) Вот почему соотечественники наши верят, что «Ромул живет меж богов в небесах», как сказал Энний вслед за общею молвой; вот почему и у греков таким чтимым и таким насущным богом стал Геркулес, а за ними – и у нас и дальше, до самого Океана; таков же и Либер, сын Семелы, такова же и слава братьев Тиндаридов, которые для римского народа были не только помощниками в битвах, но даже вестниками побед. Мало того! Разве Ино, дочь Кадма, которую греки величают Левкофеей, не чтится у нас как Матута? Да и все небо в конце концов не людским ли заполнено родом?
XIII. (29) Ведь если пойти глубже и всмотреться в то, что сообщают нам греческие писатели, то даже те боги, которые почитаются древнейшими, окажутся взошедшими в небо от нас. Подумай, сколько их гробниц показывают в Греции, вспомни, – ты ведь посвящен! – какие предания сохраняются в таинствах мистерий, и ты убедишься, что так было повсюду. Древним людям еще незнакома была физика, которую стали изучать лишь многие годы спустя – их убеждало только то знание, которое внушала им сама природа; они не понимали причин и оснований вещей, но то, что они сами видели не раз, особенно во сне, заставляло их верить, что ушедшие из жизни по-прежнему живы. (30) Самое же незыблемое основание к тому, чтобы мы верили в существование богов, – то, что нет на свете такого дикого племени, нет такого звероподобного человека, чтобы в сознании у него не было представления о богах. Пусть многие судят о богах ложно – этому причина предрассудки; но божественную природу и суть признают все. И делается это не по людскому сговору или общему решению, держится не на уставах или законах, – а если, несмотря на это, все народы единогласны в некотором мнении, то его следует считать естественным законом.
Итак, когда мы оплакиваем смерть наших близких, то не потому ли прежде всего, что думаем: «У них отняты все блага жизни?» Не будь этой мысли, мы бы и не плакали. Здесь ведь никто не горюет о собственном несчастье – разве что испытывает боль и тоску, – а все это горестное стенание и плач поднимаются оттого лишь, что мы уверены: тот, кого мы любим, лишается благ жизни и сам это чувствует. И уверенность эта в нас – от природы, а рассудок и наука тут ни при чем.

ПОРТРЕТ ТИТА ЛИВИЯ.
ДЖОВАННИ АНДРЕА ВАВАССОРЕ
XIV. (31) Но самый лучший довод – это безмолвное свидетельство самой природы о бессмертии души: забота, и немалая забота каждого из нас о том, что будет после его смерти. Когда в «Сверстниках» герой говорит: «Для будущих времен он садит саженцы», то разве он не имеет в виду, что будущие времена прямо его касаются? Здесь рачительный земледелец насаждает деревья, плодов которых он не увидит, а великий человек разве не насаждает свои законы, уставы, государственные порядки? Рождать детей, продолжать свой род, усыновлять наследников, заботиться о завещаниях, на самих могилах ставить памятники и похвальные надписи – не означает ли это заботы о будущем? (32) Но что говорить? Несомненно ведь, что каждый должен брать пример с лучших образцов своей породы, – а какой образец лучше, чем те, кто отроду посвятил себя помощи людям, заботе о людях, спасению людей? Да, Геркулес взошел к богам; но никогда бы он не взошел к богам, если бы не проложил туда дорогу в бытность свою меж людьми. XV. Пример этот древний, освященный общею верой; а что сказать о стольких великих мужах нашего отечества, отдавших за него свою жизнь? Разве могли они считать, что конец их жизни – это и конец их доброму имени? Никто никогда не пойдет на смерть за родину без немалой надежды на бессмертие. (33) И Фемистокл мог бы прожить свою жизнь бестревожно, и Эпаминонд, а коли взять пример поближе и поновее, то даже и я; но в сознании людском неким образом живет какое-то предчувствие будущих веков, и чем больше дар, чем выше дух, тем тверже оно держится, тем нагляднее предстает глазам. Не будь это так, кто бы в здравом уме стал подвергать себя вечным трудам и опасностям? (34) Я говорю о вождях государства – но разве не мечтают о посмертной славе и поэты? Откуда тогда такие стихи:
Граждане, киньте свой взгляд на старого
Энния облик –
Облик того, кто воспел ваших деянья отцов…
Энний требует славы как награды от тех, чьих отцов он прославил сам:
Пусть не оплачут меня погребальные вопли
и стоны –
Незачем! Я ведь живой буду у всех на устах.
И не только поэты – даже мастера, и те ищут посмертной славы. Иначе зачем Фидий, не имея права подписать свое имя на щите Минервы, вставил в этот щит лицо, похожее на свое? А наши философы? Сочиняя книги о презрении к славе, ни один не забывает надписать на них свое имя. (35) Поистине, если общее согласие есть голос природы и если все и всюду согласны в чем-то относительно усопших, то должны согласиться с этим и мы; и если мы считаем, что природа вещей виднее всего тем, кто сам душою превосходит других по своей природе, то есть по дарованиям и добродетелям, а чем лучше человек, тем он более служит потомству, то весьма правдоподобно, что к некоторым вещам в человеке сохраняется чувство и после смерти.