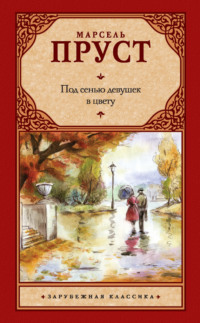Kitobni o'qish: «Под сенью девушек в цвету»
© Перевод. А. Федоров, наследники, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Часть первая
Вокруг г-жи Сван
Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы пригласить на обед господина де Норпуа, моя мать выразила сожаление, что профессор Котар в отъезде и что сама она совершенно перестала посещать дом Свана, а ведь и тот и другой могли бы быть интересны для бывшего посла, – отец ответил, что такой замечательный сотрапезник и знаменитый ученый, как Котар, – никогда не лишний за столом, но что Сван, с его чванством, с его манерой на каждом перекрестке трубить о самых ничтожных своих связях – заурядный хвастун, которого маркиз де Норпуа, пользуясь его же языком, нашел бы, наверное, «зловонным». Этот ответ моего отца требует разъяснений, потому что иным, быть может, памятны еще некий весьма незначительный Котар и Сван, скромность и сдержанность которого достигали крайней степени изысканности в области светских отношений. Но что касается прежнего приятеля моих родных, то к личностям «Свана-сына» и «Свана – члена Жокей-клуба» он прибавил теперь личность новую (и это прибавление было не последним) – личность мужа Одетты. Подчинив жалкому честолюбию этой женщины всегда ему присущие инстинкты, желание и ловкость, он ухитрился создать себе новое положение, сильно уступавшее прежнему и рассчитанное на подругу, которая будет занимать его с ним. И тут он оказывался другим человеком. Поскольку (продолжая посещать своих личных друзей, которым он не желал навязывать Одетту, если они сами не просили его познакомить с нею) он вместе со своей женой начинал новую жизнь среди новых людей, то еще можно было понять, что, желая оценить их достоинства, а следовательно, и то удовольствие, которое он мог доставить своему самолюбию, когда принимал их у себя, он решил воспользоваться для сравнения не самыми блестящими из своих знакомых, составлявших его общество до брака, а прежними знакомыми Одетты. Но даже зная, что он ищет знакомства грубоватых чиновников или сомнительных женщин, служащих украшением министерских балов, все же удивительно было слышать, как он, – прежде, да и теперь еще умевший так изысканно скрывать приглашение в Твикенгем или в Букингемский дворец, – громко трубил, что жена помощника начальника канцелярии приезжала отдать визит г-же Сван. Может быть, скажут, что простота Свана – светского человека была только более утонченной формой тщеславия и, подобно некоторым израильтянам, прежний друг моих родных тоже мог пройти последовательные стадии, которые прошли его соплеменники, начиная самым наивным снобизмом и самой резкой грубостью и кончая самой тонкой вежливостью, что в этом – вся причина. Но главная причина – причина, имеющая значение для всякого человека вообще, – была та, что даже наши добродетели не являются чем-либо свободным, текучим, что они не всегда в нашей власти; в конце концов они в нашем представлении так тесно связываются с поступками, которые, как нам кажется, обязывают нас их проявлять, что когда перед нами открывается деятельность другого рода, она застает нас врасплох, и мы даже не можем представить себе, чтобы эти самые добродетели могли и здесь найти применение. Сван, ухаживающий за своими новыми знакомыми и с гордостью ссылающийся на них, напоминал тех больших художников, скромных и щедрых, которые, если под старость принимаются за кулинарию или садоводство, с наивным удовлетворением выслушивают похвалы своим кушаньям или своим грядкам, не допуская по отношению к ним никакой критики, хотя были бы рады ей, если бы дело шло о каком-нибудь их шедевре; или же, отдавая за бесценок свою картину, не в силах сдержать раздражение, проиграв в домино каких-нибудь сорок су.
Что касается профессора Котара, то он еще неоднократно встретится нам много дальше, у Хозяйки, в замке Распельер. Пока что ограничимся по отношению к нему прежде всего следующими замечаниями. Перемена, происшедшая в Сване, могла в конце концов удивить, потому что она уже завершилась незаметно для меня, когда я встречался с отцом Жильберты на Елисейских Полях, где, впрочем, не разговаривая со мной, он и не мог хвастать своими политическими связями (правда, если б он и стал это делать, его тщеславие, может быть, и не сразу бросилось бы мне в глаза, потому что представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать целых три года совершенно не замечала, что ее племянница подмазывает себе губы, как будто краска полностью и незримо была растворена в какой-то жидкости, пока одна лишняя крупинка или, может быть, какая-нибудь другая причина вызвала феномен, называемый перенасыщением; незамечаемые румяна превратились в кристаллы, и моя мать, увидев вдруг этот разгул красок, объявила, уподобившись обывательнице Комбре, что это срам, и прекратила почти всякие сношения с племянницей). Но что касается Котара, то, напротив, время, когда он в доме Вердюренов присутствовал при появлении там Свана, было уже довольно далеким, а с годами приходят почести, официальные звания; во-вторых, можно не быть широко просвещенным, можно строить нелепые каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, как, например, дар стратега или великого клинициста. Действительно, собратья Котара видели в нем не только скромного врача-практика, ставшего с течением времени европейской знаменитостью. Самые умные среди молодых врачей заявляли – в продолжение, по крайней мере, нескольких лет, ибо моды, порожденные потребностью в перемене, тоже меняются, – что случись им заболеть, то одному лишь Котару они доверили бы свою жизнь. Разумеется, они предпочитали общество профессоров более начитанных, обладавших художественным чутьем, с которыми они могли говорить о Ницше, о Вагнере. На музыкальных вечерах, которые давала г-жа Котар в надежде, что муж ее станет деканом факультета, и на которые приглашала его коллег и учеников, сам он, вместо того чтобы слушать, предпочитал играть в карты в соседней гостиной. Но все восхваляли меткость, проницательность, точность его глаза, его диагноза. В-третьих, что касается позы, которую Котар принимал, когда имел дело с людьми вроде моего отца, то заметим, что характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их; порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку. Нерешительность Котара, его чрезмерная застенчивость и услужливость всюду, за исключением дома Вердюренов, привязавшихся к нему, были в его молодости причиной вечных шуток. Какой милосердый друг посоветовал ему надеть маску неприступности? Важность его положения облегчила ему это. Всюду, разве за исключением дома Вердюренов, где он невольно становился самим собой, он напускал на себя холодность, любил молчать, был безапелляционен, если надо было говорить, не упуская случая сказать что-нибудь неприятное. Эту новую манеру держаться он мог проверить на пациентах, которые, еще никогда не видев его, не могли и сравнивать и были бы очень удивлены, узнав, что он человек вовсе не суровый по природе. Больше всего он стремился к полной невозмутимости, и даже когда в больнице он изрекал один из тех каламбуров, что заставляли смеяться всех, начиная старшим врачом клиники и кончая новичком-студентом, он делал это всегда так, что не двигался ни один мускул его лица, которое к тому же стало неузнаваемо с тех пор, как он сбрил бороду и усы.
Объясним, наконец, кто был маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, а после 16 мая – послом и, несмотря на это, к великому удивлению многих, исполнял затем не раз поручения, возлагавшиеся на него радикальными правительствами, которым даже обыкновенный реакционер-буржуа отказался бы служить и которым прошлое г-на де Норпуа, его связи, его взгляды должны были бы внушать подозрение: он являлся представителем Франции в чрезвычайных случаях и даже, в качестве государственного контролера по долгам в Египте, оказал важные услуги, благодаря своим большим финансовым способностям. Но эти передовые министры, должно быть, отдавали себе отчет в том, что благодаря подобному назначению становится очевидно, каких широких взглядов держатся они, когда дело идет о высших интересах Франции, что они поднимаются выше обыкновенных политических деятелей, заслуживая даже со стороны «Journal des Debats» признания их государственными людьми; наконец они извлекали выгоду из престижа, который связан с аристократическим именем, а также из интереса, который возбуждает, подобно театральной развязке, неожиданное назначение. Они знали также, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, они могут пользоваться этими удобствами, но опасаясь с его стороны недостатка в политической лояльности, так как происхождение маркиза служило для них не предостережением, но гарантией. И в этом правительство республики не ошибалось. Прежде всего потому, что известного рода аристократы, с детства привыкшие смотреть на свое имя как на внутреннее преимущество, которого ничто не может у них отнять (и цена которого хорошо известна людям равным им или стоящим еще выше), знают, что могут избавить себя, ибо это не даст им большего, от ненужных усилий, которые без ощутимых результатов делают столько простых буржуа, старающихся выказывать лишь благонадежные взгляды и водить знакомство лишь с благонамеренными людьми. Зато, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, от которых их отделяет всего лишь одна ступень, эти аристократы знают, что они могут этого достичь, лишь украсив свое имя тем, чего ему не было дано и благодаря чему они могут превзойти равных по рождению, то есть политическим влиянием, известностью писателя или художника, большим состоянием. И заботы, от которых не в пример заискивающему буржуа они могут воздержаться в отношениях к ненужному им дворянчику, чья бесплодная дружба не имела бы никакой цены в глазах принца, – эти заботы они станут расточать политическим деятелям, хотя бы и масонам, которые могут открыть доступ в посольства или оказать покровительство на выборах, художникам или ученым, чья поддержка помогает «пробиться» в той области, где они главенствуют, всем тем, наконец, кто в состоянии придать новый блеск вашей репутации или помочь выгодному браку.
Что же касается г-на де Норпуа, то он прежде всего в течение долгой дипломатической карьеры проникся тем отрицательным, рутинным, консервативным, «правительственным» духом, который действительно присущ всем правительствам и при всех правительствах царит главным образом в канцеляриях. В этой деятельности он почерпнул отвращение и боязливое презрение к тем более или менее революционным и, во всяком случае, некорректным методам, какими являются методы оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простого народа или же из светского общества, для которых различие духовных типов – мертвая буква, то людей связывает не общность убеждений, а кровное родство духа. Какой-нибудь академик вроде Легуве, сторонник классиков, скорее одобрил бы дифирамб Виктору Гюго, произнесенный Максимом Дюканом или Мезьером, нежели дифирамб Буало, произнесенный Клоделем. Одинаковость националистических взглядов сближает Барреса с его избирателями, которые не видят большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри, но не может сблизить его с коллегами по Академии, которые, разделяя его политические взгляды, однако будучи другого склада ума, предпочтут ему даже противников вроде гг. Рибо и Дешанеля, гораздо более близких последовательным монархистам, нежели Моррас и Леон Доде, хотя и они желают возвращения короля. Скупой на слова, по профессиональной привычке, внушающей сдержанность и осторожность, а также и потому, что слова благодаря этому приобретают больший вес, представляют больше оттенков с точки зрения тех, чьи десятилетние труды, направленные на сближение двух стран, выражаются, резюмируются – в речи или протоколе – простым прилагательным, казалось бы, совсем обыкновенным, но заключающим для них целый мир, – г-н де Норпуа считался человеком очень холодным в той комиссии, где он заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли, видя расположение к нему бывшего посла. Оно прежде всего удивляло моего отца. Ибо, не отличаясь вообще особой любезностью, он не привык к тому, чтобы за пределами круга домашних кто-нибудь старался приобрести его дружбу, и простодушно признавался в этом. Он сознавал, что предупредительность дипломата была следствием той совершенно индивидуальной точки зрения, на которую становится всякий, когда дело идет о его привязанностях, и с которой все умственные качества или эмоциональные свойства известного лица, если само это лицо сердит нас или неприятно на нас действует, не будут служить столь благоприятной рекомендацией, как прямота и веселость другого человека, который многим будет казаться пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; это необыкновенно; в комиссии все поражены; там он ни с кем не знаком домами. Я уверен, что он расскажет мне еще что-нибудь потрясающее о войне 70-го года». Отец мой знал, что г-н де Норпуа был, пожалуй, единственный, кто указывал императору на растущую мощь и воинственные замыслы Пруссии, и что Бисмарк питал исключительное уважение к его уму. В газетах совсем еще недавно писалось о продолжительной беседе, которой удостоил г-на де Норпуа король Феодосий в опере, во время гала-спектакля, дававшегося в честь монарха. «Надо мне будет узнать, действительно ли имеет значение этот приезд короля, – сказал нам мой отец, проявлявший большой интерес к иностранной политике. – Правда, я знаю, что старик Норпуа – очень скрытный, но со мной он так мило откровенничает…»
Что касается моей матери, то, пожалуй, посол и не отличался тем складом ума, который был для нее всего привлекательнее. И я должен сказать, беседа г-на де Норпуа была столь полным собранием устарелых формул, характерных для определенной деятельности, для определенного класса людей и для определенной эпохи – эпохи, может быть, еще и не совсем кончившейся для этого рода деятельности и для этого класса людей, – что порой я жалею, зачем я просто и точно не сохранил в памяти того, что он говорил: я достиг бы эффекта старомодности с такой же легкостью и совершенно таким же путем, как тот актер из Пале-Рояля, которого спрашивали, где он отыскивает свои удивительные шляпы, и который отвечал: «Я не отыскиваю их, я их сохраняю». Словом, моя мать, как я думаю, считала г-на де Норпуа немножко «старомодным», что отнюдь не казалось ей неприятным в смысле манер, однако меньше нравилось ей, если не в отношении взглядов, – ибо взгляды г-на де Норпуа были весьма современные, – то в смысле форм выражения. Но она понимала, что она тонко льстит самолюбию своего мужа, когда, в разговорах с ним, восхищается этим дипломатом, который относится к нему с такой исключительной благосклонностью. Поддерживая в нем высокое мнение, которое он составил себе о г-не де Норпуа, и таким путем возвышая в собственных глазах и его самого, она исполняла свой долг, состоявший в том, чтобы делать приятной жизнь мужа, так же, как когда заботилась о том, чтобы обед был хорош и чтобы прислуга молчаливо исполняла свои обязанности. А так как она не способна была лгать моему отцу, то невольно начинала восхищаться послом, чтобы иметь возможность хвалить его с полной искренностью. Впрочем, ей, разумеется, нравилось его доброе лицо, его учтивость, несколько старомодная (и настолько изысканная, что когда, идя по улице, выпрямившись во весь свой рост, он замечал мою мать, проезжавшую в экипаже, он, прежде чем снять шляпу, бросал сигару, только что закуренную); его обдуманная беседа, во время которой он как можно меньше говорил о себе и всегда помнил о том, что могло бы быть интересно собеседнику; пунктуальность, с которой он отвечал на письма и которая казалась столь необыкновенной, что когда отцу моему случалось послать письмо г-ну де Норпуа и он тотчас же после этого получал конверт, надписанный рукой маркиза, то у него прежде всего являлась мысль, что по досадной случайности письма их разошлись в дороге; можно было подумать, что для г-на де Норпуа существует особая почта. Моя мать удивлялась, как он может быть таким точным, несмотря на свою занятость, таким внимательным, несмотря на бесконечные знакомства, и не думала о том, что за этим «несмотря на» всегда скрываются «потому что» и (подобно тому как иные старики удивительно сохраняются для своего возраста, короли держатся с величайшей простотой, а провинциалы всё знают) одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа заниматься таким множеством дел и быть таким аккуратным в своей переписке, иметь успех в обществе и оказывать внимание нашей семье. К тому же моя мать, как все чрезвычайно скромные люди, впадала в заблуждение, вызванное тем, что все относящееся к ней она привыкла считать заслуживающим меньшего внимания, не ставя в связь ни с чем. Быстрый ответ на письмо, имевший в ее глазах такую цену, потому что другу моего отца каждый день приходилось писать много писем, являлся для нее исключением из этого множества писем, хоть это и было только одно из них; она также не принимала во внимание, что для г-на де Норпуа обед в нашем доме – одно из бесчисленных дел в его общественной жизни; она не думала о том, что посол, будучи дипломатом, привык смотреть на званые обеды как на нечто входящее в его служебные обязанности, проявляя на них давно привычную ему любезность, и нельзя было требовать, чтобы, обедая у нас, он в виде исключения от нее отрешился.
День, когда г-н де Норпуа первый раз обедал в нашем доме, – это было еще в то время, когда я ходил играть на Елисейские Поля, – запомнился мне, потому что в этот день мне удалось услышать Берма в утреннем спектакле в «Федре», а также потому, что, разговаривая с г-ном де Норпуа, я внезапно и по-иному отдал себе отчет в том, насколько чувства, внушаемые мне всем, что касалось Жильберты Сван и ее родителей, были непохожи на чувства, которые эта самая семья возбуждала в других.
Заметив, должно быть, мое уныние по случаю приближения новогодних вакаций, в течение которых я не должен был видеться с Жильбертой, объявившей мне об этом, моя мать сказала мне, чтобы развлечь меня: «Если тебе все так же хочется слышать Берма, то, я думаю, отец позволит тебе пойти в театр; тебя сведет туда бабушка».
А надо заметить, г-н де Норпуа говорил моему отцу, что следовало бы позволить мне послушать Берма, что такие воспоминания навсегда остаются у юноши, и потому мой отец, не допускавший до сих пор и мысли, чтобы я рисковал здоровьем и тратил время на вещи, которые он, к величайшему возмущению бабушки, называл никчемушными, уже готов был смотреть на этот спектакль, реабилитированный послом, как на одно из условий, необходимых для блестящей карьеры и удачи. Бабушка, которая принесла большую жертву моему здоровью, отказавшись от намерения дать мне услышать Берма, что было бы, по ее мнению, благотворно для меня, дивилась, как одно слово г-на де Норпуа заставило позабыть все заботы о здоровье. Твердо уповая, как подобает рационалисту, на целительное действие режима, предписывавшего мне подолгу бывать на воздухе и рано ложиться спать, она сокрушалась об этом нарушении его, как о несчастье, и страдальческим голосом говорила моему отцу: «Как вы легкомысленны», – на что отец сердито отвечал: «Как? Теперь вы не хотите, чтобы он шел в театр! Это уж слишком, ведь вы все время твердили нам, что это принесет ему пользу».
Но г-н де Норпуа изменил планы моего отца по еще более существенному для меня вопросу. Отцу всегда хотелось, чтобы я стал дипломатом, а для меня невыносима была мысль, что, будучи даже временно причислен к министерству, я рискую в один прекрасный день получить назначение в столицу, где Жильберты не будет. Я предпочел бы вернуться к литературным замыслам, зародившимся во мне когда-то во время моих прогулок в сторону Германта и мною оставленным. Но отец постоянно противился моему желанию посвятить себя литературной карьере, которую он считал гораздо менее почтенной, нежели дипломатия, отказывая ей даже в названии карьеры, – вплоть до того дня, когда г-н де Норпуа, недолюбливавший дипломатических чиновников нового образца, убедил его, что и в роли писателя можно заслужить такое же уважение и оказать такое же влияние, как в дипломатической должности, сохраняя при этом большую независимость.
«Ну вот, я и не думал, что старик Норпуа отнюдь не возражает против твоего плана заняться литературой», – сказал мне отец. А так как, пользуясь сам достаточным влиянием, он считал, что нет такого дела, которое не устроилось бы, не получило благополучного разрешения в разговоре с влиятельными людьми, то и заключил: «Как-нибудь на этих днях я приведу его обедать после комиссии. Ты поговоришь с ним, чтобы он мог оценить тебя. Напиши что-нибудь получше, чтобы можно было ему показать: он в большой дружбе с редактором «Revue des Deux Mondes», он тебе туда откроет доступ, он это устроит, он ловкий старик; и право, он как будто считает, что дипломатия теперь – так…»
Радостная надежда на то, что я не буду разлучен с Жильбертой, внушала мне желание, но не давала сил написать какую-нибудь хорошую вещицу, которую можно было бы показать г-ну де Норпуа. Написав две-три страницы вступления, я от скуки ронял перо, я плакал от бешенства при мысли, что никогда не буду талантлив, что я лишен дарования и даже не способен воспользоваться счастливым случаем – предстоящим посещением г-на де Норпуа, позволявшим мне навсегда остаться в Париже. И только мысль, что мне разрешают послушать Берма, заставляла меня забыть это горе. Но так же, как бурю мне страстно хотелось видеть только на одном из тех побережий, где ярость ее всего сильнее, так и великую актрису мне хотелось видеть не иначе, как в одной из тех классических ролей, где, по словам Свана, она достигала подлинного величия. Ибо когда мы ищем известных впечатлений в искусстве или в природе в надежде на какое-нибудь драгоценное открытие, то совестимся вместо них давать доступ в нашу душу впечатлениям менее значительным, которые могут ввести нас в обман насчет точного значения Прекрасного. Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны», в «Федре» – вот оно, то великолепие, которого так жаждало мое воображение. Если когда-нибудь в чтении Берма мне суждено будет слышать стихи: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен» и т. д., я испытаю то же наслаждение, как в тот день, когда мне доведется наконец подплыть в гондоле к шедевру Тициана в церкви Фрари или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо деи Скьявони. Я знал их в том виде, как – черным по белому – они воспроизводятся в печатных изданиях; но мое сердце билось каждый раз при мысли, что, наконец, словно осуществившаяся мечта о путешествии, они действительно предстанут мне в солнечных лучах золотого голоса. Картина Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре» – вот совершенные создания живописи или драматического искусства, которым связанное с ними обаяние придавало в моих глазах такую жизненность, то есть так тесно связывало их воедино, что если бы мне пришлось увидеть Карпаччо в Луврской галерее или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой я ничего бы не слыхал до сих пор, я уже не ощутил бы чудесного удивления, как в ту минуту, когда наконец увидел бы воочию непостижимый и единственный предмет бесчисленных моих мечтаний. К тому же, ожидая от игры Берма откровения новых сторон благородства и страдания, я думал, что эта игра будет еще величественнее и правдивее, если в основу ее актриса положит произведение действительно замечательное, вместо того чтобы оживлять в общем правдивым и красивым рисунком ничтожную и пошлую канву.
И наконец, если бы мне пришлось слушать Берма в новой пьесе, мне было бы нелегко судить о ее мастерстве, ее дикции, ибо я не мог бы провести сравнения между текстом, неизвестным мне заранее, и его исполнением, интонациями и жестами, которые показались бы мне неразрывными с ним; между тем старые произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне обширными просторами, где я сразу на полной свободе легко смогу оценить откровения Берма и неиссякаемые находки ее фантазии, которыми она расцветит их словно фрески. К несчастью, с тех пор как она покинула большие сцены и обогащала один бульварный театр, звездой которого была, она больше не играла в классических пьесах, и я напрасно изучал афиши, они все время объявляли только совершенно новые пьесы, состряпанные модными авторами специально для нее, – как вдруг, однажды утром, просматривая на колонке с афишами программы утренних представлений первой недели нового года, я впервые увидел, – в конце спектакля, после какой-то пьесы для поднятия занавеса, вероятно малозначительной, с заглавием, которое мне показалось непроницаемым, ибо оно заключало в себе все особенности каких-то неведомых мне событий, – два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а в следующих утренних спектаклях – «Полусвет», «Прихоти Марианны» – имена для меня прозрачные, как и «Федра», насквозь пронизанные светом, – настолько знакомы были мне эти произведения, до глубины озаренные улыбкой искусства. Они возвышали в моих глазах и г-жу Берма, которая, как сообщалось в газете вслед за программой этих спектаклей, сама приняла решение снова показаться публике в одной из своих прежних ролей. Значит, артистка знала, что иные роли представляют интерес, не зависящий от их новизны или от успеха их возобновления; на эти роли в своем исполнении она смотрела как на музейные шедевры, которые поучительно снова показать поколению, восхищавшемуся ею, или поколению, еще не видевшему ее в этих ролях. И когда в число пьес, предназначавшихся лишь к тому, чтобы занять публику на один вечер, она ставила на афишу «Федру», заглавие которой было не длиннее их заглавий и было напечатано такими же буквами, она делала это как будто с умыслом, точно хозяйка дома, которая, представляя вас своим гостям, в ту минуту когда зовут к столу, называет в числе гостей, являющихся всего лишь гостями, и тем же тоном, каким она представляла остальных: «Господин Анатоль Франс».
Лечивший меня врач – тот, который запретил мне путешествия, – советовал моим родным не пускать меня в театр, потому что оттуда я вернусь больной, быть может надолго, и страдание, в конце концов, будет сильнее, чем полученное удовольствие. Подобная мысль могла бы меня остановить, если бы то, чего я ожидал от этого представления, было только удовольствием, которое может уничтожить сменившее его страдание. Но то, что я хотел получить от этого спектакля, – так же как и то, чего я ожидал от поездки в Бальбек, от путешествия в Венецию, к которым так стремился, – было нечто совсем иное, чем удовольствие: то были истины, принадлежащие миру более реальному, чем тот, где я жил, и которые, однажды сделавшись моим достоянием, не могут быть отняты у меня по вине ничтожных случайностей моей праздной жизни, хотя бы и мучительных для моего тела. Удовольствие, которое я буду испытывать во время спектакля, казалось мне, самое большее, формой, может быть, необходимой для восприятия этих истин; мне только страстно хотелось, чтобы предсказанное недомогание наступило уже после спектакля, не помешало моему удовольствию и не испортило его. Я умолял моих родителей, которые после посещения врача уже не хотели позволить мне пойти на «Федру». Я без конца декламировал тираду: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен», отыскивая все интонации, которые можно было вложить в нее, чтобы лучше оценить всю неожиданность той интонации, которую найдет Берма. Божественной красоте, которая должна была явиться мне в игре Берма и которая, таясь, словно святая святых за завесой, скрывавшей ее от меня, каждое мгновение принимала для меня новые формы, воплощая приходившие мне на память слова Бергота в брошюре, отысканной Жильбертой: «Благородная пластичность, христианская власяница, янсенистская бледность, царица Трезенская и принцесса Клевская, микенская трагедия, дельфийский символ, солнечный миф», – этой красоте я воздвиг жертвенник, пылавший день и ночь неугасимым огнем в глубинах моей души, и теперь от решения моих суровых и неосмотрительных родных зависело, заключит ли она в себе навсегда или нет совершенства богини, освобожденной от покровов в том месте, где высился ее незримый образ. И, устремив глаза на непостижимые черты, я по целым дням боролся с препятствиями, которые создавала мне моя семья. Но когда они исчезли, когда моя мать, – несмотря на то что этот утренний спектакль приходился как раз на день заседания комиссии, после которого отец намерен был привести обедать г-на де Норпуа, – сказала мне: «Ну что ж, мы не хотим огорчать тебя, если ты думаешь, что это доставит тебе такое удовольствие, надо идти», – когда этот день, посвященный театру и до сих пор запретный, стал зависеть уже только от меня, тогда, освободившись от забот о том, чтобы сделать его возможным, я впервые спросил себя, следует ли его желать и нет ли помимо запрета моих родных других причин, которые заставили бы меня отказаться от моего намерения. До этого их жестокость возмущала меня, но теперь, когда позволение было дано, они стали мне так дороги, что мысль о возможности огорчить их делалась для меня самого источником огорчения, заставляя видеть цель жизни уже не в истине, а в нежности, и в самой жизни видеть хорошее и плохое в зависимости от того, будут ли счастливы или несчастны мои родные. «Я лучше не пойду, если это вас огорчит», – сказал я матери, которая, напротив, старалась отвлечь меня от мысли, будто я могу огорчить ее, потому что эта мысль, по ее словам, отравила бы удовольствие, которое я получу от «Федры» и ради которого она и отец отменили свое запрещение. Но тогда это обязательное удовольствие начинало казаться мне очень тягостным. Затем, если я из театра приду больной, – успею ли я выздороветь до конца каникул, чтобы пойти на Елисейские Поля, как только вернется Жильберта? Стараясь решить, чему отдать предпочтение, я всем этим доводам противопоставлял незримый за скрывающей его завесой образ совершенств Берма. На одной чашке весов было: «мама огорчится, а я, чего доброго, буду не в состоянии пойти на Елисейские Поля», а на другой: «янсенистская бледность, солнечный миф»; но под конец самые эти слова потускнели в моем уме, они больше ничего не говорили мне, теряли всякий вес; мало-помалу мои колебания становились так мучительны, что если бы я решился в пользу театра, то это имело бы единственной целью положить им конец и раз навсегда избавиться от них. Обаяние совершенства утратило власть надо мной; уже не в надежде на духовное обогащение, а лишь для того, чтобы сократить свои муки, позволил бы я вести себя не к Мудрой Богине, но к беспощадному Божеству без лика и без имени, обманно поставленному на ее место за завесой. Но вдруг все изменилось, моему желанию услышать Берма был дан новый толчок, заставивший меня с нетерпением и радостью ожидать этого утра: предаваясь с упорством столпника моему ежедневному, с недавних пор столь мучительному созерцанию колонки с афишами, я увидел еще совсем свежую подробную афишу «Федры», наклеенную только что (и где, по правде говоря, распределение остальных ролей не послужило для меня добавочной приманкой, которая определила бы мое решение). Но одно из тех желаний, между которыми колебалась моя нерешительность, приобретало форму более конкретную, почти что неминуемую, так как афиша была помечена не тем днем, когда я читал ее, а днем, когда должно было состояться само представление, и даже часом, когда поднимется занавес, – оно уже готово было осуществиться, так что от радости я даже подскочил перед колонкой, захваченный мыслью, что в этот день и в этот час я, сидя на своем месте, приготовлюсь слушать Берма; и от страха, что мои родные не успеют достать два хороших места – для бабушки и для меня, – я одним прыжком оказался дома, подстегнутый магическими словами, которые сменили в моем уме «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «дамам в шляпах вход в кресла не разрешается, впуск публики прекращается в два часа».