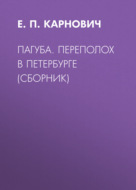Kitobni o'qish: «Регенство Бирона. Осада Углича. Русский Икар (сборник)»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
Регентство Бирона
I
На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах петербургских домов погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собой промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесях разлитое сияние свеч беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату торопливо ходили люди. Это было 17 октября 1740 года.
В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитанн Ханыков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием временами глядели на дверь спальни.
Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.
– Все кончено! – сказал он прерывающимся голосом. – Императрица скончалась!
Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.
Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, фрейлины тихо пронесли через залу в ее комнаты. За нею следовал супруг.
Когда ее привели в чувство, она возвратилась в залу и, бросившись в кресло, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к своей супруге, старался утешить и умерить ее горесть.
Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостью умершей царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подлее него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке князь держал какую-то бумагу, другой по временам утирал слезы, навертывавшиеся на его глаза.
– Кто в зале? – вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.
Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, вновь приблизился к Бирону и назвал бывших в зале по именам.
– Подойдем к ним! – продолжал герцог, вставая. – Не теряя времени, объявим последнюю волю императрицы.
Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресла, в котором сидела его супруга.
Властолюбивому Бирону во время тяжкой и продолжительной болезни императрицы неотступными просьбами нетрудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.
Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:
– Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю ее величества?
Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл, однако, свои чувства и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.
На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание его двора. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, привыкших к милосердию и кротости, к этим наследственным добродетелям их венценосцев, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался их полновластным правителем, что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.
II
Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту встретились два человека в темно-зеленых широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головой.
– Нет ли чего нового? – спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.
– Ничего важного не случилось, – отвечал на том же языке низкопоклонный. – Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме на Красной улице и что потом ее высочество цесаревна Елиз…
– Т-с! Тише! Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?
– Он заодно с капитаном, в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится феодосьевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.
– Право? Это недурно! А где он живет?
– Вон его дом.
Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского института.
– Еще узнал я, что отец поручика довольно богат.
– И это недурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его в том, что он держится раскола?
– Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.
– Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?
– Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писаными книгами.
– Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от феодосьевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу в доказательство того, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!
– Бесподобно вы придумать изволили!
– То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его ослушании герцогу и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.
– А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?
– Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны от его имения? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг зажечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!
Довольный своею глупою остротой, он засмеялся.
– Иллюминация! Истинно иллюминация! – подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. – Однако я все еще не понимаю вашего намерения.
– Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и не русский.
– Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.
– Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублевиков.
– А, теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречения от ереси.
– Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему на пользу. Он, верно, и сам сделается умнее, и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то берегись!.. Я искусный охотник, а ты собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.
Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.
– Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, – продолжал низкопоклонный, – то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.
– Ничуть! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу о нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.
– Совершенная правда.
– О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом на Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромен и осторожен. Ты сам знаешь, как важно это дело!
Сказав еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.
III
На берегу Фонтанки… но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу Фонтанной речки.
У ее истока из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам, в некоторых местах укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Напротив Летнего дворца, от Невы до церкви Св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась партикулярная верфь, где строили мелкие суда для Невского флота1.
Подле этой верфи находилась каменная церковь Св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования императрицы Анны Иоанновны, вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.
Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четырехугольное строение, где хранились разные запасы для двора, отчего оно и называлось Запасным двором.
Церковь Св. Симеона и Анны существовала уже в те времена. Ее построила императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Петр Великий в 1712 году во имя ангела четырехлетней дочери его, цесаревны Анны Петровны.
Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощей, которая граничила с Итальянским садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе близ Фонтанки.
У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенных при императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, светлицы Семеновского и Измайловского полков и, наконец, посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь Св. Екатерины, построенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.
Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом охотный ряд, где продавали певчих и других птиц; войдем в Аничкову слободу, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом, мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к ягд-гартену (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гона и стрельбы оленей, кабанов и зайцев на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, окружающие его. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим Слоновый двор, устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.
Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.
На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власьич (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану, во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона, в-третьих, еще со времен Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки и, в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.
Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьевна, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом на ассамблеях ратовала в рядах невест и наводила «сильную кокетства батарею»2 на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она не без основания считала главным виновником прекращения всех главных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею. От горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?», Дарья Власьевна всегда притворялась тугой на ухо или рассеянной и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды, в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, бока которой они украшали. Всякая знатная дама считала тогда своей обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелем о рангах, начиная от 1-го до 14-го класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручиками, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимались с рассохшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить обручики и пользовались только правом с удивлением смотреть на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтоб узнать внутреннюю сущность этих возвышений.
Дарья Власьевна, по званию сестры придворного поставщика рыбы, перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом, фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составляла нечто между фижмами коллежских секретарш и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14-го до 4-го класса включительно, чтобы быть готовой тотчас одеться по чину будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и штатский действительный советник (как тогда говорили). Любимое времяпрепровождение Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, поочередно примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев наконец генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распустивший хвост, танцевала минуэт, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьевна не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее склонялись то в ту, то в другую сторону и долго бы остались в движении, если бы сваха не принесла наконец верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.
Дочь Мурашева, Ольга, была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам плохо знавший грамоту, передал ей все свои познания и через год после начала курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупик самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русской гражданской печатью в Петербурге в 1725 году под заглавием «Приклады как пишутся комплименты разные» и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения «Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные». Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елизавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! Когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб, по крайней мере, сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатанной увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из «Советов премудрости» наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов женский гнев – наистрашнейший и прековарнейший в вымышлении изменятельств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены или способы к избавлению и спасению себя от них бегом изысканы быть могут, но росерчание взбесившейся жены неизбежимо есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему ответствуют».
– Сущая истина! – сказал Мурашев со вздохом. – Из всех гневов женский гнев есть наистрашнейший! Да!.. Так, кажется, сказано? Одно средство против него: упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.
Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признавается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаваемые ею тебе вещи имеют на ее языке крайне бедственное обаяние. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться и о весьма скором времени твоего заплакания извещаться».
– Ну уж книга! – воскликнула Дарья Власьевна. – Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.
– Полно, сестра! – возразил Мурашев. – Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина – ты этого на свой счет не бери – а вообще особа женского пола. Вот тут и пишется, что «довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя», то есть она – не успеешь мигнуть – даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что «бойся обещаваемых ею тебе вещей и ее осязания», – помнится так-то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!
– Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!
– В печь? Да кто тебе даст? «Советы премудрости» хочет бросить в печь! Ах ты, безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.
Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок и что в книге дается наставление остерегаться этого порока.
– Ну вот, вот! то и есть! – воскликнул с радостью Мурашев. – Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь тоже толковал! Что же тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.
– Скажи: и батюшки! – обиделась Дарья Власьевна. – Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.
Мурашев хотел возразить, но не нашелся, лишь проворчал сквозь зубы: «Дура!» – и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».
«Сумасшедший! – подумала Дарья Власьевна. – Совсем с ума спятил от своих премудростей!»
– Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? – спросила вдруг Ольга.
Этот вопрос имел силу громоотвода. Без него сбылось бы сказанное в «Слове о полку Игоревом»: «Быть грому великому!»