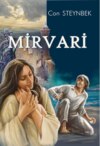Kitobni o'qish: «Золотая Чаша»
John Steinbeck
CUP OF GOLD
Печатается с разрешения The Estate of Elain Steinbeck и литературных агентств McIntosh and Otis и Andrew Nurnberg.
© John Steinbeck, 1929
© Copyright renewed by John Steinbeck, 1997
© Перевод. И. Гурова, наследники, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Джон Стейнбек (1902 – 1968) – классик американской литературы, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий. Великий мастер слова и великий знаток человеческой души. Автор признанных шедевров «Гроздья гнева», «Зима тревоги нашей», «О мышах и людях», «Квартал Тортилья-Флэт»… Его романы и повести пользуются заслуженной популярностью у читателей по всему миру. Они были неоднократно экранизированы, им посвящены статьи и монографии – но никакие литературные исследования не помогут понять произведения Стейнбека лучше, чем чтение его книг.
Глава первая
I
Весь день из черных ущелий Уэльских гор сеялся ветер, высвистывая весть, что с полюса на мир ползет Зима, и на реке постанывал молодой ледок. Угрюмый день, день серой бесприютности, день тревог. Легким своим движением воздух словно творил нежную элегию торжествующей печали о веселой беспечности. А на пастбищах могучие рабочие лошади беспокойно перебирали ногами, и по всему краю серенькие пичуги, сбившись в стайки по четверо и по пятеро, перепархивали с дерева на дерево, туда и обратно, призывным щебетом приглашая других желающих лететь вместе с ними на юг. Козы взбирались на вершины одиноких скал, заводили кверху желтые глаза и обнюхивали небесный свод.
Медлительной процессией прошли дневные часы, а на исходе вечера налетел ошалелый вихрь, прошелестел по сухой траве и, всхлипывая, унесся вдаль через луга. Черным монашеским капюшоном опустилась ночь, и Ее Святейшество Зима отправила в Уэльс своего нунция.
Неподалеку от проезжей дороги, которая огибала долину, убегала вверх по расселине между двумя обрывами и вырывалась в необъятный мир, стоял старый крестьянский дом, сложенный из нетесаных камней и крытый соломой. Морган, воздвигший его, вступил в единоборство со Временем и едва не одержал победу.
Внутри в очаге плясал огонь, его языки лизали подвешенный над ним железный чайник, и чугунная духовка пряталась в углях, осыпавшихся с кромки пламени. Багровые отблески играли на наконечниках копий, сотню лет бесполезно пылившихся в подставках вдоль стены, – с тех самых пор как Морган сражался в дружине Глендаура и вспыхивал яростью от кремневых строф Иоло Гоха.
Кованый сундук в углу всасывал свет медными полосами и ослепительно блестел. Хранились в нем бумаги, и пергаменты, и жесткие куски невыделанной кожи с записями на английском языке, на латыни, на древнем кумрийском: Морган родился, Морган взял жену, Морган был возведен в рыцари, Морган был повешен. В сундуке покоилась история рода, и позорная, и славная. Но теперь он настолько оскудел, что нынешние его обломки едва ли могли добавить к семейной хронике хоть что-нибудь, кроме простых дат – Морган родился… и умер.
Вот, например, Старый Роберт. Сидит в своем кресле с высокой спинкой, сидит и улыбается огню. Улыбкой недоуменной и вызывающей в своем смирении. Словно он улыбался сотворившей его Судьбе, чтобы понудить ее хоть чуточку устыдиться. Сколько раз он уныло думал о своей жизни, замкнутой в тесном кругу мелких неудач и поражений, которые насмешничали над ней, как уличные оборвыши – над калекой. Старому Роберту казалось странным, что он, знавший куда больше всех своих соседей и столько размышлявший, не сумел стать даже хорошим земледельцем. Порой ему мнилось, что он понимает слишком уж много, а потому не способен ничего делать хорошо.
И Старый Роберт улыбался огню, прихлебывая отдающий горелым эль, который сварил по собственному рецепту. Разумеется, его жена шепотом найдет ему множество извинений, и батраки в полях ломают шапку перед Морганом… – перед Морганом, не перед Робертом.
Даже его престарелую мать Гвенлиану – вот она, тоже сидит возле огня и дрожит, будто посвист ветра снаружи обдает ее леденящим холодом, – даже ее не считают столь полной никчемностью. В нищих лачугах ее и побаиваются, и почитают. Когда она сидит в саду, окруженная сонмом подвластных ей темных сил, уж конечно, перед ней, краснея и тиская шапку, стоит какой-нибудь дюжий парень и благоговейно ловит ее колдовские речи. Уже много лет назад она открыла в себе дар ясновидения и с гордостью прибегала к нему по любому поводу. Близкие, хотя и знали, что все ее вещания лишь догадки, которые с годами заметно утрачивали былое правдоподобие, выслушивали ее с уважением, напускали на себя благоговение и спрашивали, где искать потерянные вещи. Когда же после ее вдохновенного прорицания оказывалось, что пропавшие ножницы вовсе не провалились во вторую щель между половицами в сарае, они делали вид, будто отыскали их именно там. Ведь, лишись Гвенлиана своей пророческой мантии, осталась бы только высохшая старушка со смертью за плечами.
Поддакивание выжившей из ума свекрови было тяжким испытанием для Матушки Морган, предательством самых заветных ее убеждений. Вся ее натура восставала, ибо сама она была послана в мир, несомненно, для того, чтобы стать бичом людской глупости. А все, что не имело касательства к учению святой церкви или к ценам на рынке, могло быть лишь пустым вздором.
Старый Роберт любил свою жену так сильно и так долго, что мог разрешать себе и не слишком лестные мысли о ней – его любви они ничуть не уменьшали. Когда днем она вернулась, кипя негодованием – сапожник заломил неслыханную цену за башмаки, которые ей вовсе не были нужны, – он подумал: «Ее жизнь подобна книге, полной великих событий. Что ни день, она достигает той или иной немыслимой кульминации: из-за оторванной пуговицы, из-за соседской свадьбы… И если на нее обрушится истинная трагедия, она, пожалуй, не сумеет распознать холма среди бесчисленных кочек. Быть может, это и есть подлинно счастливый жизненный жребий, – решил он и тотчас добавил: – Любопытно, как она соотнесла бы кончину короля и потерю новорожденного поросенка?»
Матушка Морган была погружена в заботы дня сего и не морочила себе голову глупыми отвлеченностями. Кому-то в семье надо же и о деле подумать, не то кровлю разметет ветер, а чего ждать от таких сонных тетерь, как Роберт, Гвенлиана или собственный ее сын Генри? Любовь к мужу у нее слагалась из странного сочетания жалости и презрения, которые равно вызывали в ней и его беспомощность, и его благородство.
Юного Генри, своего сына, она любила слепой любовью, но, конечно, знала, что он еще слишком мал, чтобы уметь позаботиться о своей пользе или о своем здоровье. А они, все трое, любили Матушку Морган и боялись ее, и путались у нее под ногами.
Она накормила их ужином, заправила лампу, завтрак уже готовился на огне, – и теперь она искала, чего бы починить, словно не штопала тут же каждую прореху, едва что-нибудь рвалось. И вот, отыскивая, чем бы занять руки, она вдруг остановилась и посмотрела на юного Генри. Взгляд этот, суровый и нежный, казалось, говорил: «Как бы он не схватил простуду! Пол-то холодный». А Генри поежился под ним, припоминая, что́ именно он забыл сделать сегодня. Но Матушка Морган уже схватила тряпку и принялась вытирать пыль. У юноши отлегло от сердца.
Он вытянулся на полу, опираясь на локоть, и всматривался сквозь пламя в собственные мысли. Долгий серый день, вонзившийся в таинственность ночи, пробудил в нем страстное томление, уже давно дремавшее под спудом. Он мучительно желал, сам не зная чего. Быть может, над ним властвовала та же сила, которая сбивала птиц в стаи, гнала их в неведомую даль, а животных заставляла нервно ловить ноздрями ветер – не несет ли он запах зимы.
В этот вечер юный Генри понял, что без толку прожил пятнадцать никчемных лет, ничего не совершил и не достиг ровнехонько ничего. Знай его мать, какие им владели мысли, она сказала бы: «Мальчик растет».
И его отец повторил бы следом за ней: «Мальчик растет». Но оба думали бы разное и не поняли бы друг друга.
Генри, если говорить о его лице, унаследовал черты родителей почти в равных долях. Материнские жесткие скулы, твердый подбородок, короткая и узкая верхняя губа. Но пухлая нижняя губа, но тонкий нос, но грезящие глаза – их он получил от Старого Роберта. Как и крутые завитки густых черных голос. Однако лицо Роберта отражало бесконечную нерешительность, лицо же Генри излучало решительность – если бы ему только было что решать! Трое перед огнем – Старый Роберт, Гвенлиана и юный Генри – проникали взглядом сквозь стену и созерцали бестелесные видения, искали призраков во тьме.
Ночь была колдовская, когда можно увидеть плывущие над дорогой кладбищенские огни или тени римских легионеров, убыстряющих шаг, чтобы добраться до укреплений Карлиона прежде, чем разразится буря. А крошечные уродцы холмов ищут брошенные барсучьи норы, где удобно укрыться от ночи и от ветра, который с воем гонится за ними по лугам.
Внутри дома было тихо, только постреливали угли да шуршала под ветром солома терзаемой кровли. В очаге с треском лопнуло полено, выбросив узкий язык пламени, который огненным цветком прильнул к черному чайнику. Матушка Морган поспешила туда.
– Роберт, ты бы присматривал за огнем. Кочергой его надо, кочергой!
Таков был ее метод: она рылась кочергой среди разгоревшихся поленьев, пока совсем не сбивала с них пламя. А когда оно угасало, принималась яростно ворошить угли, чтобы оно запылало вновь.
С дороги донесся еле слышный шорох шагов: то ли там гулял ветер, то ли бродила невидимая нечисть. Однако звуки нарастали, оборвались возле двери, и в нее кто-то робко поскребся.
– Войдите! – крикнул Роберт.
Дверь бесшумно отворилась. Отблеск огня вырвал из ночного мрака согбенную фигуру обессиленного человека с глазами, как два чуть теплящихся огонька. Он помедлил на пороге, а потом вошел в комнату и спросил странным надтреснутым голосом:
– Ты меня узнаешь, а, Роберт Морган? Узнаешь, хоть и долго не был я здесь?
Это была мольба.
Роберт вгляделся в изможденное лицо.
– Узнаю ли? – сказал он. – По-моему, я никогда… Погодите… Неужели ты – Дафид? Маленький Дафид с нашей фермы, который ушел в море много лет назад?
Незнакомец просиял от облегчения, точно Роберт Морган с честью вышел из хитрого и страшного испытания. Он усмехнулся.
– Дафид, он самый. Богатый… и промерзший до костей. – В его голосе нарастала тоска, как набежавшая судорога боли.
Выглядел он каким-то белесо-серым, заскорузлым, как пересохшая коровья шкура. Кожа на лице, казалось, настолько загрубела, что выражения на нем менялись лишь ценой сознательных усилий.
– Я промерз до костей, Роберт, – продолжал странный иссохший голос. – И больше не могу согреться. Зато я богат, – добавил он, будто одно уравнивало другое. – Разбогател вместе с тем, кого называют Большой Пьер.
Юный Генри давно вскочил с пола и теперь нетерпеливо воскликнул:
– Но где ты был? Где?
– Где? Да в Индиях. Вот где я был. В Гоаве, и на Тортуге – а слово это значит «черепаха», – и на Ямайке, и в дремучих лесах Испаньолы охотился на дикий скот. Я там всюду бывал.
– Ты бы сел, Дафид, – сказала Матушка Морган так, словно он никогда и никуда не уезжал. – Сейчас сделаю тебе теплое питье. А Генри-то так и ест тебя глазами, э, Дафид? Того гляди, сам в твои Индии соберется! – Сама она эти свои слова считала пустой шуткой.
Дафид молчал, словно подавляя желание говорить и говорить. Но Матушка Морган внушала ему тот же страх, что и в те годы, когда он был белобрысым деревенским мальчишкой. Старый Роберт понимал его смущение, да и Матушка Морган как будто что-то заметила, – сунув ему в руки дымящуюся кружку, она вышла из комнаты.
Дряхлая Гвенлиана сидела перед очагом, но сознание ее затерялось в волнах будущего, смутные глаза застлал грядущий день. За их блеклой голубизной словно громоздились события и судьбы, которые он нес. Она тоже удалилась из комнаты – удалилась в чистую стихию Времени и Будущего.
Старый Роберт подождал, пока за его женой не закрылась дверь, а потом поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, точно свертывающаяся калачиком собака.
– Так что же, Дафид? – сказал он и прищурился на огонь, а Генри, присев на пятки, почтительно взирал на смертного, который держал в горсти безмерность расстояний.
– Я, Роберт… я хотел рассказать про вечнозеленые непролазные чащи, и про коричневых индейцев, которые в них живут, и про того, которого называют Большой Пьер. Только, Роберт, что-то погасло во мне, точно огарок на ветру. По ночам я лежал на корабельных палубах и все думал, думал, как я буду рассказывать и хвастать, дай мне только домой вернуться. И вот я вернулся – точно малое дитя поплакать в родных стенах. Можешь ты это понять, Роберт? Хоть немного понять?
Он жадно наклонился вперед.
– Вот слушай. Мы захватили большой корабль с грузом серебра, галеон, как его там называют, а у нас были только пистолеты да тяжелые ножи – чтобы прорубать дорогу в зарослях. Двадцать четыре человека, всего-навсего двадцать четыре, оборванные, в лохмотьях… Но этими ножами, Роберт, мы творили гнусные дела. Скверно, когда парень, трудившийся на земле, творит такое, а потом все думает об этом и не может забыть. Капитан был храбрец, а мы подвесили его за большие пальцы и только потом убили. Не знаю, зачем мы это сделали. Я помогал – и не знаю почему. Кто-то сказал, что он проклятый папист. Так ведь и Большой Пьер, по-моему, тоже был из них. А других мы столкнули в море – и, пока они шли на дно, такие бравые солдаты, изо рта у них рвались вверх пузыри, пузыри воздуха, а их панцири блестели и мерцали, опускаясь в глубину. Там в воде глубоко видно…
Дафид умолк и уставился в пол.
– Не хотел я тебя такими рассказами мучить, Роберт, да только у меня в груди под ребрами будто живая тварь грызет и царапает, чтобы выбраться вон. Я вот разбогател на таких делах, но все кажется, будто одного этого еще мало. А ведь я, может, побогаче буду твоего родного брата, сэра Эдварда.
Роберт улыбался крепко сжатыми губами. Иногда он обращал взгляд на сына, привставшего на колени у очага. Генри был как натянутая струна и жадно впитывал каждое слово. Когда Роберт заговорил, он не смотрел на Дафида.
– Твоя душа изнемогает под тяжким бременем, – сказал он. – Утром откройся священнику. А в чем – знать не мне.
– Нет, душа тут ни при чем, – торопливо возразил Дафид. – В Индиях душа сразу же испаряется из человека и остается на ее месте одна какая-то сухость, и все словно сморщивается. Никакая это не душа, а отрава, что у меня в крови и в мозгу, Роберт. Из-за нее я и зарастаю плесенью, как лежалый апельсин. Ползучие твари и ночные летуны, которых приманивает в темноте твой костер, и большие бледные цветы – они там все ядовитые. И обрекают человека на неслыханные муки. Вот даже сейчас кровь скользит по моим жилам, точно ледяные иголки, а ведь я сижу перед жарким огнем. И все это, все из-за сырого и смрадного дыханья зарослей. Ты в них и не живешь вовсе, но стоит уснуть там или просто прилечь, как они дохну́т на тебя и погубят. А коричневые индейцы… Да ты погляди! – Дафид закатал рукав, и Роберт с омерзением, знаком попросил его поскорее одернуть рукав, закрыть жуткую белую язву, которая разъедала ему локоть. – А ведь стрела только чуточную царапинку оставила, и не разглядеть было. Но уложит она меня в могилу до срока, уж я знаю. И отрава во мне не только эта. Там даже люди и те ядовитые. У матросов есть такая песня…
Юный Генри возбужденно перебил его.
– А индейцы? – вскричал он. – Индейцы и их стрелы? Расскажи про них! Они много воюют? Какие они из себя?
– Воюют? – повторил Дафид. – Воюют они все время. Воюют из любви к этому делу. Если на испанцев не нападают, так убивают друг друга. Гибкие они, точно змеи, быстрые, бесшумные и коричневые, как хорьки. И будто сквозь землю проваливаются, едва начнешь в них целиться. Но народ они храбрый и крепкий, и ничего не боятся, кроме собак и рабства! – Дафид все больше увлекался своим рассказом. – Знаешь, малый, что они делают с тем, кого захватят в стычке? Утыкают его с ног до головы длиннющими колючками, а на конец каждой колючки надевают комок пуха вроде мотка шерсти. И стоит бедняга пленный в кольце голых дикарей, и они поджигают пух. И тот индеец, который не запоет, пока горит, как факел, будет проклят и объявлен трусом. Можешь ты вообразить, чтобы на такое был способен белый? А вот собак они боятся, потому что испанцы охотятся на них с большущими волкодавами, чуть им потребуются новые рабы для рудников. Ну, индейцам-то рабство хуже смерти. Скуют попарно, загонят в сырое подземелье, и так год за годом, год за годом, пока не уморит их болотная лихорадка. Вот и рад всякий из них запеть, когда загорятся колючки, и умереть в огне.
Дафид замолчал и протянул худые руки к очагу, почти погрузив их в пламя. Свет, вспыхнувший было в его глазах, пока он говорил, вновь угас.
– Устал я, Роберт, так устал! – сказал он со вздохом. – Но не лягу спать, пока не открою тебе одного. Может, тогда мне легче станет, может, выговорюсь и забуду хоть на эту ночь. Не могу я теперь жить вдали от зарослей, от их жаркого дыхания. Ведь тут, где я родился, меня бьет озноб и я все время мерзну. Так мне и месяца не протянуть. Наша долина, где я родился, вырос, трудился, изгоняет меня в смрадную геенну. Очищается от меня морозом. А теперь, не найдется ли у тебя для меня постели, и с толстым одеялом, чтобы моя бедная кровь не застыла вовсе? Утром я отправлюсь в путь. – Он умолк, и лицо его сморщилось, словно от боли. – А как я любил зиму!
Старый Роберт проводил его, поддерживая под локоть, потом вернулся и снова сел у огня. Он поглядел на юношу, который снова неподвижно вытянулся у очага.
– О чем ты думаешь теперь, мой сын? – немного погодя спросил он негромко. И Генри оторвал глаза от дальних земель по ту сторону огня.
– О том, отец, что мне надо поскорее уйти из дома.
– Я знаю, Генри. Весь этот год я смотрел, как желание уйти растет в тебе, точно крепкий дубок, – уехать в Лондон, в Гвинею, на Ямайку, все равно куда, лишь бы уехать. Потому что тебе пятнадцать лет, потому что ты силен и жаждешь новизны. Когда-то и для меня долина становилась все у́же, все теснее, пока, мне кажется, немножко меня не задушила. Но разве тебя не пугают тяжелые ножи, мой сын? И яды, и индейцы? Они не внушают тебе страха?
– Не-ет, – медленно произнес Генри.
– Да, разумеется. С какой стати? Все эти слова для тебя лишены смысла. Но печаль Дафида, его муки, его больное, изможденное тело – разве они тебя не пугают? Неужели ты хочешь скитаться по свету с такой тяжестью на сердце?
Юный Генри надолго задумался.
– Таким я не стану, – сказал он наконец. – Буду часто возвращаться домой, чтобы моя кровь осталась здоровой.
Его отец продолжал мужественно улыбаться.
– Когда ты хочешь отправиться в путь, Генри? Без тебя тут будет очень пусто.
– Да как можно скорее, – ответил Генри, точно он был взрослым мужчиной, а Роберт – маленьким мальчиком.
– Генри, но прежде я попрошу тебя о двух одолжениях. Подумай сегодня о долгих бессонных ночах, которые предстоят мне из-за тебя, и о том, какими горькими будут мои дни. И о том, как твою мать будут часами терзать мысли, что ты весь обносился и забываешь молиться на ночь. Это, во-первых, Генри. А во-вторых, поднимись завтра на Вершину к старому Мерлину, расскажи ему, что ты задумал уйти, и выслушай его. Он мудр – ни мне, ни тебе никогда не обрести такой мудрости. И ему ведомо колдовство, которое может сослужить тебе службу. Ты сделаешь это ради меня, мой сын?
Генри сказал грустно:
– Я бы остался, отец, но ведь ты знаешь…
– Да, мальчик. – Роберт кивнул. – На горе себе я знаю. А потому не могу ни рассердиться, ни приказать тебе остаться. Хотя и предпочел бы запретить тебе даже думать об этом и высечь тебя в убеждении, что поступаю так для твоего же блага. Но иди ложись, Генри, и в темноте думай, думай, думай!
Юноша ушел, а Старый Роберт остался сидеть в кресле.
«Почему люди вроде меня хотят иметь сыновей? – размышлял он. – Наверное, в наших бедных искалеченных душах живет надежда, что эти юноши, в которых течет наша кровь, сумеют совершить все, чего сделать нам самим не хватило сил, или ума, или мужества. Так, словно тебе даруют еще одну жизнь, словно, проигравшись дотла за столом удачи, ты находишь в кармане еще один туго набитый кошелек. Быть может, мальчик поступает так, как следовало бы много лет назад поступить мне, если бы у меня достало мужества. Да, долина меня и правда задушила. И я рад, что у моего сына есть силы вырваться из кольца гор и выйти в широкий мир. Но здесь… здесь без него будет так пусто!»
II
На следующее утро Старый Роберт вернулся из своего розового сада очень поздно, и жена, подметавшая комнату, неодобрительно посмотрела на его выпачканные в земле руки.
– Он хочет уехать сразу же, мать, – неуверенно произнес Роберт.
– Кто это хочет уехать и куда? – Она продолжала орудовать метлой. Быстрые любопытные прутья выгоняли пыль из углов и щелей между половицами, перегоняли ее облачка на открытое место.
– Да Генри же! Он хочет сейчас же уехать в Индии.
Она прервала свое занятие и поглядела на него.
– В Индии! Послушай, Роберт… А, глупости все это! – закончила она, и метла еще энергичнее замелькала по полу.
– Я уже давно видел, как в нем росло это желание, – продолжал Роберт. – А тут явился Дафид со своими рассказами. Вчера вечером Генри сказал мне, что уезжает.
– Так он же еще малолетка! – отрезала Матушка Морган. – Какие там Индии!
– Когда Дафид ушел с зарей, в глазах мальчика была жажда, которой ему никогда не утолить, даже если он и отправится в Индии. Неужели ты не замечала, мать, как его глаза все время смотрят за горы на что-то, чего он жаждет?
– Да нельзя же ему ехать! Нельзя!
– Ничего не поделаешь, мать. Огромная пропасть лежит между моим сыном и мной, но не между мной и моим сыном. Не знай я, какой голод его гложет, я, возможно, запретил бы ему покидать дом и он бежал бы тайком со злобой в сердце. Он ведь не знает, какой голод гложет меня, какое желание, чтобы он остался! И конец был бы тот же, – сказал Роберт со все растущим убеждением. – Между мной и моим сыном есть жестокое различие, как я все чаще замечал последние годы. Он перебегает от одного горшка с холодной кашей к другому и в каждый сует палец, твердо веря, что вот тут-то и найдет яство своей мечты, я же не приподниму ни единой крышки, ибо твердо верю, что везде только каша, и всегда холодная. Да, я не сомневаюсь, что огромные блюда пурпурной каши, облитой молоком дракона, сдобренной неведомой сладостью, существуют лишь в воображении. Он свои грезы испытывает явью, мать, а я, да смилуется надо мной Бог, страшусь поступить так же.
Эта пустая болтовня вывела ее из терпения.
– Роберт! – воскликнула она с сердцем. – Всякий раз, когда нам грозят беда, нужда или горе, ты прячешься за словами. Где твой родительский долг? Мальчик еще мал, а за морем всяких ужасов не перечесть, да и зима не за горами. Зимний кашель сведет его в могилу. Ты же знаешь, он простужается, чуть промочит ноги! Никуда он отсюда не уедет, даже в Лондон! И пусть эти его глаза, про которые ты толкуешь, иссохнут от голода. Откуда ты знаешь, с какими людьми он поведется? Каким глупостям, каким мерзостям они его обучат? Я-то знаю, сколько в мире зла. Священник ведь чуть не каждый день Господень твердит про силки и ловушки, которые расставляет нам суетный мир. Или ты не понимаешь? Но так оно и есть. А ты сидишь сложа руки и бормочешь всякие глупости про пурпурные каши, вместо того чтобы что-то сделать. Запрети ему – и делу конец.
Однако Роберт ответил с раздражением:
– Для тебя он малый ребятенок, за которым надо присматривать, чтобы он помолился на ночь, а выходя из дома не забывал надеть курточку, и ты не замечаешь в нем стали, как замечаю я. По-твоему, когда он упрямо выставляет подбородок, это мимолетный каприз расшалившегося несмышленыша. Но я знаю – и говорю тебе это без всякой радости, – что наш сын поднимется очень высоко, потому… да, потому что он не очень умен. И способен видеть только то, что хочет сейчас, сию минуту. Я сказал, что свои грезы он испытывает явью. И каждую он сразит стрелой своей же неумолимой воли. Этот мальчик добьется любой цели, к которой будет стремиться, ибо не признает ничьих мыслей и побуждений, кроме собственных, и я сожалею о его грядущем величии, ибо однажды Мерлин сказал нечто… Погляди на его гранитный подбородок, мать, на желваки, которые вздуваются на его скулах, когда он стискивает зубы.
– Он должен остаться дома, – объявила Матушка Морган и сжала губы в тонкую линию.
– Вот видишь, мать, – продолжал Роберт, – ты и сама бываешь такой же, как Генри, потому что не признаешь ничьих мнений, кроме собственного. Но я не стану ему препятствовать, потому что не хочу, чтобы он ушел тайком темной ночью, с куском сыра и краюхой хлеба за пазухой, с обидой в сердце. Я разрешаю ему уехать. И даже помогу, если он того захочет. Вот тогда, если я все-таки ошибаюсь в своем сыне, он вернется назад присмиревший, робко про себя надеясь, что никто не помянет его трусости.
Матушка Морган ответила: «Глупости», – и снова взялась за метлу. Она не поверит этому вздору и тем его рассеет. О, сколько всего она ввергла в небытие отказом поверить. Многие годы она сокрушала нелепые мечты Роберта тяжелыми фалангами здравого смысла. Ее войско атаковало без промедления и разбивало врага наголову. Роберт всегда устало отступал и некоторое время сидел, улыбаясь чему-то. Конечно, и на этот раз он скоро образумится.
Сильные загорелые пальцы Роберта рыхлили почву у корней розового куста. Они подхватывали комочки чернозема и аккуратно прихлопывали их там, где следовало. Время от времени Роберт с неизъяснимой любовью поглаживал серый стволик. Казалось, он поправляет одеяло на спящем и проводит рукой по его плечу, убеждая себя, что все хорошо.
День выдался ясный: зима чуть-чуть отступила и вернула миру взятого в плен заложника – маленькое холодное солнце. В сад вошел юный Генри и остановился у ограды под вязом, оголенным, изломанным грубыми ласками ветра.
– Ты подумал, как я тебя просил? – произнес Роберт негромко.
Генри вздрогнул. Ему казалось, что человек, который опустился на колени, словно поклоняясь земле, не мог заметить его присутствия, хотя пришел он для того, чтобы быть замеченным.
– Да, отец, – ответил он. – Как я мог не думать?
– И понял, что не можешь никуда уехать. Ты останешься?
– Нет, отец, остаться я не могу. – Печаль отца опечалила его, но жажда странствий стала только еще сильнее.
– Но на Вершину поговорить с Мерлином ты пойдешь? – умоляюще сказал Роберт. – И будешь слушать его внимательно.
– Сейчас и пойду.
– Генри, день же почти на исходе, а дорога туда неблизкая. Погоди до завтра.
– Завтра я должен уйти, отец.
Руки Старого Роберта медленно опустились, ладони с полусогнутыми пальцами легли на черную землю у корней розового куста.
III
Юный Генри скоро свернул с проезжей дороги на крутую тропу, которая взбиралась к Вершине и уводила дальше, в самое сердце диких гор. Снизу было хорошо видно, как она петляет, прежде чем нырнуть в глубокую расселину. На самом высоком месте, откуда тропа убегала вниз, жил Мерлин – Мерлин, которого деревенские мальчишки, когда он изредка спускался в селение, осыпали бы насмешками и камнями, если бы думали, что он стар и беззащитен. Но Мерлин сумел окружить себя ореолом всяческих легенд. Кто не знал, что тилет-тег покорствуют ему и приносят вести от него и к нему на беззвучных крыльях?! Дети шепотом предупреждали друг друга, что он водит дружбу с пятнистыми хорьками, и те отомстят за него, если он пожелает. И еще у него жила красноухая собака! Было чего бояться. Да уж, детям, которые не знают всех спасительных заклинаний, никак не следовало задевать Мерлина.
Некогда Мерлин был чудесным поэтом, рассказывали старики, и мог бы стать великим. И в доказательство они начинали тихонько напевать «Печаль Плейта» или «Песнь копья». Не раз он получал главный приз на состязаниях певцов и был бы провозглашен Первым Бардом, если бы соперником его не был отпрыск дома Рисов. Тогда по неведомой причине Мерлин, еще совсем юноша, заточил свою песнь в каменном доме на Вершине и держал ее там, как в темнице, а сам старел, старел, старел, и те, кто некогда пел его песни, забыли их или умерли. Дом на Вершине был круглым, точно низкая серая башня, с окнами, смотревшими и в долину, и на горы. Одни говорили, что построил его много веков назад осажденный врагами великан, чтобы укрывать там своих девственниц – пока они ими оставались. Другие уверяли, что туда после битвы при Гастингсе бежал король Гарольд и до конца своих дней вглядывался единственным глазом в долину, не покажется ли там передовой норманнский отряд.
Теперь Мерлин был уже очень стар, волосы и длинная ниспадающая на грудь борода стали белыми и мягкими, как весенние облака. Он походил на древнего друида, жреца, чьи ясные зоркие глаза привыкли наблюдать звезды.
Чем выше поднимался юный Генри, тем у́же становилась тропа. По одну ее сторону вздымалась каменная стена, лезвием ножа врезаясь в небо. Трещины и выступы на ней слагались в неясные очертания, словно это был скальный храм древнего бесформенного бога, которому поклонялись обезьяны.
Сначала он видел траву, кусты, а кое-где и искривленные мужественные деревца, но выше все живое погибло, не вынеся каменного одиночества. Далеко внизу дома и хозяйственные постройки казались скоплением кормящихся жуков, а долина съежилась, замкнулась сама в себе.
Тут к тропе и с другой стороны подступила гора, оставив над головой только узкую полоску неба в неизмеримой высоте. Из небесной синевы водопадом рушился яростный ветер и с воем уносился в долину. А камни вокруг становились все больше, все чернее и страшнее – готовые к прыжку хранители тропы.
Генри ровным шагом шел и шел вверх. Что такого может сказать ему старый Мерлин? Или подарить? Втирание, делающее кожу такой твердой, что ее не пробьет никакая стрела? Могущественный талисман? Заклинание от легионов малых слуг дьявола? Нет, Мерлин будет только говорить, а он, Генри, должен будет слушать. И то, что Мерлин скажет, может излечить его от неутолимого голода, навсегда удержать здесь, в Камбрии. Только этого не будет! Ведь его призывают и манят неведомые силы, безымянные призраки далеких земель по ту сторону таинственного моря.