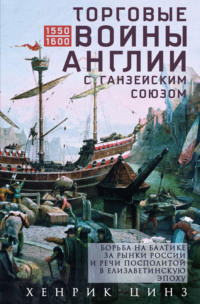Kitobni o'qish: «Торговые войны Англии с Ганзейским союзом. Борьба на Балтике за рынки России и Речи Посполитой в Елизаветинскую эпоху», sahifa 3
Глава 2
Московская компания и нарвский маршрут в балтийской торговле Англии
В Елизаветинскую эпоху внешняя торговля Англии быстро развивалась во многих направлениях. В большинстве случаев, будь то в Леванте или в Африке, англичане следовали по стопам португальцев и других исследователей и купцов и, таким образом, неизбежно вступали с ними в конфликт. В Прибалтике проникновение Англии также сопровождалось ожесточенным соперничеством с Ганзой. Однако в середине XVI в. она нашла такое направление торговой экспансии, которое не подвергало ее конфликтам с мореходной мощью Испании или Португалии, хотя и приносило трудности иного рода, главным образом климатического и навигационного характера. Этим новым направлением был северный путь в Россию, который в глазах современников обещал привести не только в державу царей, но и к богатствам Востока, к легендарным сокровищам Китая и Индии. Отправившаяся в 1553 г. экспедиция для открытия северовосточного пути в Китай и Индию привела к открытию торгового пути через Белое море в Москву и основанию Московской компании – первой организации акционерного типа в английской внешней торговле.
Возникновение Московской компании связано с инициативой около 240 лондонских купцов, среди них было немало купцов-авантюристов, которые при поддержке двора профинансировали экспедицию 1553 г. по открытию северо-восточного маршрута на сумму 6000 фунтов стерлингов акциями по 25 фунтов каждая. Идея такой экспедиции была не новой. Ее высказывали во времена Генриха VIII, а в 1527 г. Роберт Торн утверждал, что «за пределами Испании открыли всю Индию и западные моря, а за пределами Португалии – всю Индию и восточные моря», ввиду чего север остался естественной территорией для изучения англичанами.
План достижения сокровищ Востока был не единственным мотивом отправки экспедиции на Белое море. Нет сомнения, что в основном ее вдохновляла необходимость найти новые рынки сбыта для английского сукна, которое в середине века столкнулось с известным экспортным кризисом. В течение 1-й половины столетия экспорт тканей из Лондона увеличился примерно на 150 %, но после 1550 г. произошел спад – со 132 767 тканей в этом году до 84 969 в 1552 г., ниже, чем в 1-й половине столетия. В этой связи примерно в это же время Клемент Адамс сделал примечательное заявление, связавшее начало экспедиции 1553 г. скорее с поиском новых рынков, чем с желанием найти золото, и добавил: «Наши купцы считали, что товары и изделия Англии пользуются малым спросом у окружающих нас стран и близких к нам людей и что те товары, которые чужестранцы в былые времена и на памяти наших предков искренне искали и желали, теперь остались без внимания, и цена на них снизилась…»
В этих обстоятельствах «некоторые серьезные граждане Лондона» решили развивать новое и доселе не известное направление торговли и судоходства. К концу Елизаветинской эпохи сама Московская компания объясняла свое основание этими факторами, заявляя, что «во времена короля Эдуарда VI он и его совет считали неудобным, что производство товаров в Англии, в особенности одежды, так сильно зависит от Нидерландов и Испании, и побуждали своих подданных-купцов отправляться в путешествие ради открытия новых торговых возможностей на севере…».
Это заявление становится еще более понятным, если вспомнить, что многие члены Московской компании также были купцами-авантюристами, которые в значительной степени зависели от экспорта тканей в Голландию. Исследования Т.С. Виллана показали, что среди первых членов Московской компании было около 26 купцов-авантюристов, а также 16 других купцов, которые, вероятно, принадлежали к обеим компаниям. Виллан установил также, что около 30 % учредителей Московской компании были экспортерами сукна, что еще больше подтверждает высказанное выше мнение.

Среди организаторов экспедиции «в Китай», как официально называлось путешествие 1553 г., хотя корабли должны были идти в Россию через Белое море, наиболее важными были знаменитый мореплаватель Себастьян Кабот, сын Джона Кабота, Хью Уиллоби и лоцман Ричард Ченслор. Флот состоял из трех судов – «Бона Сперанца» (120 тонн), «Эдуард Бонавентура» (160 тонн) и «Бона Конфиденца» (90 тонн). Помимо экипажей, трех врачей и капеллана, на кораблях находилось 18 купцов, что ясно указывает на торговые цели экспедиции. Это было далее подчеркнуто в письме Эдуарда VI, адресованном «всем королям, принцам, государям, судьям и правителям мира», в котором не только превозносились взаимные экономические выгоды, которые можно получить от торговли, но и доказывалось, что она немало способствует сближению и дружбе между всеми народами мира.
Из трех кораблей только один, «Эдуард Бонавентура», под командованием Ченслора, дошел до устья Двины. Остальные застряли на побережье Лапландии, а их команды умерли от холода и голода. При дворе Ивана IV Ченслору был оказан дружеский прием, и в 1554 г. он вернулся в Англию с грамотой царя к королю, в которой Иван выражал желание развивать торговлю с Англией и предоставить английским купцам привилегии для ведения торговли по всему своему царству. Год спустя, 26 февраля 1555 г., королева Мария издала устав, учреждающий Московскую компанию для торговли с Россией и подробно описывающий характер ее организации, ее права, обязанности членов и т. д. Компания сразу же начала активную торговлю с Россией через Белое море при поддержке Ивана IV, который в конце 1555 г. пожаловал компании обширные торговые привилегии. Опуская эти хорошо известные детали, как находящиеся за рамками нашего исследования, мы просто рассмотрим характер англо-русской торговли, а затем более широко обсудим вопрос о Нарвском пути, который на короткий период позволил Англии участвовать в торговле с Россией и через Прибалтику.
Русские продукты издавна попадали в Англию главным образом через Ганзу, игравшую существенную роль в торговле. По этому маршруту в Англию через порты Ливонии русские меха, воск и зерно привозили из Новгорода, и по тому же пути английское сукно издавна вывозилось на Восток через Готланд и Скандинавию, хотя этой торговле трудно дать количественную оценку. Освоение английскими мореплавателями северного пути, до сих пор мало использовавшегося, не только показало, что английские купцы добились независимости от Ганзы в торговле с Москвой, но и было признаком того, что англо-ганзейское соперничество распространилось уже на область русской торговли, еще больше ослабляя Ганзу.
О торговле Англии с Россией в начале 2-й половины XVI в. мы располагаем лишь отрывочными данными. Они позволяют нам узнать истинный характер торговли, но не дают сформировать более подробные количественные оценки. В то же время они раскрывают серьезные трудности, которые приходилось преодолевать в этой северной торговле из-за климатических и навигационных опасностей. Например, в 1556 г. на обратном пути потерпели крушение три из четырех английских кораблей. Условия такого рода означали, что на практике только один раз в году – обычно в мае или июне – флот, состоявший, как правило, из нескольких крупных кораблей, совершал четырехнедельное плавание из Англии по Белому морю, в России они находились месяц, брали на борт русские товары и возвращались в августе или сентябре. По обыкновению, агент Московской компании контролировал ход торговых операций и, в соответствии с уставом акционерного общества, реализовывал сделку от начала до конца, действуя от имени организации. Как мы уже упоминали, в случае регулируемых государством компаний каждый купец вел торговлю за свой счет.
Анализ грузов судов, торговавших с Москвой в начале 2-й половины XVI в., показывает, что основную роль играл экспорт сукна, тогда как импорт состоял главным образом из воска, сала, льняных канатов и мехов. Три корабля, приплывшие в Россию в 1560 г., перевезли 276 штук сукна, 100 кисеи и небольшое количество продуктов, соли, олова и т. д. В 1564 г. четыре корабля доставили еще более разнообразные грузы, кроме свинца, олова, серы, бакалейных товаров и бумаги, они везли дорогие тканые изделия, шелка и т. д. Лондонская портовая книга за 1565 г. показывает, что в этот год в Москву было вывезено 317 штук сукна и 830 кисеи. Сравнивая данные об английском экспорте в Россию с экспортом в Прибалтику, мы приходим к выводу (подробнее об этом поговорим в гл. 8), что во 2-й половине XVI в. русский рынок еще не представлял серьезного конкурента Балтийскому региону и его доминирующим польским портам. В этот период порты Московии получали лишь небольшой процент от общего экспорта английских тканей в Восточную Европу морским путем.
Что касается импорта Англии из России, то только в отношении льна и канатов русский рынок оказался серьезным соперником балтийского рынка, отчасти из-за дешевизны товаров, как подчеркивала сама Московская компания в 1557 г. (Более подробный анализ мы проведем в гл. 8.) В 1568 г. два купца, Баннистер и Дакетт, обратили внимание Уильяма Сесила на выгоды, которые можно получить от импорта корабельных снастей, парусов, смолы и других корабельных товаров из Москвы, и подчеркнули, что эта торговля позволила Англии «выйти из рабства короля Дании и города Данцига». В 1580 г. Ричард Хаклюйт, аргументируя необходимость дальнейшего освоения северо-восточного пути «в Китай», выражал надежду, что северорусский рынок окажется столь же богат продуктами, необходимыми для английского флота, как и балтийский.
Привилегия королевы Марии 1555 г. дала Московской компании монополию на торговлю с Россией и всеми странами, «лежащими на севере, северо-востоке и северо-западе», которые до английского путешествия в Россию в 1553 г. не были известны английским купцам. Поскольку на тот момент Россия еще не получила доступа к Балтийскому морю, торговые операции компании ограничивались северным маршрутом через Белое море. Ситуация изменилась и осложнилась, когда в 1558 г. Россия завоевала часть Ливонии с ее важным портом Нарвой в устье реки Нарвы в Финском заливе. Не обращая внимания на политическую сторону этого вопроса, остановимся здесь лишь на его коммерческом значении для Англии в отношении балтийской торговли и тех осложнений, которые она породила для Московской компании.
Таблица 2.1
Доля Нарвы в английских балтийских плаваниях, 1563–1578 гг. (%)

Интересен тот факт, что Московская компания не сразу заинтересовалась возможностью торговли с Россией через Нарву и даже после 1558 г. продолжала использовать исключительно северный путь. Мы не знаем точно, когда английские купцы впервые пошли по Нарвскому пути. В регистрах пошлин за проход пролива Зунд отмечается только одно английское судно, возвращавшееся на запад из Нарвы в 1563 г. Но в 1564 г. их было 6, в 1566 г. – 42 (самое большое число), а в 1567 г. – 16. В последующие годы количество английских кораблей, идущих в Нарву и обратно, постепенно сокращалось, и после 1574 г., когда их было 13, английское использование этого пути практически прекратилось, если не считать нескольких дальнейших контактов (например, четырех кораблей в 1578 г.). Таким образом, за исключением 1566 г., когда английские суда, возвращавшиеся из Нарвы, составляли 54,5 % всего английского судоходства, проходящего из Балтийского моря через Зунд, а также 1567 и 1568 гг., заходы в Нарву составляли относительно небольшую долю от общей балтийской навигации английских судов.
Купцы Гамбурга вступили в торговые отношения с Нарвой уже в 1560 г., когда 10 их кораблей вернулись из этого порта через Зунд. В этот период торговлю с Нарвой также развивали голландцы.
Открытие Нарвского пути грозило Московской компании весьма серьезной опасностью потерять монополию на русскую торговлю, если английским купцам, не входившим в компанию, будет разрешена торговля с Россией по Балтике – развитие событий, которого, конечно, не могли предвидеть основатели компании в 1555 г., когда они составляли планы своей привилегии. Кроме того, как акционерное общество, оно не позволяло своим членам заниматься индивидуальной торговой деятельностью и считало торговлю с Нарвой, которую отдельные участники осуществляли за свой счет, не законной. Оно рассматривало Нарву как порт, входящий в сферу его влияния, якобы потому, что с 1558 г. Нарва находилась на территории, захваченной Москвой.
Около 1564 г. группа лондонских купцов начала торговлю с Нарвой. Главными фигурами выступили Джордж и Уильям Бонды, а также Джон Фоксалл. Их деятельность на этом новом маршруте московской торговли привлекла внимание Тайного совета, который запросил мнение по этому вопросу сэра Николаса Бэкона (отца философа Фрэнсиса Бэкона). Ответ Бэкона, датированный 4 апреля 1564 г., содержал неожиданно положительную оценку нового маршрута и перспектив торговли с Нарвой, торговлю же с Москвой он даже назвал «лучшим в мире способом торговли товарами, который только можно найти в наш век…» вследствие «надобности товаров, их низких цен, краткости пути и возможность продажи наших товаров». Он придерживался мнения, что при решении вопроса о пути на Москву, северном или по Балтике до Нарвы, нужно руководствоваться интересами страны, а не отдельных купцов. В пользу Нарвы говорили более короткий маршрут и более дешевая стоимость перевозки – примерно на 20 % меньше, чем по северному маршруту. Собственный взгляд Бэкона был решительным в пользу сохранения и развития московской торговли через Нарву и против ее монополизации Московской компанией. Он считал, что эта торговля должна быть доступна без ограничений всем английским купцам.
О том большом значении, которое придавалось в то время торговле с Москвой, свидетельствует речь шведского посла, произнесенная при английском дворе 3 апреля 1560 г. Обсуждая возможность брака между Елизаветой и шведским королем, он считал, что союз двух королевств принесет много выгод, и среди них будет значительное улучшение положения Англии в торговле с Россией.
Однако меморандум Николаса Бэкона в поддержку индивидуальной торговли с Нарвой не встретил одобрения Тай ного совета, который в конце концов принял позицию Московской компании и, следовательно, крупных лондонских монополистов. К концу 1564 г. Тайный совет приказал Уильяму Бонду прекратить торговлю с Нарвой за свой счет, и на короткое время его даже держали под арестом из-за отказа подчиниться. Три упомянутых выше лондонских купца предприняли в это время попытку защитить свою торговлю с Нарвой, апеллируя даже к Великой хартии вольностей и статутам Эдуарда III, касающимся торговли, а также к привилегии Московской компании 1555 г., в которой никаких явных упоминаний о Нарве не было. По мнению братьев Бонд и Джона Фоксола, Нарва не могла попасть в зону монополии Московской компании, так как открыта была не ею. Они считали, что финансовые факторы также говорят в пользу индивидуальной торговли с Нарвой. Это могло принести английской короне доход в 500 фунтов стерлингов от таможенных пошлин, поскольку, по их оценкам, она ежегодно использовала бы 9 судов для ввоза таких дешевых и полезных русских продуктов, как воск, сало, лен, конопля и т. д.
В ответ на доводы сторонников свободной торговли с Нарвой Московская компания ссылалась на то, что ни один английский купец никогда не торговал с Нарвой до выдачи привилегии 1555 г. и поэтому, в соответствии с условиями этой привилегии, Нарва должна рассматриваться как попадающее в зону монополии компании. Также оказался оспорен и аргумент, апеллирующий к более низкой стоимости нарвского маршрута, – было указано на политические сложности и военные опасности, связанные с этим маршрутом, по сравнению с большей безопасностью северного плавания. И северный маршрут также должен быть дешевле, – например, веревки, импортированные по этому маршруту, дешевле на два шиллинга за сотню, чем веревки, купленные в Балтийском регионе.
При рассмотрении вопроса о Нарвском пути Тайный совет учитывал главным образом факторы политического характера и трудности балтийского судоходства в период Ливонских войн. Не углубляясь в этот вопрос, можно вспомнить, что в 1558–1561 гг. целых четыре государства – Польша с Литвой, Россия Ивана Грозного, Дания и Швеция – претендовали на наследие распадающегося государства рыцарей-меченосцев в Ливии. Столкновение интересов этих стран привело к конфликту европейского значения, охватившему большую территорию Северной Европы. Ливония была особенно важна для России, поскольку раньше это государство было барьером для доступа Москвы к Балтийскому морю и ее торговым, политическим и культурным связям с Западом. Однако политическая программа Ивана IV была направлена не только на получение доступа к балтийским портам, но и на полное господство в Ливонии. Речь Посполитая встревожилась такой политикой и в 1557 г. объявила ордену меченосцев войну, а весной 1558 г. царь вторгся в Ливонию и занял Нарву и Дерпт. Против открытия Нарвы как порта для России выступил польский двор, который призвал различные государства и города прекратить его использование и установить балтийскую блокаду России. Добавим, что в 1560 г. Дания воспользовалась кризисом ордена меченосцев в Ливонии, приобретя значительные владения у епископа Эзеля, а в 1561 г. ее примеру последовала Швеция, оккупировав Эстонию с портом Ревелем. Польша с Литвой также имели планы на Ливонию, и в 1561 г. магистр ордена Готар фон Кеттлер подчинил Ливонию Речи Посполитой, прося ее помощи и защиты. Ситуация еще более осложнилась, когда Москва заручилась поддержкой Дании, заинтересованной в развитии нарвского маршрута из-за доходов, которые она могла получить от платы за проезд по Зунду. С другой стороны, Швеция, владеющая Финляндией, хотя и спорила с Россией из-за Ингерманландии и, более того, была в плохих отношениях с Москвой после оккупации Эстонии и Ревеля, сначала вступила в схватку с Москвой в Семилетней Ливонской войне, которая началась в 1563 г. Оппозицию России и Швеции составляли Польша, Дания и ганзейские города, но у каждого из этих временных партнеров были свои цели и интересы, а их связи – эфемерными и непостоянными.
С точки зрения нашей темы важнейшим фактором проблемы являются трудности, с которыми столкнулись английские купцы в торговле с Нарвой из-за политической ситуации, сложившейся в Прибалтике, и вытекающее отсюда отношение Тайного совета к спору между Московской компанией и лондонскими купцами, желавшими торговать с Москвой индивидуально.
Эти трудности накануне Ливонской войны были связаны прежде всего с блокадой порта Польшей, шагом, задуманным отчасти как ответ на предполагаемый экспорт английского оружия в Москву. Стоит отметить, что Иван IV рассчитывал на импорт оружия с Запада, что побуждало его поддержать Московскую компанию. Еще 29 июля 1555 г., за несколько лет до захвата Россией Нарвы, венецианский посол в Лондоне сообщил, что Речь Посполитая требует от Англии гарантий и что Московская компания не будет снабжать царя оружием и военными материалами. Примерно в то же время король Швеции также протестовал против поставок Англией оружия в Москву. В 1558 г. Томас Алкок, один из агентов Московской компании, был задержан в Польше и допрошен на предмет поставок оружия в Москву. После взятия Иваном IV Нарвы обвинения в том, что Московская компания снабжала Россию оружием, становились все более частыми. В письме к Елизавете от августа 1558 г. император Фердинанд I указывал на опасности, которые могли возникнуть из-за доступа Москвы к Балтике, а год спустя отмечал, что позиции Ивана в войне, которую он вел за Ливонию, значительно укрепились в результате материальной помощи, которую он получил извне. В апреле 1561 г. в письмах к Елизавете I городские советы Гамбурга и Кёльна обвинили Англию в снабжении Ивана большим количеством пушек и другого оружия, как наступательного, так и оборонительного. Англия приобрела это оружие в Германии, откуда оно должно было быть переправлено в Нарву на английских кораблях. В письме к Елизавете от 31 мая 1561 г. император вновь протестовал против поставок в Москву военных материалов, особенно огнестрельного оружия, пороха, масла, железа и т. д., а также продовольствия, в том числе селедки и соли и таких товаров, как сукно и шелк. В начале мая 1561 г. в письме в Гамбург Елизавета королевским словом отвергала слухи, что Англия помогает Москве оружием и боеприпасами, и пообещала безжалостно наказать их авторов. Но эти слухи тем не менее продолжались. В конце мая 1561 г. император снова пожаловался на них, упомянув об отправке из Англии в Москву солдат, обученных военному искусству. В своем ответе от 7 июля 1561 г. Елизавета заявила, что строго запретила своим подданным вывозить оружие в Россию. И действительно, 28 июня 1561 г. она отдала приказ лорду-казначею следить за соблюдением наконец изданного 8 июля 1561 г. запрета. Но слухи о том, что военные материалы отправлялись в Россию английскими кораблями, все еще ходили. 8 же июля пришло известие, что значительная часть заказанного Елизаветой в Гамбурге вооружения была отправлена в Россию «в ущерб христианскому миру». 11 июля 1561 г. Уильям Сесил сообщил, что в Германии довольно широко распространено мнение, будто России удалось захватить Ливонию частично с помощью Англии. Несколько лет спустя, 6 января 1565 г., Дания обвинила Англию в поставках оружия в Швецию и даже пригрозила закрыть пролив. Королева протестовала против такого шага и апеллировала к англо-датскому договору времен первых двух Тюдоров, который он нарушал. Что касается обвинения Дании в том, что Англия поддерживает Швецию, королева выразила готовность наказать любых английских купцов, которые помогали врагам Дании оружием и продовольствием.
Блокада Сигизмундом Августом Нарвы и задержание заходивших в порт судов были продиктованы не только военными соображениями, но и, как справедливо заметил С. Бодняк, экономическими мотивами. Это был способ Польши защититься от русского конкурента, соперничавшего с экспортом из Речи Посполитой ряда видов вывозимого на Запад сырья. Пытаясь контролировать и ограничить торговлю Нарвы с Англией и другими странами, Сигизмунд Август в 1565 г. выдал своеобразный паспорт, дающий владельцу право плавать в Нарву и Швецию. Например, в 1568 г. в Нарву шли два английских корабля, «Примороза» и «Мейфлауэр», и такие паспорта выдал король Польши. Но эти уступки были скорее исключением, так как морская блокада Нарвы была призвана защитить Речь Посполитую политически и экономически от последствий конкуренции с Москвой. Насколько серьезно Польша относилась к опасности конкуренции Нарвы в балтийской торговле с Западом, показывают некоторые высказывавшиеся в то время мнения. Например, Ян Д. Соликовски, прекрасно разбиравшийся в политических и коммерческих делах, писал, что корона позволила «осквернить» порт Данциг, который был оком всего мира и источником национального богатства, допустив господство Москвы над Нарвой, куда теперь направлялись французы, англичане, голландцы и члены Ганзейского союза со своими товарами. В результате конкуренции Нарвы, писал он, «мы теряем морское государство с его 200-мильной береговой линией, с большим и вечным позором». А во времена первого междуцарствия анонимный автор писал: «Все блага и богатства приходят к короне через наши порты, которые, когда они через Нарву разрушаются, приносят бедность и нищету в Польшу». В свете этих высказываний становится ясен экономический аспект блокады Нарвы польскими военно-морскими силами. В 1562–1568 гг. королева Елизавета выражала протест против этой блокады как непосредственно Сигизмунду Августу, так и Данцигскому совету, требуя освобождения задержанных судов, торговцев и товаров. 3 марта 1568 г. Сигизмунд Август ответил на обвинения королевы, объяснив, что он действительно приказал польским военным кораблям задерживать и конфисковать грузы, идущие в Россию, с которой он все еще находился в состоянии войны. На протест Англии 3 июля 1568 г., требовавшей возвращения арестованных судов и товаров, отправленных в Нарву, Данцигский совет сослался на приказ польского короля и посоветовал королеве обратиться по этому поводу к нему. В английских источниках имеются различные упоминания о задержании польскими каперами судов, следовавших из Англии в Нарву. Письма Сигизмунда Августа от 26 мая 1566 г., 13 марта и 5 сентября 1569 г. свидетельствуют, что король Польши недвусмысленно подчеркивал важность блокады Нарвы. В письме к Елизавете от 13 июля 1567 г. он объяснял, что был вынужден пойти на этот шаг, поскольку именно через Нарву Россия получала оружие, продовольствие и ремесленников. О важности, которую Польша придавала устранению конкуренции со стороны Нарвы, указывает также требование, предъявленное французскому кандидату Генриху Валуа во время первого Междуцарствия, чтобы французские корабли прекратили заход в Нарву. Интересно, что архиепископ Станислав Карнковский, выступая в защиту кандидатуры Генриха Валуа против императора Фердинанда, привел аргумент, что Польше нужен король, способный не позволить использовать Нарву.
Отметим, что память о польской блокаде Нарвы долгое время сохранялась в Англии, что является прекрасным свидетельством масштабов и эффективности военно-морской стратегии Сигизмунда Августа. Когда в 1597 г. посол Сигизмунда III при королеве Елизавете Павел Дзялынский потребовал восстановления свободы судоходства в Испании и возмещения ущерба, нанесенного польским подданным, то напомнил, как Сигизмунд Август запретил судоходство в Нарву и установил военно-морские патрули для обеспечения соблюдения запрета, что повлекло за собой серьезные потери для английских торговцев.
Политические обстоятельства вопроса о Нарвском пути, изложенные выше, могли бы в некоторой степени объяснить отношение Тайного совета к вопросу о запрещении отдельным английским купцам торговать с Москвой через Балтийское море. В конце концов совет вынес решение в пользу Московской компании. 14 декабря 1564 г. он решил, что северный путь гораздо безопаснее для московской торговли, чем через Нарву, отчасти потому, что он не подвергал купцов конфликту с Данией, Швецией и другими державами «этих восточных земель». Запрет совета на коммерческую торговлю через Нарву означал победу монополии Московской компании над неорганизованным купечеством и теми ее членами, которые бросили вызов ее приказам и попытались развивать эту торговлю самостоятельно.
Однако данные, полученные из регистров пошлин за проход пролива Зунд за 1564–1578 гг., показывают, что решение Тайного совета не было полностью исполнено и что в последующие годы английские купцы вели с Нарвой довольно оживленную торговлю. Московская компания в эти годы также использовала балтийский путь на московский рынок, несмотря на свою прежнюю позицию. В 1566 г. она уже не возражала против использования Нарвы, а доказывала лишь, что только она, компания, имеет право использовать порт в торговле с Россией. Парламент принял соответствующий акт в декабре 1566 г., признавая монополию Московской компании на торговлю с Россией также и через Нарву. Любой купец, нарушивший эту привилегию, должен был быть наказан конфискацией его судна и товаров, половина из которых должна была перейти к королеве, а половина – к компании. Английские купцы, не состоявшие в компании, должны были до 1568 г. вывести свои товары и корабли из России или могли присоединиться к компании при условии, если они имели не менее десяти лет опыта московской торговли. Этот приказ распространялся на купцов Халла, Ньюкасла, Йорка и Бостона. Акт 1566 г., распространявший территорию монополии Московской компании на Нарву, также устанавливал, что английские суда должны использоваться исключительно в торговле с Россией, а сукно, отправляемое в Москву, должно быть в готовом и окрашенном виде.
Трудно определить, насколько соблюдались приказы Тайного совета и акт парламента. Встречается немало свидетельств, что отдельные купцы продолжали проникать на территорию монополии компании. Это были «нарушители», как их называли. Мы также знаем, что сама компания иногда фрахтовала иностранные суда для перевозки в Англию товаров, купленных в России.
Переходя к оценке роли и значения Нарвы в торговле Англии на Балтике, мы прежде всего подчеркнем неустоявшийся характер использования Англией этого порта. Обстоятельства, описанные выше, были ограничены во времени главным образом десятилетием 1564–1574 гг., в те годы экспорт через Нарву составлял довольно значительную долю в английском импорте мехов, воска и льна, а также пеньки в 1566, 1569, 1574 и 1578 гг. Экспорт льна через Нарву в 1566–1568 гг. составил половину всего прибалтийского экспорта этого продукта в Англию, в 1564–1566 гг. и вновь в 1569 г. английские купцы поставляли воск в основном из Нарвы. Почти весь английский импорт прибалтийских мехов и кож в те годы осуществлялся через этот порт (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Доля Нарвы в импорте Англии льна, пеньки, воска, шкур и мехов из Прибалтики, 1563–1578 гг. (%)

Только за два года во 2-й половине XVI в. – 1565 и 1575 гг. – Зундские регистры пошлин позволяют нам составить более точную картину характера английского экспорта в Нарву по сравнению с общим объемом экспорта английских купцов в Прибалтику. Из этих регистров мы узнаем, что Англия вывозила в Нарву главным образом сукно, затем соль, свинец, квасцы и небольшое количество разных бакалейных товаров (см. табл. 2.3). В оба упомянутых года доля Нарвы в балтийском экспорте Англии была минимальной, если исключить квасцы 1565 г.
Таблица 2.3
Доля Нарвы в английском экспорте в Прибалтику ткани, соли, свинца и квасцов, 1565 и 1575 гг. (%)

Использование Нарвы как порта было лишь кратким эпизодом в балтийской торговле Англии во 2-й половине XVI в. Как показывают регистры пошлин в Зунде, он составлял лишь минимальный процент всей балтийской торговли Англии, которая проходила в основном через польские порты. После падения Нарвы английские купцы продолжали развивать торговлю с Россией северным путем через Архангельск, основанным в 1584 г. Но и здесь они столкнулись с растущей конкуренцией со стороны голландцев.