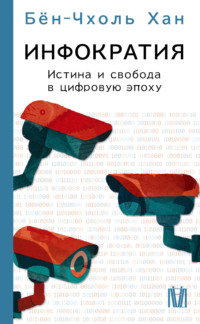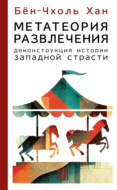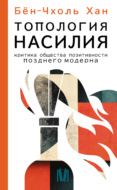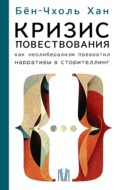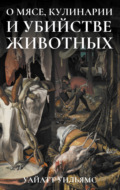Kitobni o'qish: «Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху», sahifa 2
Итак, в концепции инфократии Бён-Чхоль Хан отталкивается от тезиса Нила Постмана. Постман критиковал влияние телевидения на социальный дискурс в Америке. Он утверждал, что из-за доминирования на телевидении развлекательного контента по-настоящему серьезные проблемы в обществе замалчиваются, тем самым подрываются основы демократической культуры. Хан, не критикуя, пересказывает наиболее яркие мысли Нила Постмана, включая тезис о правоте Хаксли, а не Оруэлла. Удачная цитата из Постмана про то, что в «1984» людей контролируют, причиняя боль, а в «Дивном новом мире» их контролируют, доставляя наслаждение, позволяет Хану сделать ссылку на другой свой концепт – «паллиативное общество», то есть такое, которое боится боли. В таком обществе политика становится тоже паллиативной, а такая политика, увы, не способна на радикальные реформы 17. Но мы рискуем слишком уклониться от основной темы. Собственно, в 1985 году демократия превратилась в телекратию и медиакратию. Тогда все было развлечением, включая даже выборы президента, и политика была заменена энтертейнментом. Однако теперь, спустя 40 лет после диагноза Нила Постмана, на смену телеэкрану пришел новый экран – тачскрин. Хан громогласно заявляет: «Смартфон – новый медиум подчинения» 18. С точки зрения Хана, при информационном режиме люди перестали быть пассивными зрителями, как то было десятилетия назад. В 1985 году люди, утратив способность суждения, были незрелыми. В 2025 году изменилась форма порабощения индивидов, но последние по своей сути не изменились. Без перерыва производя и потребляя информацию, усыпленные коммуникацией, люди, лишенные возможности суждения, остаются такими же незрелыми. Но, к сожалению, эти люди – это мы с вами. И сегодня нам некогда остановиться и подумать, потому что, как это формулирует сам Бён-Чхоль Хан, «мы коммуницируем до смерти» 19.
Чтобы не было недопонимания, поясним. Как в 2013 году, так и в 2021-м Хан громко заявлял о «конце коммуникативной деятельности». Разумеется, опираясь на теорию Юргена Хабермаса, он подчеркивал, что коммуникативная деятельность предполагает ориентацию в дискурсе на факты, и потому притязания на истину в диалоге именно что дискурсивны. Коммуникативная деятельность в цифровом мире подошла к концу или находится в кризисе потому, что теперь «цифровые племена» ориентируются на идентичность и принадлежность (чтобы описать этот феномен, Хан обращается за помощью к концепции «стены фильтров» Эли Паризера 20), а не на знания. И потому притязания «цифровых племен» на истину абсолютны, но не дискурсивны. При таком раскладе коммуникация, лишенная рациональности, превращается в свою выхолощенную версию, буквально – в пародию. Никто никого не слышит в постоянной коммуникации (следуя за метафорами Хана, мы могли также сказать «в рое»), которая продлится до смерти каждого из ее участников, отстаивающих свою дорогую и любимую идентичность. Так что в инфократии нет места дискурсу, а место аргументов занимают алгоритмы.
Нам осталось сделать последний шаг в реконструкции логики концепции инфократии Бён-Чхоль Хана. Он называет инфократию также «цифровой постдемократией». Почему демократия именно «пост»? Дело в том, что теперь, вообще не обращая внимания на идеологию, обществом управляют программисты, у которых есть очень «большие данные» (big data). Противников коммуникативной деятельности и фанатов информации Хан пренебрежительно называет датаистами. Сегодня они главный субъект инфократии. Некогда основой для принятия решений, важных для всего общества, был политический дискурс – теперь это большие данные и искусственный интеллект. Место коммуникативной рациональности занимает рациональность цифровая. А место коммуникативной деятельности – в понимании Хабермаса – занимает рациональность больших данных. Зачем диалог, если у нас есть большое количество самых разных данных? Но, как полагает Хан, информация, оторванная от реальности, начинает вращаться в пространстве цифровой гиперреальности. Это не ведет ни к чему хорошему. Фактичность, на которую ранее ориентировались в нормальном (от слова «норма») дискурсе, исчезает, а вместе с ней исчезает и наш «общий мир» – старый, а не дивный новый.
Заканчивает Бён-Чхоль Хан книгу на грустной ноте и, возможно, не так удачно, как мог бы. От довольно хлесткой критики инфократии он приходит к меланхолическим вздохам по утраченной истине. Он противопоставляет истину и информацию. Если первая создает кучу бессмысленного мусора, то вторая освобождена от этого порока, поскольку нарративна. Но, как мы помним, нарратив сегодня тоже находится в кризисе 21. Кризис нарратива приводит нас к смысловой пустоте, которая заполняется теориями заговора и микронарративами, становящимися спасительным якорем для тех, кто в современных обществах ищет хоть какой-то смысл. Предлагает ли Хан хоть какое-то решение сформулированной проблемы? Нет. И хотя «Инфократия» – не художественная книга, у нее очень грустный конец. Ее главные герои даже не умирают. В конце концов, смерть может быть героической или даже смыслом всей жизни. Главный герой книги Хана, человек (существующий в цифровом мире) – то есть буквально мы с вами – «растворяется, превращаясь в убогий набор данных» 22. Если раньше Хан заканчивал свои ранние печальные книги пропагандой «созерцательной жизни» или «глубокой скуки», то теперь нет даже этого. Никакого проблеска, кажется, нет. Нам, мельчайшей частичке больших данных, остается лишь коммуницировать до смерти.
Александр Павлов, д. филос. н., руководитель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель сектора социальной философии Института философии РАН
Информационный режим
Информационным режимом мы называем такую форму господства, при которой информация и ее переработка посредством алгоритмов и искусственного интеллекта существенно определяют социальные, экономические и политические процессы. В противоположность дисциплинарному режиму, эксплуатации подвергаются не тела и энергия, но информация и данные. Решающим для увеличения власти теперь оказывается не владение средствами производства, но доступ к информации, позволяющей осуществлять психополитический надзор, управлять поведением и прогнозировать его. Информационный режим стыкуется с информационным капитализмом, превращая его в надзорный капитализм, а людей – в потребительский скот и набор данных.
Дисциплинарный режим – форма господства, присущая промышленному капитализму. Он имеет машинную форму. В нем каждый – колесико внутри дисциплинарной машины власти. Дисциплинарная власть проникает в нервные пути и мышечные фасции и делает «из бесформенной массы, непригодной плоти» «требуемую машину»1. Она фабрикует «послушные» тела: «Послушное тело можно подчинить, использовать, преобразовать и усовершенствовать»2. Послушные тела как производственные машины выступают носителями энергии, а не данных и информации. При дисциплинарном режиме люди – выдрессированный рабочий скот.
Информационный капитализм, основанный на коммуникации и сетях, делает устаревшими такие дисциплинарные техники, как изоляция, строгая регламентация труда и телесная муштра. Послушность (docilité), означающая также понятливость и покорность, не относится к идеалам информационного режима. Подчиненный субъект информационного режима не послушен и не покорен. Скорее он мнит себя свободным, аутентичным и креативным. Он производит себя и разыгрывает себя [performt sich].
Дисциплинарный режим Фуко использует изоляцию как инструмент господства: «Одиночество – первое условие полного подчинения»3. Паноптикум с его изолированными камерами – это находка и идеал дисциплинарного режима. Однако изоляция не может сохраняться при информационном режиме, который эксплуатирует именно коммуникацию. При информационном режиме надзору подлежат данные. Изолированные друг от друга заключенные дисциплинарного паноптикума не создают данных, не оставляют информационного следа, поскольку они не коммуницируют.
Цель биополитической дисциплинарной власти – тело: «Для капиталистического общества важна прежде всего биополитика – биологическое, соматическое, телесное»4. При биополитическом режиме тела впрягаются в машинерию производства и надзора, которая оптимизирует их посредством дисциплинарной ортопедии. Напротив, информационный режим, наступление которого Фуко, по всей видимости, не заметил, не проводит биополитики. Его интересуют не тела. Посредством психополитики он овладевает психическим. Сегодня тело в первую очередь – предмет эстетики и фитнеса. Оно по большей части освободилось от дисциплинарной власти, стремившейся посредством муштры превратить его в рабочую машину, – по крайней мере, это верно для западного информационного капитализма. Теперь телом завладела индустрия красоты.
Всякое господство проводит собственную политику обнаружения. Режиму суверенитета необходимы пышные инсценировки силы. Его медиум – спектакль. Господство заявляет о себе в блеске театрального представления. Действительно, его легитимирует именно блеск. Церемонии и символы власти укрепляют господство. Ориентированная на публику хореография и реквизиты насилия, мрачное празднество и церемониал казни служат господству театром и спектаклем. Истязаемое тело выставляется на публичное обозрение. Палачи и обвинители – актеры. Общественное место – сцена. Суверенная власть обнаруживает себя театрально. Она власть, которая дает себя увидеть, которая себя оглашает, хвалится и сияет. Однако подданные – те, на кого рассчитано ее явление, – долгое время остаются невидимы.