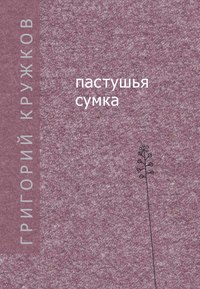Kitobni o'qish: «Пастушья сумка (сборник)»
Shrift:
© Кружков Г.М., 2019
© Орлова И.В., оформление, 2019
© «Прогресс-Традиция», 2019
Луч дороги
(1965–1979)
Чудесное со мной
Чудесное со мной не происходит.
Как будто зареклось происходить.
Как будто крест поставило на мне
Чудесное. И вот что я придумал.
Надел резиновые сапоги,
В карман плаща два яблока засунул,
Купил журнал «Умелый пчеловод»
И в поезд сел до станции Голутвин.
И через полчаса произошло
Со мной чудесное. Ко мне подсела
Блондинка девушка в плаще с болонкой
И съела оба яблока моих.
Потом она на время попросила
Журнал «Умелый пчеловод», чтоб дома
Его прочесть спокойно под торшером,
Поскольку увлекалася сама
Парашютизмом. Телефон дала мне,
Чтоб я звонил ей, как найдет охота.
Потом вошли Четыре Контролера
И попросили показать билет.
Я показать билет им отказался
Категорически. За что меня
Они по всем вагонам провели
И девушкой-блондинкой попрекали.
Вот почему с тех пор я знаю точно:
Чудесное со мной не происходит.
А если происходит иногда,
Кончается необычайно глупо.
Большой разлив у Серпухова
Казалось, что трубу прорвало в бане!
Автобус по дороге насыпной
Скользил канатоходцем над водой,
Внизу, меж телеграфными столбами,
Как невода, плескались провода.
Не снова ли, как в давние года,
Потоп всемирный? Дело было темным.
И старожилы говорили: «М-да,
Такого половодья не упомним».
А Серпухов гудел как балаган,
Играли лужи в море-океан,
Бабули в них искали ходу-броду…
А тракторист орлом врезался в воду! –
Летели брызги что лебяжий пух,
Шел пар от стен, и теплый банный дух
Мешался с острым запахом апреля.
Загадывал хотение Емеля
И зажмурял глаза – считал до двух.
Но щекоталось! Право, невдомек –
Что там такое? Думать было впору,
Что по щеке нахальный паучок
Прогуливался, как по косогору,
И золотую пряжу из брюшка
Вытягивал, как фокус из мешка,
Ошеломляя блеском, – и в зените
Соединясь, пульсировали нити,
От век прозрачных лишь на полвершка!
Нашатыря чудовищные дозы
Шибали в нос, но не могли уже
Волшебной отвратить метаморфозы:
Окно в полуподвальном этаже
Открылось (словно высохшие слезы –
Потеки и разводы на стекле),
И старикашка Ной, педант сердитый,
Наружу глянул, бледный и небритый,
И вглубь отпрянул, и исчез во мгле.
Все по веленью щучьему сбывалось,
Мелькало и смеялось, и свивалось
В орнаменте облезлом и цветном,
Грязно-зеленом, розовом и пегом;
И голуби кружили над ковчегом,
Над юным, самодельным кораблем –
И не прельщались бездной, над которой
Плескалось солнце рыбой красноперой
В аквариуме светло-голубом.
Цыганка
С теплом не успели проститься,
И вот уже лету – каюк.
Студент потянулся в столицу,
Цыгане подались на юг.
Идет электричка до Тулы,
Холодный туман за окном.
Ну ладно, доедем дотуда.
А может, и дальше махнем?
Цыганка, смоленые очи,
Свободы упрямая дочь!
Другим ворожи, коли хочешь,
Но мне головы не морочь…
С годами твой взгляд все недужней,
Рассказ еще больше нелеп,
Невнятней еще и натужней
Идет предсказанье судеб.
Печальней еще и ненужней
Звучит обновленный прогноз:
Сулишь повышенье по службе…
Но это же все не всерьез!
Идет электричка до Тулы.
Контроль пошумел – без вреда.
Ну ладно, доедем дотуда:
А там, а оттуда – куда?
Беспомощен путь твой, сивилла,
Убога дорожная снедь.
Цыганка, скажи, ты любила?
Наверно ж любила – ответь.
Кого? Офицера иль вора?
…Не слушает, не говорит.
И черный рассеянный ворон
Над рощей осенней парит.
Парит неподвижно, похожий
На масти трефовой туза…
Ты что же, сестрица, ты что же
Отводишь и прячешь глаза?
Ах, бросить, уйти, в самом деле,
Сиротством тоску утоля!
Мне тоже – вот так! – надоели
Дождливые эти поля.
Уедем, уедем, уедем,
К днестровским уйдем берегам –
Ходить по базарам с медведем,
Курей воровать по дворам.
И снова – верста за верстою –
Такое поищем житье,
Где солнце затмит пестротою
Цыганское платье твое.
Ах, дальше от осени хилой,
От края простуд и могил,
Где ты никогда не любила,
Где я никогда не любил.
Кенгуру
Когда первые европейцы ступили на австралийский берег, они увидели там странное животное и спросили у местных: «Как называется это странное животное?» На что местные, естественно, ответили: «Кенгуру», т. е. по-австралийски: «Не понимаем вас».
Факт
…И побрел он в тоске и в тумане,
И очнулся на тех берегах,
Где скакали безрогие лани
Почему-то на задних ногах.
«Это что же, друзья-иноземцы?
Объясните мне эту муру!»
И ему отвечали туземцы:
«Извините, мы вас кенгуру».
«Но тогда почему же при этом…
Почему, почему, почему?..»
«Кенгуру», – ему было ответом,
«Кенгуру», – объяснили ему.
Он тряхнул головою, подумал:
«Может быть, я в тифозном жару?
Что не спросишь у них – кенгуру, мол,
Отвечают на все: «Кенгуру».
И тогда он достал кошелечек,
Из того кошелечка – листок,
И свернул его ловко в кулечек,
И стряхнул сигарету в кулек.
И скакали безрогие лани,
Неизвестной свободы ища.
Терпеливые островитяне
Обступали его, вереща.
И стоял он в тоске и в печали
На великом вселенском ветру,
И туземцы ему отвечали:
«Кенгуру, кенгуру, кенгуру».
Левша
Левша сковал гвоздочки для подковок
Игрушке царской – аглицкой блохе.
Конечно, был он преизрядно ловок,
Но посвятил усилья чепухе.
Дается ж людям бесполезный дар!
Иной искусник не такое может:
Из маковинки сделает футляр
И внутрь пылинку-скрипочку положит.
Бес, не иначе, помогает им,
Чтоб искусить сопоставленьем ложным,
И делается малое – большим,
Великое становится возможным.
А все масштаб. Подумай: я и ты –
Из космоса, – и даже с самолета.
На нашу жизнь посмотришь с высоты –
Какая ювелирная работа!
Вдоль опушки1
Бредут вдоль опушки коровы,
Спокойны и благообразны.
Они как невесты Христовы,
Отвергшие мира соблазны.
Дождь мочит, палит ли их зноем –
Их туши объяты покоем,
Гуртом ли их гонят иль строем,
Куда? – да не все ли равно им?
Объяты их грузные туши
Покоем; их зыбкие души
Под синею тучкой осенней
Витают, как пряжа паучья
По воздуху – или созвучья
Есенинских стихотворений.
Бредут вдоль опушки коровы,
К вечерней привыкшие дойке.
Шагает за ними суровый
Пастух в сапогах и ковбойке.
Забыв свой характер бодучий,
Бредут под осеннею тучей,
Темнеющей медленно тучей,
Стихи сочиняя на случай.
Какой такой, в сущности, случай?
1970
Попутчица
Два дрогнувших, два мягких лепестка
Девичьих губ в морщинках нежной зыби.
Как будто отогнулся край цветка
Созревшего – и смялся на изгибе.
Узнав, я принимаю до конца
Твой каждый лепет, каждую причуду:
Ты – белый ствол, сережки да пыльца.
Я много раз встречал тебя повсюду.
В июльский зной, сомлев от комарья,
Невежей стоя в облаке соцветий,
На прутиках каких-то трогал я
Волокна, шелковистые, как эти.
Бояться ли каких-то адских мук?
А жизнь отдав, идти ли на попятный? –
Когда за насыпью искрится луг
И мечет нам в окно лучи и пятна,
Когда в купе такие сквозняки,
Что можно, даже сердцем не рискуя,
Нажав свободно, эти лепестки,
Как львиный зев, раскрыть для поцелуя.
Костер
Тяжелого состава гул.
Платформа. Переезд.
Шлагбаум, падая, блеснул,
Как штык наперевес.
Шуршат обходчика шаги
По щебню пустыря,
И прыгает вокруг ноги
Пятно от фонаря.
Безлюдье. Рельсов лунный лед.
И ветер вдоль путей.
И вновь остуда продерет
До дрожи, до костей.
Сквозь прежний пыл и прежний страх
Увижу я, застыв,
Как женщина стоит впотьмах,
Лицо отворотив.
Ее платок заиндевел,
И я не знал, как жить,
И ничего-то не умел
Спасти и изменить…
Шел снег. И прежде, чем уйти,
Решила ты в уме,
Что милосердья не найти
На всей земле-зиме.
Ах, как потом в слезах трясло,
Как худо без угла.
А людям надо лишь тепло.
А где достать тепла?
Такой мороз в ту ночь пылал,
Такой был лютый час,
Что и костер не согревал,
А только мучил нас.
Тянуло жаром от огня –
И стужей – со спины.
Затем так руки холодны,
Глаза опалены.
Над озером
Ну полно, Аленка! Устал я кричать и аукать.
Спустилося солнце за старые ели,
И в той стороне
Стало небо совсем полосатым,
И перед закатом
Нагретые волны сильней заблестели.
Вечерняя птица
Из зарослей шумно вспорхнула.
«Она утонула!
Сестрица твоя утонула!» –
Мне крикнула птица – и озеро перепорхнула
В три взмаха скользящих
И снова пропала
В кустах краснотала,
В дрожащей листве краснотала.
Аленка, ну выйди же!
Страшны мне эти загадки.
Вот тоже затеяла прятки!
Но ветер подул, и деревья в лесу зашумели:
«Вот здесь, в этой теплой купели
Найдешь ты ее –
В этой теплой и чистой купели».
Так значит…
Так значит, тебя эта заводь зеленая прячет!
Баюкает мглой, тишиною звенит, как в колодце…
И черный сомище
У ног твоих вьется,
Трава по рукам оплетает…
Ключи, пробиваясь со дна, все бормочут, щекочут,
Холодной волною глаза размывают,
Холодной, подводной волною глаза размывают.
Очнись же, Аленка!
Скорее от мест этих злых откочуем!
Село недалеко,
Успеем до ночи, а нет – так в стогу заночуем.
Всегда тебя слушаться стану,
Теперь – без обману,
А как набредем на малину,
То сам буду первый делиться.
В грозу на дороге,
Зимой без костра в холодину,
И что ни случится,
И мерзнуть, и мокнуть – не в горе! –
И пить из копытца –
Но не разлучаться,
Но не расставаться с тобою!
…Уже засыпают кувшинки,
И только, как стрелки,
Как маленькие пружинки,
По светлой воде
Все скользят и скользят водомерки…
(Песок остывает,
Осоку знобит у обрыва…)
Но сумерки медлят,
Не гаснет вода,
И прозрачное небо не меркнет,
По светлой по сонной воде
Скользят водомерки…
(Куда я пойду?)
Скользят и скользят торопливо…
Нищий
Стонут мои ноги, еле ходят,
И глаза мои болят, гноятся.
Добрые-то люди стороной обходят,
Доброты своей, видать, боятся.
Сгорбленная подошла старушка,
Желтыми глазами смотрит, плачет.
– Пойдем со мной, – говорит, – дедко.
– Куда это? – Беру тебя, значит.
– Со старостью ли берешь меня, бабка?
– Ой, со старостью, горе мое, горе!
– С хворью ли берешь меня, бабка?
– Ой, и с хворью, милый, со всей хворью.
Так идем под солнышком майским,
По дороге разговор гово́рим.
– Скоро ли дойдем, бабка?
– А и вскорем, – говорит, – милый, вскорем.
На берегах реки Увы
(1976–1989)
У моря
Дочка на пляже отца зарывает в песок,
Зыбко и смутно ему, словно семени в грядке;
Что-то лепечет лукавый над ним голосок,
Смугло мелькают лодыжки, ладошки, лопатки.
Веки смежил он и в небо глядит сквозь прищур,
Пятки вперед протянул – фараон фараоном.
Девочка, став на колени, как жрица Хетсур,
Руки к нему простирает с глубоким поклоном.
Мечет в них дроты свои обжигающий Ра;
Тысячи лет не кончается эта игра.
Вот пододвинулась туча, и тень задрожала…
Где ж тонкорукая?
Краба смотреть убежала.
Крымская бабочка
У вечности всегда сухой закон.
Но каплет, каплет жизни самогон,
Переполняя пифосы и фляги.
И – времени послушные волы –
Вытягивают на берег валы
Тяжелые возы горчащей влаги.
Не трезв, не пьян, брожу я целый день.
Тень-тень, мне каплет на уши, тень-тень.
А за холмом прибрежным, в травном зное,
Мне бабочка ударилась в лицо:
Да это же, ей-богу, письмецо
С оказией!.. А вот еще другое!
Замри, я говорю, замри, присядь!
Дай мне судеб известье прочитать,
Куда ты снова ускользаешь к шуту?
Чего ты хочешь, не понять никак:
То вверх, то вниз крылом, то так, то сяк,
И тыща перемен в одну минуту.
Так кто из нас хлебнул: я или ты?
Помедли, воплощенье суеты,
Не мельтеши, дай разобрать хоть строчку, –
Пока шуршит маслина на ветру
И за пригорком – к худу ли, к добру –
Прибой на нас с тобою катит бочку.
Не трепещи: ведь я тебя не съем.
Не торопись к татарнику в гарем
Мелькать в кругу муслиновых созданий.
О Мнемозина! восемнадцать лет
Тому назад ты родилась на свет:
Прекрасный возраст для воспоминаний!
Они мелькают, вьются… Как тут быть?
Чтоб их понять, их надобно убить!
Но чем злодействовать, не лучше ль выпить?
Ого! какой сверкающий глоток:
В нем Иппокрены жгучий холодок,
И страшный Стикс, и будничная Припять.
Да, нас поила общая струя,
Я бражник твой, капустница моя,
И капля есть еще в кувшине нашем.
Пусть нам Хайям на дудке подсвистит
И подбренчит на арфе царь Давид –
Давай кадриль несбывшегося спляшем!
Закружимся над солнечной горой,
Где вьется мотыльков беспечный рой,
Над серою иглою обелиска,
Над парочкой, уснувшей под кустом,
Над грузовым, грохочущим мостом,
Над Самаркандом и над Сан-Франциско;
Закружимся над мертвенной луной
(Ее обратной, скрытой стороной),
Над горсткой угольков в кромешной яме,
Над догмами, над домиком в Москве,
Где русский йог стоит на голове
И смотрит в вечность трезвыми глазами.
Памятник
Я оглянулся и увидел вдруг:
Все люди заняты одним и тем же –
Выделываньем мыльных пузырей.
У каждого прохожего – тростинка,
В которую он дует, отстранясь
От суматохи уличной и локоть
Ревниво оттопыря. Пузыри
Срываются, толкаются, танцуют
И, разлетаясь, наполняют воздух
Неслышным звоном. Этих тянет вдаль,
А тех к земле. (Бывают и такие,
Что могут ногу отдавить, как гиря!)
Иные – не легки, не тяжелы –
В срединном воздухе, роясь, толкутся
Среди себе подобных пузырьков.
А если глянуть сверху – жизнь кипит
И пенится как чаша!
«Мир – пузырь», –
Сказал философ Бэкон. Кто-то там
В незримую соломинку, незримый,
Усердно дует. Для чего все шире
И все опасней раздвигает он
Мерцающую сферу? Зря смеются
Над комиксами. Этих человечков
С растянутыми пузырьками реплик,
Прилепленных ко рту, мне жаль. Слова
Бессмысленны – но выдыханье уст,
В которое они заключены,
Священней фараонова картуша.
И если ставить памятник поэту,
То, верно, не с пергаментом в руках,
Как у того, кто ночью из друкарни
Бежал от разъяренных москвичей,
Чтоб сеять, где подальше, не со шляпой,
Не с шашкой и не с гаечным ключом,
А с бронзовой тростинкою у губ,
С надутыми щеками, и пускай
Стоял бы он в углу, как виноватый,
Отворотясь от улицы, а рядом
Лежал десяток мыльных пузырей,
Составленных, как ядра, в пирамиду.
И непременно чтоб неподалеку
Поилка с газированной водой…
Возлюбленные поэтов
1. Расставание
Illumina tenebras nostra Domina2
«Приди, Мадонна, озари мой мрак!»
Влюбленных красноречье беспощадно.
Она, как лист, дрожит в его руках,
Как губка, клятвы впитывает жадно.
А Донну дорог лишь разлуки миг –
Тот миг, что рассекает мир подобно
Ланцету: он любимый видит лик
Сквозь линзу слез – так близко и подробно.
Он разжимает, как Лаокоон,
Тиски любви, узлы тоски сплетенной:
И сыплются в расщелину времен
Гробы и троны, арки и колонны.
И целый миг, угрюмо отстранен,
Перед находом риторского ража
Он, как сомнамбула иль астроном,
Не может оторваться от пейзажа
Планеты бледной. Он в уме чертит
План проповеди: «О, молчи, ни вздоха;
Не плачь – не смей!» – Увы, он не щадит
В ней слабости… А между тем дуреха
Глядит, глядит, не понимая слов,
Как будто в зеркало волны глядится,
И растворяется, как бред веков,
В струях его печальных валедикций…
2. Спящая
The blisses of her dream so pure and deep.
John Keats
Во сне она так безмятежна! Будто
Там, в этом сне, поверила кому-то,
Что будет мир ее красой спасен.
Отвеяна от ложа скорбь и смута,
Покоем и лавандой пахнет сон.
Во сне она так беззащитна! Точно
Лесной зверек бездомный, в час полночный
Уснувший на поляне в темноте, –
Или птенец на веточке непрочной
В дырявом можжевеловом кусте.
Не просыпайся! Этот сон глубокий
Покрыл все недомолвки и упреки,
Как снег апрельский – слякотную муть;
Ты спишь – и спит дракон тысячеокий
Дневных забот. Как ровно дышит грудь
Под кисеей! Не все ль теперь едино –
Назвать тебя Психеей, Маделиной
Или соседкой милой? – Все равно;
Когда ты – луч, струящийся в окно,
И неумолчный шелест тополиный.
Пусть блики от витражного окна
В цвет крови или красного вина
С размаху мне забрызгают рубаху, –
Но этот воздух не подвластен страху,
И пурпура сильней голубизна.
Позволь и мне с тобою затвориться
В сон переливчатый, как перловица:
Не смерть в нем, а избыток бытия.
Не бойся! Спи, жемчужина моя,
Нам этот сон уже навеки снится.
3. Танцующая девушка
How can we know the dancer from the dance?
W.B. Yeats
Трещит цивилизации уклад,
Куда ни глянешь – трещины и щели;
Меж строчек новостей клубится ад,
И сами буквы будто озверели.
А ты танцуешь, убегая в сад,
Под музыку невидимой свирели.
Дракон, чтоб укусить себя за хвост,
Взметает пыль нелепыми прыжками;
Герои выбегают на помост,
Кривляются и дрыгают ногами.
А ты, как этот купол, полный звезд,
Кружишься – и колеблешься, как пламя.
Я помню ночь… Не ты ль меня во тьму
Вела плясать на берег, в полнолунье?
Не ты ль меня, к восторгу моему,
Безумила, жестокая плясунья?
Твоих даров тяжелую суму
Снесет ли память, старая горбунья?
О скорбь моя таинственная! Столь
Беспечная и ветреная с виду!
Какую затанцовываешь боль?
Какую ты беду или обиду
Руками хочешь развести? Позволь,
К тебе на помощь я уже не выйду.
Ты и сама управишься. Пляши,
Как пляшет семечко ольхи в полете!
Я буду лишь смотреть, как хороши
Движенья бедер в быстром развороте.
Что зренье? – осязание души,
А осязанье – это зренье плоти,
Подслеповатой к старости. Пока
Ты пляшешь, – как плясала без покрова
Перед очами дряхлого царька
Дщерь Иудеи, – я утешен снова:
Ведь танец твой, по мненью Дурака,
С лихвою стоит головы Святого.
«Если сон …»
Если сон –
подобие смерти
значит
пробужденье – рожденье
а мое беззаботное утро
воспоминанье
о радостном детстве
Я бываю самим собою
лишь одно мгновение в сутки
с каждым днем
оно наступает
на четыре секунды позже
Вечерами –
о, вечерами
на тебя я гляжу все печальней
словно чую
смерть моя близко
Приходи же с дарами святыми
с утешающим
тихим словом
дай мне губ твоих
причаститься
в них надежда
на воскрешенье
Дерево Перебора
…А это значит, что решив и выбрав,
Ты перед выбором предстанешь снова
И потому на много тонких фибров
Ветвится ствол желания любого.
Нет, ты не пыль в стихийном произволе,
Ты сознаешь, что средь густого бора
Случайностей есть Древо Перебора,
В котором – торжество свободной воли.
Оно же, впрочем, Древо Униженья
Свободной Воли, ибо так и этак
Твое желанье терпит пораженье
На каждом перепутье гибких веток.
Так или этак – лучшей половины
Лишается, стезю свою сужая,
И каждый миг, как язычок змеиный,
Раздвоенностью безысходной жалит.
О, если бы не мыслию растечься –
Не только мыслью, волком или птицей, –
Всей полнотою жизни человечьей,
Все дрожью жил совпасть и наложиться,
Чтоб испытать все то, что недоступно,
Недостижимо, чуждо, беззаконно,
Изведать все развилки, сучья, дупла
И все плоды вкусить от этой кроны!
Есть сладкая в Эдеме сикомора,
Есть темный кедр над пропастью Эрева.
Но только это Древо Перебора
И есть познанья истинное Древо.
Начало романа
В необъятной стране за могучей рекой,
Где шесть месяцев падает снег,
Жил один маслосмазочный и прицепной,
Крупноблочный, пропиточный и тормозной,
Противозамерзающий и выносной,
Сверхурочный один человек.
Жил он с личной своей многожильной женой,
Очень ноской, нервущейся и раздвижной,
Гарантийно-ремонтной и чисто льняной,
Не снимаемой без пассатиж;
И однажды родился у них нарезной,
Безбилетный, сверхплановый и скоростной,
Акустический и полупереносной,
Двухпрограммный печальный малыш.
Над его головой не светила звезда,
Осеняло его только знамя труда,
И шумели отравленные провода,
И шуршала над крышей его лебеда,
И стучал по ушам барабан.
Он учился прилежно – скользить и сквозить,
Коли надо – и мордой об стол тормозить…
Если это начало, позвольте спросить:
Чем же кончится этот роман?
REPUBLIQUE DE OUVA POSTE AERIENNE
Он мне достался, как счастливый сон!
Подарок дружественной нам вдовы,
Был с дачи, из-под Клина, привезен
Альбомчик старый с марками Увы.
Я ничего не ведал об Уве,
Я марки взял в постель – и перед сном
Смотрел на профиль горный в синеве
И самолетик с точкой под крылом.
И вдруг увидел: точечка растет,
Растет – и превратилась в парашют!..
И вот уже на землю стал пилот,
И отстегнулся, и, достав лоскут
Из куртки, вытер с подбородка грязь.
Вокруг дымилась жухлая трава.
Он оглядел пейзаж не торопясь
И мне сказал: «Республика Ува
Лежит на берегах реки Увы,
Которая, увы, давно мертва,
И нет там ни халвы, ни пахлавы,
Ни славы, ни любви, ни божества.
Ни ярко разрисованных цветов,
Ни рамочки, ни зубчиков над ней,
Ни этих мощно дышащих китов,
Ни этих вольно скачущих коней.
Не слышно на деревьях райских птах,
И не гуляют розовые львы, –
Лишь зайцы ходят в шляпах и плащах
По улицам республики Увы.
Лишь, оседлав свинью или козла,
Гарцуют всадники без головы –
Свидетели неведомого зла –
По улицам республики Увы.
Лишь во дворце харит и аонид,
За хвост подвешенная к потолку,
Селедка крутобедрая висит
И каждый час кричит свое ку-ку».
Он сплюнул и сказал: «Я все сказал.
Отдай же брату младшему альбом!»
И вдаль побрел, и вскоре точкой стал,
Исчезнувшей на фоне голубом.
Сгустилась постепенно синева
И проступили звезды над тропой, –
Когда с холма спустились три волхва,
И каждый вел верблюда за собой.
Подвиг умеренности
– О юноша, не запружай реки! –
Вскричал Хирон, с размаху осадив
Свой лошадиный круп над самой кручей. –
Ты свергнешь с высоты поток могучий
В долину; но бурлящих вод разлив
С навозом вместе и конюшни смоет.
Так стоит ли мутить волну?
– Не стоит, –
Обдумав речь кентавра, наконец
Ответствовал герой. – Но как мне быть?
– Подумай! – посоветовал мудрец
Миролюбивый.
И тогда немножко
Подумал Геркулес и, чайной ложкой
Вооружась, в избытке дивных сил,
Вздохнул – и приступил…
1.В древнеиндийской поэзии «корова» отождествляется со священной речью, с поэзией. В гимнах «Ригведы» «трижды семь коров источают речь-молоко», «великое слово зародилось в следе коровы», и проч. Но всё это я узнал много позже.
2.«Озари нашу тьму, Госпожа» (лат.) – надпись на портрете Джона Донна в образе влюбленного, погруженного в сумрак меланхолии.
Bepul matn qismi tugad.
40 132,80 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
05 avgust 2019Yozilgan sana:
2019Hajm:
111 Sahifa 2 illyustratsiayalarISBN:
978-5-89826-566-3Mualliflik huquqi egasi:
Прогресс-Традиция