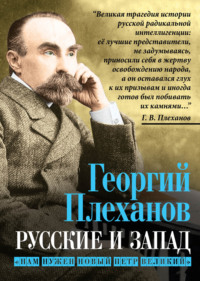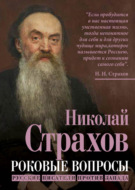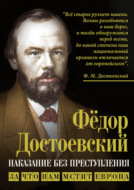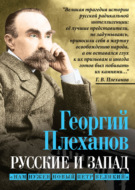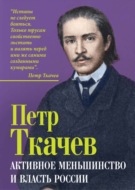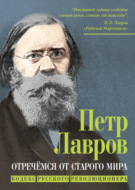Kitobni o'qish: «Русские и Запад. «Нам нужен новый Петр Великий»», sahifa 3
В.Н. Татищев
В.Н. Татищев был одним из наиболее образованных русских людей своего времени. В своем «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищ», написанном в 1733 г. и потом подвергавшемся дальнейшей обработке, Татищев исходит из того положения, что «истинное увеселение в детях есть разум», а чтобы ребенок разумен был, надобно ему прежде учиться.
Мы находим в «Разговоре» целую и притом широкую программу тех сведений, приобретение которых настоятельно рекомендуется Татищевым. И хотя, в своем качестве «птенца Петрова», Татищев смотрит на науку преимущественно, – чтобы не сказать исключительно, – с точки зрения пользы, однако, предлагаемая им программа уже одной своей широтою дает понять, как велико было расстояние, отделившее образованных людей Петровской эпохи от начетчиков Московской Руси.
В такой же мере замечательна эта программа тем, что в ней как нельзя более ясно обнаруживается чисто светский взгляд ее составителя на науки и просвещение. Пример Татищева показывает, что Петровская реформа положила конец преобладанию теологического элемента в миросозерцании наиболее образованных людей России.
Не мешает отметить, что Татищев был вообще мало расположен к духовенству. Влияние этого сословия на ход общественного развития представлялось ему скорее вредным, нежели полезным. Так, например, он утверждает, что на Руси уже со времени распространения христианства существовали многие училища, в которых изучались даже греческий и латинский языки. Но татарское иго, ослабившее власть государей, увеличило значение духовных, а этим последним «для приобретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в темноте неведения и суеверия содержать; для того все учение в училищах и в церквах пресекли и оставили».
В другом месте, он, оспаривая то мнение, что наука подрывает веру, говорит, что защищать его могут только «невежды и неведущие в чем истинная философия состоит», или же «зло-коварные некоторые церковнослужители», в интересах своего сословия стремящиеся к тому, «чтобы народ был неученый и ни о коей истине рассуждать идущей (т. е. могущий. – Г. П.), но слепо бы и раболепно их рассказам и повелениям верили».
Эти упреки духовенству заслуживают большого внимания. Уже Московская Русь знала антагонизм между служилыми людьми, с одной стороны, и духовенством, с другой. Источником этого антагонизма служил земельный вопрос, бывший важнейшим экономическим, а потому и самым жгучим политическим вопросом в тогдашнем Московском государстве. Духовенство старалось сохранить и расширить свои земельные имущества. Служилые люда, были, наоборот, сильно заинтересованы в том, чтобы имущества эти перешли в распоряжение государя, награждавшего своих «холопов» поместьями. Антагонизм этот перешел и в Петровскую Русь. Его легко подметить в той готовности, с какой служилые люди этой Руси поддерживали все мероприятия правительства, направленные к ограничению политического влияния, а особенно имущественных прав церкви. Но ярче всего обнаружился он в настроении «птенцов Петровых».
Нашего автора очень интересовал вопрос об употреблении монастырских доходов. Он с большой похвалой отзывается о тех указах Петра, которыми повелевалось по всем губерниям, провинциям и городам заводить училища и содержать их на счет монастырей. По его словам, у монастырей немало «излишних сверх необходимо нужных на Церкви» доходов. Их будет достаточно для содержания училищ, а «Богу приятно, что такие туне гиблющие доходы не на что иное что как в честь Боту и пользу всего государства употреблять»24.
Еще Ивану III нравилась та мысль, что богу будет приятно, если монастырские земли окажутся отписанными на московского государя. Ему не удалось осуществить эту благочестивую мысль. В его лице государство принуждено было вступить в сделку с духовенством. Оно на время отказалось от своего намерения наложить руку на монастырские имения, довольно щедро вознаградив себя за такой отказ планомерным и все более деятельным вмешательством в имущественные дела церкви.
При Петре и после него вмешательство центральной власти в эти дела сделалось прямо-таки угрожающим. Но и при нем до окончательной развязки было еще далеко. Хотя Петр тоже очень не прочь был «в честь Богу» экспроприировать духовенство, однако это оказалось возможным только при Екатерине II. Духовенство было слишком полезным орудием центральной власти, чтобы даже такие деспотические представители ее, как Петр I, могли совершенно пренебрегать его интересами и его настроением.
Дворянство тоже не хотело полного разрыва с ним. На такой разрыв способна была, – и то в течение очень непродолжительного времени, – только революционная буржуазия Франции. Поэтому даже наименее расположенные к духовенству представители образованного русского дворянства не шли, – пока держались своей сословной точки зрения, – дальше протестантского взгляда на отношение государства к церкви. Протестантский взгляд встречаем мы и у Татищева.
Татищев вполне признает «бессумненные утверждения письма святого». Он нимало не сомневается в том, что человек состоит из двух «свойств», т. е. из души и тела. Опираясь на учение о природе души, он доказывает ее бессмертие: «Свойство души есть дух, неимущий никакого тела или частей, следственно нераздельна, а когда нераздельна, то и бессмертна»25.
При этом учение о нравственности опирается у него не на предписания религии, а на «закон естественный, которой нам при сотворении Адама всем в сердцах наших вкоренен»26. Для доказательства этого Татищев сопоставляет основное положение естественного закона с основным положением «письменного». «Основание естественного закона: еже любить себе самого с разумом, с основанием письменного весьма согласно, – говорит он, – ибо из любви разумной к себе все добродетели происходят, от любви же неразумной или самолюбия все злодеяния раждаются»27.
В этой попытке обосновать все учение о нравственности на разумной любви к себе Татищев выступает перед нами типичным «просветителем» XVIII столетия – Aufklärer, как говорят немцы. Впрочем, с этой стороны просветители XVIII столетия ничем не отличаются от просветителей других эпох. Сократ, как его изображает Ксенофонт, тоже основывал нравственность на разумном эгоизме. И так же поступали наши просветители шестидесятых годов XIX века: Чернышевский, Добролюбов, Писарев.
* * *
«Разговор» Татищева дает гораздо больше, нежели обещает его заглавие. Это чуть не целая энциклопедия. В нем излагается все миросозерцание этого замечательного человека. Но все-таки весьма значительная часть «Разговора» посвящена доказательству той, казалось бы слишком простой и очевидной истины, что учиться нужно и полезно. Порой скучновато теперь перечитывать это длинное доказательство. Однако несправедливо было бы упрекать за это Татищева. Ему, как и всей «ученой дружине», приходилось вести ожесточенную войну с упрямыми стародумами, на разные голоса кричавшими о вреде науки.
Стародумы выставляли против науки всевозможные доводы и, между прочим, тот, что она подрывает уважение не только к духовной, но и к политической власти. По совершенно понятной причине, Татищев считает нужным внимательно разобрать довод от политики.
«Никогда никакое бунт, – утверждает он, – от благоразумных людей начинания не имел, но, равномерно ересям, от коварных плутов с прикрытием лицемерного благочестия начинается, которой междо подлостию рассеяв производят». В подтверждение он ссылается на то, что наши русские бунтовщики, вроде Болотникова, Разина, стрельцов и «черни», все принадлежали к «самой подлости» и были невежественны. Правда, за границей мы видим в числе бунтовщиков Кромвеля, который был ученым человеком, но и он принял на себя «образ сущия простоты и благочестия», а когда добился власти, все училища разорил, учителей и учеников разогнал, «дабы вне ученых удобнее коварство свое скрыть мог». Благоразумные государи заботятся о просвещении своих подданных именно потому, что бунты неизвестны там, где процветают науки28.
Первая английская революция облекла социально-политические требования непривилегированной массы в религиозную форму. Этого было достаточно, чтобы просветители XVIII века относили ее к числу таких движений, которые могут быть опасны для их дела. Так смотрели на нее, например, французские просветители, собиравшиеся у Гольбаха и служившие выразителями революционных требований третьего сословия. Это свойственное очень многим просветителям недоверие к общественным движениям, совершившимся под знаменем религии, дополнялось у Татищева твердым убеждением во вреде всяких вообще революционных движений. Неудивительно, что Кромвель представлялся ему настоящим злодеем. «Ученая дружина» была безраздельно предана абсолютной монархии. И мы имеем полное право назвать Татищева главным теоретиком, выдвинутым ею на защиту абсолютизма.
На вопрос, какое правление надо признать самым лучшим, он отвечает, что это зависит от обстоятельств. «Малые» и не подвергающиеся неприятельским нападениям народы с удобством могут усвоить себе демократический строй («правиться общенародно»). Народы «великие», но безопасные от нападений со стороны других народов, могут принять аристократическое правление. «Великие же и от соседей не безопасные государства без самовластного государя быть и в целости сохраниться не могут»29.
Россия обязана монархии всеми своими успехами. Она только тогда и процветала, когда в ней было «единовластительство». Когда наступили в ней времена уделов, усилившие значение аристократии, она была покорена татарами и литовцами. Ее положение улучшилось только благодаря Ивану III, «основавшему монархию», а также его сыну и внуку. Но в смутное время бояре предписали Шуйскому «законы некоторые, государству вредительные, а когда он лишился престола, то установилось «почитай общенародное правление». Это привело Россию к разорению «паче татарского нападения». Только выбором самовластного и наследственного государя положен был конец этому «беспутству» и восстановлен «надлежащий прежний порядок».
* * *
Наш убежденный просветитель оставался не менее убежденным идеологом «шляхетства». А между тем теории, которые легли в основу его миросозерцания и которые были теориями западноевропейских просветителей, выражали собою освободительные стремления третьего сословия и, следовательно, были в большей или меньшей степени враждебны «старому порядку». Одной из них была теория естественного права и естественной религии, – вообще «естественного закона», – за которую крепко держался, как мы видели, наш автор.
Как же разрешить это противоречие? Надо принять в соображение, что указанные теории лишь постепенно доведены были до своих крайних логических – на практике революционных – выводов. Поэтому и на Западе их сплошь да рядом усваивали себе и распространяли люди, не имевшие ровно никаких революционных стремлений. Таких людей было особенно много в Германии, сильно отставшей тогда от Франции и Англии. Так, например, С. Пуффендорф, у которого так много заимствовал Татищев, был настроен скорее консервативно. Абсолютизм имел в нем твердого приверженца. Этим он, вероятно, и нравился Петру. Правда, даже французские просветители второй половины XVIII столетия охотно возлагали свои надежды на государей (les princes éclairés). Однако Пуффендорф был не только приверженцем абсолютизма. Он готов был мириться даже с такими учреждениями, которые резко осуждались французскими просветителями и которых в самом деле никак нельзя было оправдать ссылкою на естественное право. Укажу на рабство. Пуффендорф выводил его из договора: nam perpétua illa obligatio compensatur perpétua alimentorum certitudine.
На это последовательный сторонник «естественного закона» возразил бы, что если даже допустить, что один человек может навсегда отдать другому свою собственную свободу, то он решительно не имеет права жертвовать свободой своего потомства. И с таким возражением Пуффендорфу никак нельзя было справиться, пока он не покинул бы точки зрения естественного права.
Но как бы там ни было с Пуффендорфом, несомненно, что именно подобные ему непоследовательные сторонники просветительных теорий и годились в учителя идеологам нашего европеизованного дворянства: последовательные слишком скоро и ясно обнаружили бы, до какой степени не соответствовал социально-политический строй России требованиям «естественного закона», возникшим на Западе в процессе борьбы против «старого порядка».
Во Франции освободительное движение третьего сословия было несравненно сильнее, нежели в Германии. Поэтому французские просветители были гораздо смелее и гораздо последовательнее германских; русские же просветители шли за теми или другими, смотря по своему отношению к российской действительности, как стали выражаться у нас в XIX столетии. Поскольку они мирились с ее основами, они более склонялись к немцам, а поскольку восставали против нее, у них начиналось тяготение к французам. Кажущиеся исключения из этого правила только подтверждают его (история влияния Вольтера на более или менее просвещенных русских людей). Даже некоторые отдельные личности (Радищев, Белинский) склонялись к французам в те периоды своей жизни, когда были настроены радикально, а к немцам, когда мирились с «действительностью» (Белинский).
Европеизованным идеологам русского дворянства приходилось объяснять и оправдывать привилегированное положение своего сословия с помощью учений, неудобных для этой цели по своему оппозиционному происхождению. Можно сказать, разумеется, что ведь были же на Западе и более консервативные теории, нежели, например, теория «естественного закона». Но, во-первых, слишком слабы были консервативные теории Запада в сравнении с теориями, возникшими в процессе освободительного движения. Во-вторых, – и это главное, – было одно важное социально-политическое условие, помешавшее птенцам Петровым усвоить себе учение западноевропейских консерваторов. Оно состояло в том, что консерваторы эти защищали такие политические требования высших классов, о каких и слышать не хотела русская центральная власть, особенно в лице таких своих представителей, как Иван IV или Петр I. Так как западноевропейская буржуазия, борясь со светской и духовной аристократией, в течение некоторого времени поддерживала абсолютизм, то и теории, выдвинутые ее идеологами, казались более соответствующими политическому строю России, пока французская революция не обнаружила грозных выводов, таившихся в недрах этих теорий.
Но если до поры до времени они могли казаться более подходящими к русским политическим условиям, то все-таки из них никакими усилиями невозможно было выжать сколько-нибудь серьезные логические доводы в пользу «самобытных» учреждений вроде нашего крепостного права. А это значит, что позиция просвещенных идеологов нашего дворянства была, в конце концов, все-таки очень невыгодна. Вот почему они так неудачно боролись впоследствии с теми русскими людьми, которые выступали, – хотя нередко только в молодости, – сознательными сторонниками революционных учений Запада.
* * *
Что касается специальных работ Татищева, то оценка их давно уже сделана авторитетным специалистом С.М. Соловьевым. Вот что говорит этот последний о Татищеве, как об историке:
«Заслуга Татищева состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русскою историею… Не говорю уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописей, которые, быть может, навсегда для нас потеряны; важность же этих известий для науки становится день ото дня ощутительнее».
Немало сделал Татищев также для истории русского права. По мнению С.М. Соловьева, он и здесь является первым издателем памятников и первым их истолкователем. Он приготовил к изданию Русскую Правду и Судебник царя Ивана с дополнительными статьями. В примечаниях Татищева к Судебнику С.М. Соловьев видел первую попытку объяснить наши древние юридические термины.
Наконец, этот же замечательный человек был автором первых трудов и по русской географии. По замечанию А.Н. Пыпина, Татищев первый нашел необходимым изучать, для целей историографии, «народную жизнь с ее бытовыми особенностями, нравами, обычаями и преданиями».
Ввиду всего этого С.М. Соловьев правильно отводил Татищеву, рядом с Ломоносовым, «самое почетное место в истории русской науки в эпоху начальных трудов».
Как и все птенцы Петровы, В.Н. Татищев выступал в самых различных областях практической деятельности: он был и горным инженером, и артиллеристом, и администратором. Служил он умно и усердно, но не любил прислуживаться. В царствование Анны он, не угодный Бирону, попал под суд и страдал от судебной волокиты чуть не до самой смерти своей. Не наше дело разбирать, был ли он так безупречен в своей служебной деятельности, как это ему казалось. В то время передовые люди смотрели на практическую деятельность совсем другими глазами, нежели теперь…
М.В. Ломоносов
То обстоятельство, что Россия была самодержавно-шляхетским государством, определило, между прочим, как ход просвещения в нашей стране, так и степень его доступности для различных общественных классов. «Шляхетство», особенно в лице тех своих представителей, которые «теснились у трона», имело сравнительно легкую возможность удовлетворить потребность в знании, раз она возникала у него. В России XVIII века оно даже обязано было учиться и подвергалось ответственноcти за неисполнение этого своего долга.
Наоборот, тяглая Русь обязана была доставлять средства для дворянского просвещения; пребывая в той же темноте, в какой прозябала она до Петровской реформы. Правда, правительство вынуждено было привлекать в школы не только шляхетских детей: образованных «шляхтичей» не хватало для служения многочисленным нуждам государства. Но даже на школьной скамье разночинцы не смешивались с дворянами. Когда в Москве возник университет, там же основаны были для подготовки слушателей две гимназии: одна для дворян, а другая для разночинцев. В Петербурге, где была одна только гимназия при Академии Наук, правилами 1750 г. предписывалось «обучающимся в гимназии из шляхетства и других знатных чинов людей детям сидеть за особенным столом, а которые незнатных отцов дети, тех особливо отделить». По всему видно, что дворянство очень дорожило этими отличиями. Мы знаем, как заботился просвещенный Татищев о том, чтобы, в деле ученья, шляхетство «от подлости отделено было».
Наконец, необходимо помнить, что к числу счастливцев, имевших хотя бы и очень нелегкий доступ в среднюю и высшую школу, не принадлежали дети многочисленных крепостных людей.
Выходит, что Некрасов слишком оптимистически представлял себе положение дел на нашей родине, когда писал в своем стихотворении «Школьник»:
Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных, то и знай…
Что русская «природа» отнюдь не бездарна, об этом нечего и говорить. Но, к сожалению, даровитые люди из русской народной среды слишком часто лишены были возможности развить свои духовные силы и сделаться «славными». Общественно-политический строй загораживал русской народной массе дорогу к знанию. Это до такой степени верно, что возникло предание, согласно которому «архангельский мужик», упоминаемый в том же стихотворении Некрасова, отворил себе дверь в школу только посредством обмана.
Рассказывают, что, стремясь попасть в Славяно-греко-латинскую Академию, Ломоносов выдал себя за сына священника (по другому известию – дворянина), так как туда принимали учеников только из среды дворянства и духовенства. Потом, опасаясь наказания за эту ложь, он будто бы открылся Феофану Прокоповичу, который сказал ему: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном в большой колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник».
С фактической стороны этот рассказ сомнителен. Однако в нем есть своя правда. Верно то, что «ученая дружина», к которой принадлежал Прокопович, больше, нежели кто-нибудь, должна была сочувствовать успехам просвещения в России. В рассказе позабыто одно: эта дружина тоже совсем не чужда была сословных предрассудков. И уже «совсем верно изображено в рассказе крайне затруднительное положение даровитых молодых людей, рвавшихся к свету, но не имевших счастия принадлежать к сословиям более или менее привилегированным. Ввиду этого крайне затруднительного положения возникает вопрос: как же все-таки вышло, что крестьянское происхождение не помешало молодому Михаилу Ломоносову сделаться наиболее выдающимся русским ученым XVIII столетия?
* * *
Само собою разумеется, что ему помогла «природа», одарившая его огромными способностями. Однако одних способностей было мало: необходимо было добиться возможности применить их к делу. Откуда вырвал ее даровитый крестьянский юноша?
Тут, прежде всего, надо вспомнить ту «благородную упрямку», о которой не без гордости говорил впоследствии сам Ломоносов и которая действительно была ему в высшей степени свойственна. В письме к И.И. Шувалову он так рассказывал о своей жизни в «Спасских школах» (т. е. в названной выше московской Академии).
«Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил… С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня отдадут, которые и в мою бытность предлагали; с другой стороны, школьники малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латыне учиться».
Что и говорить! Много «благородной упрямки» обнаружил тогда юный «архангельский мужик». Но и она ничего не объясняет. Остается непонятным, как же мог попасть в школу хотя бы и очень даровитый крестьянский сын при тогдашнем положении крестьянской массы.
Чтобы понять это, мы должны принять в соображение, что Ломоносов родился на севере, где крестьянство издавна жило не совсем так, как в других частях русского государства. Нельзя сказать, чтобы там совсем не было крупного землевладения: север имел немало монастырей, владевших землею и располагавших рабочей силой подчиненных им крестьян. Но это было только полбеды. Другая, горшая половина отсутствовала: там не было поместного землевладения. Это не могло не оказать благотворного влияния на характер и привычки местного населения, которое, кроме того, еще от времен «господина Великого Новгорода» вело очень подвижный образ жизни и отличалось более независимым характером, чем жители коренных московских областей.
Независимость характера сопровождалась более высокой культурой. Ломоносов научился читать еще у себя на родине. Правда, его мать была дочерью дьякона, однако учился он не у нее, потому что она умерла слишком рано. Правда и то, что, подстрекаемый мачехой, отец часто журил его за «пустую» трату времени на книги. Но не все его односельцы относились к ученью так пренебрежительно. Есть известие о том, что грамоте выучил его крестьянин Шубный, который будто бы и внушил ему мысль об отходе в Москву. У другого крестьянина той же деревни, Христофора Дудина, Ломоносов достал сделанное Симеоном Полоцким стихотворное переложение Псалтыри, грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого. Подмосковный крестьянин Посошков мечтал о том, чтобы не было ни одной деревни без грамотного человека. В Денисовке эта мечта была действительностью. И то, что она была там действительностью, значительно облегчило первый шаг гениального крестьянина-мальчика на его пути к свету – знанию.
Но еще прежде, нежели научиться читать, юный Ломоносов научился путешествовать и выносить лишения, всегда связанные с тем родом путешествий, который выпадал на долю трудящегося народа. Отец его занимался морскими рыбными промыслами и, уезжая из дому, часто брал сына с собой. Некоторые исследователи думают, что величественные явления северной природы впервые заронили в душу гениального юноши нередко повторявшуюся им впоследствии мысль о божьем могуществе.
Это, конечно, возможно, хотя, как увидим ниже, мысль эта могла иметь другое происхождение. Но что кажется неоспоримым, так это то, что ранние, богатые трудностями и приключениями путешествия Ломоносова закаляли его характер и сообщали ему «благородную упрямку». Еще более вероятным считаю я то соображение, что, родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, ему, пожалуй, не пришлось бы сопровождать своего отца дальше, как до господской усадьбы и до господской пашни, и тогда отход из дому в Москву, – если бы Ломоносов и стал задумываться о нем, – показался бы ему слишком затруднительным или даже прямо несбыточным. Наконец, если бы он все-таки ушел, то правило, запрещавшее принимать в школы крепостных детей, явилось бы, может быть, самым большим препятствием на его пути, к свету.

Г.В. Плеханов в 1870-е годы.
Георгий Валентинович Плеханов родился 29 ноября ((11 декабря)) 1856 года в многодетной (14 сестер и братьев) семье мелкопоместного дворянина.
Окончил с золотой медалью Михайловскую Воронежскую военную гимназию, затем учился в юнкерском училище в Петербурге. В 1876 году вступил в народническую организацию «Земля и воля», стал одним из ее руководителей, писал теоретические и публицистические статьи.
Мы видим отсюда, что архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле.
Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был, именно, архангельским мужиком, мужиком-поморцем, не носившим крепостного ошейника.
* * *
Теперь взглянем на дело с другой стороны. Там, где отсутствовал служилый класс, не могло быть и борьбы с ним, а следовательно, – не могло быть и настроения, создаваемого классовой борьбою. В Смутное время, когда Болотников поднимал крепостных крестьян и холопов, поморцы не только не пошли за ним, но, напротив, поддержали московское правительство царя Василия. Да и потом их усилия способствовали восстановлению старого, расшатанного Смутой, социального строя Московского государства. В одушевлявшем их духе независимости не было ничего бунтовского, ничего, толкающего на «потрясение» каких-либо «основ».
Bepul matn qismi tugad.