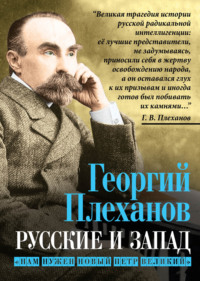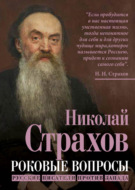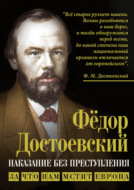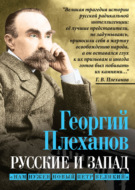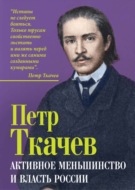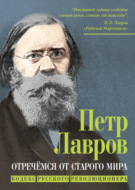Kitobni o'qish: «Русские и Запад. «Нам нужен новый Петр Великий»», sahifa 2
Приобретение разного рода технических знаний (изучение «навигацкой» науки и «инструментов») тоже сделалось одним из многочисленных видов натуральной повинности: натуральной повинностью дворянства. Мы уже знаем, что дворянство плохо исполняло эту свою повинность, но все-таки в известной, хотя и незначительной, мере исполняло. В свою очередь, глава государства дорожил дворянством лишь в той мере, в какой оно исполняло стою обязанность служить и готовиться к службе. Петр неустанно твердил дворянству, что только посредством службы оно делается «благородным» и отличным от «подлости», т. е. от простого народа. Но если только служба делала дворян «благородными», то было вполне естественно давать дворянские права всякому заслуженному человеку. Петр так и поступал. По указу 16 января 1721 г. всякий, дослужившийся до обер-офицерского чина, получал потомственное дворянство.
Установляя в январе следующего года знаменитую «Табель о рангах», Петр пояснял, что люди знатной породы не получат никакого ранга до тех пор, пока они не покажут заслуг государству и отечеству. Уже за несколько лет до того, – в феврале 1714 г., – запрещено было производить в офицеры тех служилых людей «из дворянских пород», которые сами не прошли солдатской службы в гвардии и «с фундамента солдатского дела не знают». Согласно воинскому уставу 1716 г., «шляхетству Российскому иной способ не остается в офицеры происходить, кроме, что служить в гвардии». Вследствие этого гвардейские полки сделались дворянскими по преимуществу. В гвардейском полку15, который состоял исключительно из «шляхетских детей», числилось до трехсот рядовых с княжеским титулом. «Дворянин гвардеец, – говорит Ключевский, – жил, как солдат, в полковой казарме, получал солдатский паек и исполнял все работы рядового»16.
При этом сиятельный рядовой очень часто попадал под команду человека, выслужившегося «из самой подлости». Таким образом, порода отступала назад перед чином. Это было вполне согласно с тем ходом социально-политического развития Московского государства, который определился по меньшей мере со времен Ивана Грозного; опричнина для того и учреждалась, чтобы заставить породу попятиться перед выслугой.
Европеизуя Россию, Петр и здесь довел до крайности ту черту ее строя, которая сближала ее с восточными деспотиями. По недоразумению, указанная черта принималась иногда за признак демократизма. В таком виде выступает она, например, в некоторых исторических рассуждениях М.П. Погодина и в некоторых «художественных» произведениях Н. Кукольника. На самом деле она не имеет с демократизмом ровно ничего общего. Строй, характеризуемый преобладанием этой черты, прямо противоположен демократическому: в нем все порабощены, кроме одного, между тем как в демократии все свободны, по крайней мере, de jure. В обширном промежутке между этими двумя крайностями помещаются все конституции, характеризуемые свободой более или менее значительного числа привилегированных.
Делая гвардейские полки дворянскими по составу, Петр тем самым сообщал служилому дворянству такую организацию, какой оно не имело прежде. По замечанию Ключевского, гвардейцы, бывшие под сильной рукой слепым орудием власти, под слабой рукой становились преторианцами, или янычарами. При преемниках Петра гвардейцы в самом деле часто выступали в роли янычар, или преторианцев. Но выступление в этой роли не мешало им оставаться землевладельцами, эксплуатировавшими труд закрепощенного крестьянства. В качестве таких землевладельцев они предъявляли известные требования, с которыми не могли не считаться даже абсолютные монархи. Осуществление этих требований в известной мере и постепенно нарушало свойственное российским обывателям равенство бесправия. Дворянство мало-помалу становилось привилегированным сословием. А так как гвардейская организация дворянства, несомненно, содействовала осуществлению его требований, то мы приходим к тому выводу, что своим переустройством войска Петр дал толчок развитию сословных преимуществ служилого класса.
Не надо забывать также, что при преемниках Петра в роли преторианцев, или янычар, выступало то дворянство, которое самой центральной властью настоятельно побуждалось к некоторому сближению с западными европейцами. Неудивительно, что при воцарении Анны Ивановны янычары, или преторианцы, обнаружили такое знакомство с политическими понятиями Запада, каким никогда не обладали служилые люди допетровской Руси.
Сведения, приобретавшиеся дворянством по царскому приказу, никогда не были обширны. В возрасте от десяти до пятнадцати лет учившиеся должны были пройти «цифирь», начальную геометрию и закон божий. После пятнадцати лет обязательное учение прекращалось, и начиналась обязательная служба. Заботясь о том, чтобы служилые люди не уклонялись от учения, правительство не меньше заботилось и о том, чтобы учение не мешало службе. Указ 17 октября 1723 г. запретил людям светских чинов оставаться в школах после пятнадцатилетнего возраста, «дабы под именем той науки от смотров и определения в службу не укрывались». Впрочем, хотя тогдашнее дворянство и любило укрываться от службы, однако не в его привычках было укрываться от нее в школах. Когда дело шло о том, чтобы учиться, его представители также охотно сказывались в «нетях», как и тогда, когда ему надо было отправляться на службу.
Иногда они записывались в одну школу для того, чтобы избежать поступления в другую, казавшуюся им более трудной. Однажды случилось так, что много дворян, не желавших поступить в математическую школу, записались в духовное Заиконоспасское училище в Москве. «Петр велел взять любителей богословия в Петербург в морскую школу и в наказание заставил их бить сваи на Мойке»17.
Иначе, разумеется, и быть не могло. Откуда явилась бы сильная склонность к просвещению в такой общественной среде, до котором просвещение раньше почти совсем не доходило? Хотя Петр не был одинок в современной ему России, но тем не менее даже ко многим из его «птенцов» вполне приложим строгий отзыв историка:
«Сотрудники реформы поневоле, эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за «ее держались, потому что она давала им выгодное положение… Служить Петру еще не значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги… Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства…»18.
Точнее было бы сказать, что в московской вотчинной монархии личность уважалась еще меньше, а законность презиралась еще больше, нежели в фискально-полицейских государствах Запада. Вотчинная монархия была почвой, совсем неблагоприятной для развития просвещения. Но если, несмотря на то, уже в допетровскую эпоху мы встретили в Москве некоторых отдельных людей, искренно увлекавшихся западными обычаями и западной наукой, то естественно ожидать, что при Петре и после него такие люди, не переставая быть исключениями, станут, однако, уже менее редкими исключениями. И мы в самом деле видим, что со времени Петровской реформы на Руси не переводятся искренние приверженцы западного просвещения. В среде этих людей и развивалась русская общественная мысль.
«Ученая дружина» и самодержавие
Западников допетровской эпохи, – Хворостинина, В. Ордина-Нащокина, даже Котошихина, – «тошнило» в Москве. «Тошнота» – мучительное ощущение. Чтобы избавиться от нее, одни бежали за границу, другие постригались в монахи. Это были «einsame Geister» в полном смысле слова. На сочувствие со стороны окружавших им приходилось оставить всякую надежду. Точно так же им и в голову не могло прийти, что наступит время, когда правительство потребует от русских людей усвоения западных обычаев и западных знаний под страхом жестокого наказания. У них не было основания верить в просветительные намерения московских государей. Поэтому у них не было и стремления служить государям «не токмо за страх, но и за совесть». Они мало думали о политических вопросах и плохо разбирались в них. Но их настроение не было и не могло быть настроением деятельных сторонников московского самодержавия.
При Петре навлечь на себя преследования рисковали не те, которых «тошнило» от старых московских порядков, а наоборот, те, которые испытывали «тошноту» при виде порядков и обычаев Западной Европы. Это значит, что теперь положение наших западников существенно изменилось. Им уже не надо было бежать за границу или искать убежища в монастырях: перед ними открывалась возможность плодотворной практической деятельности в родной стороне. Россия перерождалась на их глазах, сближаясь с тем самым Западом, культура которого так высоко ценилась ими.
Мы знаем теперь, что процесс преобразования России надолго оставил неприкосновенными, а в некоторых отношениях даже упрочил старые основы ее социально-политического строя. Мы знаем также, что европеизация России долго оставалась весьма поверхностной. Но современникам Петра дело представлялось совершенно в другом виде. Основных вопросов общественно-политического быта никто из русских людей тогда еще не поднимал; что же касается второстепенных, производных черт общественной жизни, то как противники, так и сторонники реформы Петра находили их изменившимися до неузнаваемости. И они относили эту перемену на счет государя.
Неутомимый защитник преобразовательной деятельности Петра, Феофан Прокопович, нимало не лицемерил, говоря, что Россия есть статуя Петра, и называя первого русского императора виновником бесчисленных благополучии наших и радостей, виновником, воскресившим свою страну аки от мертвых. В его знаменитом «Слове на погребение Петра», конечно, много риторики: наше духовное красноречие без нее никогда не обходилось и не обходится. Привычке к риторике нужно приписать, например, го утверждение Прокоповича, что Петр одновременно был Самсоном, Яфетом и Соломоном России, да к тому же еще Давидом и Константином российской церкви. Привычкой к риторике объясняется и совсем неуместная при указанных обстоятельствах игра слов вроде той, что Петр застал в России силу слабую, а оставил «по имени своему каменную, адамантову». Но когда проповедник развивает свою риторически выраженную мысль, мы чувствуем, что он вполне искренно восхищается величием Петрова дела.
По его словам, Петр «застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищал, купно и возвращением отъятых земель дополнил и новых провинций приобретением умножил. Когда же востающыя на нас разрушал, купно и зломыслящих нам сломил и сокрушил духи, и заградив уста зависти, славная проповедати о себе всему миру повелел». С этим не могли не согласиться его слушатели.
Не могли не согласиться с ним они, – по крайней мере, те из них, которые сочувствовали реформам Петра, – и тогда, когда он, оправдывая название покойного царя Соломоном России, говорил: «Недовольно ли о сем свидетельствуют многообразная философская искусства, и его действием показанная и многим подданным влиянная, и заведенная различная, прежде нам и неслыханная учения, хитрости и мастерства: еще же и чины, и степени, и порядки гражданские, и честные образы житейского обхождения, и благоприятных обычаев и нравов правило: но и внешний вид и наличие краснопретворенное, яко уже отечество наше, и от внутрь и от вне, несравненно от прежних лет лучшее, и весьма иное видим и удивляемся»19.
* * *
Чтобы оценить силу впечатления, произведенного на русских людей некоторыми из ближайших последствий Петровской реформы, надо вспомнить, какими глазами начинали смотреть на себя московские люди во второй половине XVII столетия. Сравнивая силы своей страны с силами западноевропейских государств, они с горькой насмешкой поговаривали, что трудно рассчитывать на победу московскому «плюгавству». Нарва показала, насколько справедливо было это пренебрежительное мнение московских людей о самих себе. Но Полтава с другими победами, ей предшествовавшими и за ней следовавшими, давала им приятный повод думать, что время «плюгавства» безвозвратно миновало, и что отныне Россия может успешно бороться с любым из западноевропейских государств. Сознание этой перемены поднимало в них чувство самоуважения, льстило их народной гордости.
В «Слове похвальном», произнесенном в день рождения царевича Петра Петровича, Феофан очень ярко выразил это переживание тогдашних русских западников.
Он напоминал там, оговариваясь, впрочем, что делает это «не в срамоту, как смотрели на Россию прежде иноземные народы»: «Бехом у политических мнимии варвары, у гордых и величавых презреннии, у мудрящихся невежи, у хищных желателная ловля, у всех нерадими, от всех поруганы». Петр заставил иноземцев уважать Россию: «Ныне же что храбростию, любомудрием, правдолюбием, исправлением и обучением отечества, «е себе точию, но и всему Российскому народу содела Пресветлый наш Монарх? То, что который нас гнушалися яко грубых, ищут усердно братства нашего, который бесчестили, славят, которыи грозили, боятся и трепещут, который презирали, служити нам не стыдятся».
В своем упоении тою честью, которую оказывает России изменившееся к ней отношение иноземцев, Прокопович обнаружил порядочную дозу наивности. Он сказал:
«Многий в Европе коронованный главы не точию в союз с Петром Монархом нашим идут доброхотно; но и десная его Величеству давати не имеют за бесчестие».
Эта, почти непонятная теперь наивность показывает, что хотя Прокопович и очень гордился преобразованной Россией, – восторженно называя ее «светлой, красной, сильной, другом любимой, врагом страшной»20, – но он продолжал ставить ее несравненно ниже просвещенных стран Запада.
Чтобы подняться на один уровень с ними, ей нужно было вполне овладеть их просвещением. Феофан и его друзья были убежденными просветителями. А так как почин распространения просвещения в России целиком приписывался ими Петру, то было весьма естественно, что они относились к царю-преобразователю с самым искренним поклонением. Другой член «ученой дружины», В.И. Татищев, утверждая, что «Петр Великий открыл своему народу путь к просвещению снисканием способов приобресть оное внутрь пределов своего отечества», так говорил о самом себе:
«Все, что имею, чины, честь, имение и главное над всем разум, единственно все по милости Его Величества имею; ибо естьли бы он в чужие край меня не посылал, к делам знатным не употреблял, а милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить, и хотя мое желание к благодарности, славы и чести Его Величества не более умножить может, как две лепти в сокровища храма Соломонова, или капля воды кинутая в море, но мое желание к тому не измеримо, и боле всего сокровища Соломона и многоводной реки Оби»21.
Так же восторженно чтил Петра и «рогатый пророк» «ученой дружины», Антиох Кантемир, писавший в своей «Петриде»:
Петра, когда глаголю, – что не заключаю
В той самой Речи? Мудрость, мужество к случаю
Злу и благополучну, осторожность сильну,
Любовь, попечение, приятность умильну,
Правдивого судию, царя домостройна,
Друга верна, воина, всех лавров достойна,
Словом: все, что либо звать совершенным можно.
Так относились к Петру наши западники первой половины XVIII в. Впоследствии мы убедится, что такое отношение к нему осталось неизменным в западном лагере вплоть до очень недавнего времени. Запомнить это необходимо для выяснения себе хода развития русской общественной мысли. Поэтому я теперь же приведу два-три примера из истории этой мысли в XIX столетии.
В письме к К.Д. Кавелину от 22 ноября 1847 г. Белинский говорил:
«Для меня Петр – моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезными»22.
Почти накануне своей смерти он, – как это видно из его письма к П.В. Анненкову от 15 февраля 1848 г., – доказывал своему «верующему другу» (М.А. Бакунину), что «для России нужен новый Петр Великий»23.
Н.Г. Чернышевский в начале своей литературной деятельности целиком разделял этот взгляд Белинского на Петра I. В четвертой статье его «Очерков Гоголевского периода русской литературы» мы находим следующие многознаменательные строки:
«Для нас идеал патриота – Петр Великий; высочайший патриотизм – страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека».
Возможно, что пример Петра взят был Чернышевским отчасти для успокоения цензуры. Если бы не цензура, то он выбрал бы, может быть, другой пример. Ему нужно было, собственно, сказать, что задача передовых русских людей до сих пор заключается в распространении у себя на родине знаний, добытых более просвещенными народами, а не в самостоятельном добывании таких знаний. Но, во-первых, никакая цензура не обязывала его отзываться о Петре в таких похвальных выражениях, какие мы находим в только что сделанной выписке. Во-вторых, очевидно, не для цензуры ставил он задачу современных ему русских просветителей в прямую и тесную связь с реформой Петра: «Пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело (нежели работа в области «чистой» науки. – Г. П.), более близкое к сердцу – содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим».
Увлечение Петром способствовало распространению в русском западническом лагере того взгляда, что у нас великие преобразования могут идти только сверху. Этот взгляд разделял еще Белинский, под его влиянием склонявшийся к признанию славянофильского учения о полном своеобразии русского исторического процесса. При этом Белинскому и его последователям невозможно было соединить такие понятия в одно стройное целое с другими их общественными взглядами, заимствованными у передовых писателей современной Европы. Эти понятия делали противоречивым социально-политическое credo наших просветителей XIX века.
Не то было с просветителями первой половины XVIII столетия. Социально-политическое credo «ученой дружины» было гораздо проще. В нем не было таких элементов, которых нельзя было бы логически согласить с тем убеждением, что у нас все великое идет сверху. Поэтому они оставались вполне верными себе, когда не только безо всяких оговорок восторгались личностью и деятельностью Петра, но вообще упорно отстаивали идею самодержавия. Прокопович, Татищев и Кантемир могут считаться первыми идеологами абсолютной монархии в России.