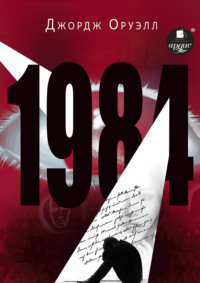Kitobni o'qish: «1984»
Часть первая
Глава 1
Был холодный и ясный апрельский день. Часы били тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди в попытке спрятаться от противного ветра, быстро проскользнул через стеклянную дверь в жилой комплекс «Победа». Проскользнул, впрочем, недостаточно быстро, а потому впустил за собой вихрь смешанной с песком пыли.
В коридоре пахло варёной капустой и половиками. В конце коридора прямо к стене был прикреплён цветной плакат, великоватый для вывешивания внутри помещения. Изображено на нём было всего лишь огромное лицо, более метра в ширину – лицо мужчины лет сорока пяти, с большими чёрными усами и грубовато-правильными чертами лица. Уинстон направился к лестнице. Пытаться вызвать лифт бесполезно. Лифт редко работал даже в лучшие времена; чего уж ждать теперь, когда в дневные часы отключается электричество. Это часть программы экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры нужно было преодолеть подъём в семь лестничных пролётов, и Уинстон, в свои тридцать девять лет, с варикозной язвой над щиколоткой на правой ноге, шёл медленно, несколько раз отдыхая за время пути. На каждой лестничной площадке напротив шахты лифта на тебя смотрел плакат с огромным лицом. БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись внизу. В квартире сладкий голос зачитывал последовательность цифр, имеющих какое-то отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатого металлического диска, напоминающего замутнённое зеркало, которое занимало часть стены справа. Уинстон повернул выключатель, и голос зазвучал немного приглушеннее, хотя слова всё же были отчётливо слышны. Это устройство (а называлось оно телеэкран) можно было приглушить, но способа выключить его совсем не существовало. Уинстон передвинулся к окну: невысокая, щуплая фигурка, незначительность которой подчеркивал синий комбинезон – форма членов партии. У него были очень светлые волосы, лицо природного сангвиника, кожа, загрубевшая от жёсткого мыла, тупых бритвенных лезвий и только что закончившейся холодной зимы.
Даже через закрытое окно мир снаружи казался холодным. Внизу на улице порывы ветра закручивали в водовороты пыль и разрывали на спиральки бумагу, и хоть солнце и светило, хоть небо и было сурово-синим, красок, казалось, не было ни в чём, за исключением расклеенных повсюду плакатов. Лицо черноусого пристально вглядывалось в тебя из каждого приметного закоулка. Одно из этих лиц было на фасаде дома напротив. БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись, а чёрные глаза заглядывали прямо в глаза Уинстона, в самую глубину. Ниже, прямо на уровне улицы, ещё один плакат судорожно хлопал на ветру; он то закрывал, то раскрывал одно единственное слово: АНГЛОСОЦ. Вдалеке между крыш заскользил вниз вертолёт, он сделал петлю и снова улетел. Это полицейский патруль шпионит, заглядывая людям в окна. Хотя патруль не играет роли. Играет роль только Полиция Мысли.
За спиной Уинстона голос из телеэкрана всё ещё бубнил о чугуне и перевыполнении девятого трёхлетнего плана. Телеэкран был одновременно и приёмником, и передатчиком. Любой звук, чуть громче тихого шёпота, изданный Уинстоном, улавливался телеэкраном. Более того, когда Уинстон находился в подвластном этому металлическому диску поле обзора, телеэкран его и видел, и слышал. Конечно же, узнать, следят за тобой или нет в каждый конкретный момент было невозможно. Как часто или по какой системе Полиция Мысли подключалась к каждому индивидуальному передатчику можно было только догадываться. Нельзя было исключить даже вероятность того, что они всё время следили за всеми. Как бы там ни было, они могли переключиться на тебя, стоило им только захотеть. Ты вынужден был жить (да именно так ты и жил) по превратившейся в инстинкт привычке, предполагая, что каждый издаваемый тобой звук – прослушивается, а каждое твоё движение, если только ты не в темноте, – досконально изучается.
Уинстон держался спиной к телеэкрану. Так безопаснее. Хотя он прекрасно понимал, что даже спина может тебя выдавать. В километре от него, белое и громадное на грязном пейзаже, высилось Министерство Правды – место его работы. Вот тебе, – подумал он с неким смутным отвращением, – вот тебе и Лондон, главный город Взлётно-посадочной полосы Номер Один, представляющий собой третью из самых густонаселённых провинций Океании. Он попытался выдавить из себя какие-нибудь детские воспоминания, чтобы те подсказали ему, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли был такой вид у этих обветшавших домов девятнадцатого века с поддерживающими их по бокам деревянными срубами, с забитыми фанерой окнами и крышами из проржавевшего железа, с этими их безумными садовыми ограждениями, покосившимися в разные стороны? И места бомбёжек, где в воздухе клубится пыль от штукатурки, и кипрей разрастается над грудами камней; а ещё места, где бомбами «расчищены» участки побольше, на которых вылезли убогие колонии напоминающих курятники деревянных жилищ? Но всё было бесполезно: он не мог вспомнить. Из его детства не осталось ничего, кроме череды залитых ярким светом живописных картин, возникавших непонятно откуда и по большей части неразборчивых.
Министерство Правды поразительно отличалось от всех видимых отсюда объектов. На Новоязе, официальном языке Океании (пояснения относительно структуры и этимологии Новояза вы найдёте в приложении), оно называлось Минправ. Это была огромная пирамидальная структура из сверкающего белого бетона, воспарившая, терраса за террасой, на 30 метров в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, можно было прочитать выделяющуюся на белом фасаде элегантную надпись – три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
В Министерстве Правды было, как говорили, три тысячи комнат выше первого этажа и соответствующие разветвления – ниже первого. В разных местах Лондона существовало ещё три здания подобного вида и размера. Они полностью подавляли окружающую архитектуру так, что с крыши Здания Победы можно было разглядеть одновременно все четыре здания. Это были дома министерств, по которым распределялся весь правительственный аппарат. Министерство Правды занималось новостями, развлечениями, образованием и изящными искусствами. Министерство Мира занималось войной. Министерство Любви поддерживало закон и порядок. И Министерство Изобилия несло ответственность за дела экономики. Их названия на Новоязе были следующими: Минправ, Минмир, Минлюб и Минизоб.
Особенно страшным было Министерство Любви. В нём совсем не было окон. Уинстон никогда не был ни в самом Министерстве Любви, ни в полукилометре от него. Это было такое место, куда возможно войти только по официальному делу, и притом нужно было проникнуть через лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнёзд. Даже по ведущим к внешним заграждениям улицам бродили охранники с бандитскими лицами в чёрной униформе, вооружённые сочленёнными дубинками.
Уинстон резко обернулся. Придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовано было иметь на лице, находясь перед телеэкраном. Он прошёл через комнату и вошёл в крошечную кухоньку. Покинув Министерство днём, он пожертвовал своим ланчем в буфете, хотя и знал, что на кухне есть нечего, кроме куска хлеба тёмного цвета, который нужно было сохранить на завтрашний завтрак. Он достал с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой простая белая этикетка гласила: «ДЖИН ПОБЕДА». Джин издавал тошнотворный маслянистый запах, как китайский рисовый спирт. Уинстон налил себе почти полную чашку, нервно подергался и выпил всё залпом, как пьют лекарство. В ту же секунду его лицо побагровело, а из глаз побежали слёзы. Выпитое походило на азотную кислоту, а кроме того, у проглотившего его возникало ощущение, будто его ударили сзади по голове резиновой дубинкой. Однако в следующую секунду жжение в желудке утихло, и мир стал казаться веселее. Он достал сигарету из помятой пачки с маркировкой «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и непредусмотрительно перевернул её в вертикальное положение, из-за чего табак высыпался на пол. Со следующей сигаретой он обращался с большим успехом. Вернувшись в гостиную, он сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана, вытащил из ящика стола перьевую ручку, бутылочку чернил и толстую книгу для записей с красным корешком и переплётом под мрамор.
По некоторой причине расположение телеэкрана в гостиной было необычным. Вместо стены в конце комнаты, как это делалось по правилам для того, чтобы обозревать всю комнату, телеэкран был размещён в более длинной стене, напротив окна. С одной стороны от него оставался пустой альков, в котором Уинстон сейчас и сидел, и в котором, по-видимому, во время строительства дома предполагалось разместить книжные полки. Сидя в алькове и отклонившись назад как можно дальше, Уинстон оказывался вне зоны обзора телеэкрана, вне досягаемости его взгляда. Конечно, Уинстона могли услышать, но пока он оставался в теперешнем положении, видеть его не могли. Это была отчасти необычная планировка комнаты, но именно благодаря ей он мог делать то, что намеревался делать сейчас.
Дело в том, что книга, которую он только что достал из ящика, требовала именно такого положения. Книга была изумительно красивой. Её гладкая кремовая бумага, немного пожелтевшая от времени, была такого качества, какую не производили, по меньшей мере, последние лет сорок. Однако можно было догадаться, что книга ещё старее. Он увидел её на витрине захудалой маленькой лавки старьёвщика где-то в районе трущоб (в каком именно квартале, он сейчас не помнил), и неодолимое желание обладать ею сразу и полностью им завладело. Считается, что члены Партии не должны ходить в обычные магазины («связываться со свободным рынком» – так это называлось), но это правило не всегда жестко соблюдалось, так как было много таких вещей, типа шнурков или бритвенных лезвий, которые достать каким-либо другом способом просто невозможно. Уинстон быстрым взглядом окинул улицу, проскользнул внутрь лавки и купил эту книгу за два доллара пятьдесят. В тот момент он не осознавал, что хочет купить её ради какой-то конкретной цели. Он виновато нёс её домой в портфеле. Уже сам факт обладания книгой был компрометирующим, хотя там ничего и не было написано.
Сейчас он собирался сделать одну вещь – начать писать дневник. Это не было нелегальным (ничего нелегального просто не существовало, ибо законов больше не было), но, если бы это обнаружилось, то, вполне определённо, каралось бы смертью или, по крайней мере, двадцатью пятью годами заключения в принудительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы удалить грязь. Ручка была архаичным инструментом, редко используемым даже для подписей, и он ещё раньше купил её украдкой, с определёнными трудностями, просто из-за ощущения, что кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не скребли её чернильным карандашом. В общем-то он не привык писать от руки. Если не считать коротеньких записочек, обычно он всё надиктовывал речеписчику, что, конечно же, было невозможно для настоящего случая. Он окунул ручку в чернила, а потом замялся, всего лишь на секунду. Внутри у него что-то дрогнуло. Чтобы сделать отметку на этой бумаге, нужна была решимость. Маленькими, корявыми буквами он написал:
4 апреля 1984
Уинстон откинулся назад. Им овладело чувство абсолютной беспомощности. Начать с того, что он не знал наверняка, был ли сейчас 1984. Должно быть, что-то около этой даты, потому что он почти уверен, что сейчас ему тридцать девять лет, и он знал, что родился в 1944 или 1945. Но в теперешнее время было абсолютно невозможно определиться ни с какой датой без погрешности в год или два.
А для кого, вдруг пришло ему в голову, пишет он этот дневник? Для будущего, для ещё не родившихся? Его мысли какое-то время крутились вокруг сомнительной даты, написанной на странице, и неожиданно споткнулось о выхваченное слово новояза ДВОЕМЫСЛИЕ. Впервые до него дошла важность осуществляемого им дела. Как можешь ты выйти на контакт с будущим? По самой его природе это невозможно. Будущее либо будет напоминать настоящее, а в таком случае никто его не послушает, либо будет отличаться от него, и тогда всё описанное им не будет иметь значения.
Какое-то время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на пронзительную военную музыку. Удивительно, как это он не просто не утратил еще стремление к самовыражению, но даже не забыл, что он изначально намеревался высказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что единственное, что ему потребуется, это мужество. Сам процесс письма пойдёт легко. Всё, что понадобится ему сделать, это перенести на бумагу тот непрерывный, неустанный монолог, который постоянно звучит у него в голове буквально годами. Но в данный момент даже этот монолог застопорился. Более того, варикозная язва на ноге невыносимо зачесалась. Он не решался её почесать, потому что каждый раз, когда он это делает, она воспаляется. Бежали секунды. Он осознавал лишь одно: перед ним пустая страница, у него чешется нога над лодыжкой, ревёт музыка, джин слегка ударил в голову.
Внезапно он пустился писать в состоянии явной паники, лишь смутно осознавая, что он пишет. Из-за мелкого, но всё-таки детского почерка, предложения скакали вниз-вверх по странице, теряя сначала заглавные буквы, а потом и точки.
4-е апреля 1984. Последняя ночь кинотеатров. Все фильмы – военные. Один очень хороший. Про один корабль полный беженцев, который разбомбили где-то в Средиземном море. Аудитории больше всего понравилось, как стреляют в огромного толстого мужчину, который пытается уплыть от преследующего его вертолёта. сначала ты видишь, как он барахтается в воде, как морская свинья, потом видишь его через прицелы вертолётов, а затем всего продырявленного, и как море вокруг него становится розовым, и он тонет так внезапно, будто вода залилась во все дырки. Когда он тонет, аудитория заливается смехом; потом ты видишь полную детей спасательную шлюпку, и как над ней кружит вертолёт; там на носу сидит женщина средних лет, должно быть, еврейка, с маленьким мальчиком, лет трёх, на руках; мальчик визжит от страха и прячет голову у неё на груди, будто хочет укрыться прямо внутри, а женщина обхватила его руками и успокаивает, хотя сама она посинела от страха, и всё время обхватывает его руками, как можно крепче, как будто думает, что руки её смогут уберечь его от пуль; затем вертолёт всаживает в них 20-килограммовую бомбу, потрясающая вспышка и шлюпка разлетается в щепки, потом замечательные кадры с детской рукой, она летит в воздухе всё выше и выше, а камера, должно быть, на носу вертолёта, следует за ней, и очень много аплодисментов с мест, где сидят партийцы, но женщина снизу, из той части, где сидят пролетарии, внезапно поднимает шум и начинает кричать что не должны выставлять всё такое, особо детям, что неправильно это, показывать это детям, пока полиция не разворачивает её и не выпроваживает, я не думаю, что с ней что-то случилось, никого не волнует, что говорят пролетарии, типичная реакцию пролетариев, они никогда…
Уинстон перестал писать, в некоторой степени из-за судороги. Он не знал, что заставило его выплеснуть весь этот поток грязи. Но любопытным оказалось, что, пока он это делал, абсолютно другое воспоминание прояснилось в его сознании, прояснилось до такой степени, что он почувствовал, что готов писать. Теперь он понял: именно из-за этого инцидента он сегодня решил пойти домой и начать писать дневник.
Произошло это утром в Министерстве, если про нечто столь неопределённое вообще можно сказать, что это произошло.
Было около одиннадцати ноль-ноль, и в Департаменте Документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана – подготовка к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал своё место на одном из средних рядов, когда двое человек, лица которых были ему знакомы, но с которыми он ни разу не разговаривал, неожиданно вошли в помещение. Одним из них была девушка, которую он часто встречал в коридорах. Её имени он не знал, зато знал, что работает она в Департаменте Беллетристики. По всей вероятности – поскольку он несколько раз встречал её с вымазанными маслом руками и с гаечным ключом, – она выполняла какую-то механическую работу на одной из пишущих романы машин. Это была девушка бойкого вида, лет двадцати семи, с густыми волосами, веснушчатым лицом и быстрыми спортивными движениями. Узкий алый пояс, эмблема Молодёжной антисексуальной лиги, несколько раз был туго обмотан вокруг её талии поверх комбинезона, подчёркивая формы бёдер. Уинстон невзлюбил её с первой же минуты, как только увидел. Причину он знал. Всё из-за атмосферы, которой ей удавалось себя окружать: атмосферы хоккейных полей, холодных ванн, групповых походов пешком и общей незамутнённости сознания. Он недолюбливал почти всех женщин, а в особенности молодых и симпатичных. Самыми фанатичными приверженцами партии всегда были женщины, и по большей части – молодые. Напичканные лозунгами, любительницы пошпионить и вынюхивающие неортодоксальность. А эта девушка, в особенности, производила на него впечатление наиболее опасной. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него сбоку быстрый взгляд, которым, казалось, пронзила его насквозь. На миг его охватил мрачный ужас. В голове мелькнула мысль, что она может быть агентом Полиции Мысли. Конечно же, это было весьма маловероятно. И всё же, стоило ей только появиться поблизости, он продолжал испытывать некоторую неловкость, к которой примешивалась ещё и жестокость.
Другим человеком был мужчина по имени О’Брайен, член Внутренней Партии, занимавший столь важный высокий пост, что о роде его деятельности Уинстон имел весьма смутное представление. При виде приближающегося чёрного комбинезона члена Внутренней Партии группа людей у стульев на некоторое время притихла. О’Брайен был большим крепким мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом с крупными чертами. Несмотря на грозную внешность, в его манерах был определённый шарм. Поправляя очки на носу, он проделывал некоторым необъяснимым образом такой трюк, который вас обезоруживал своим удивительным благородством. Это был жест, который (если кто-либо еще мыслит в такой терминологии) мог бы напомнить аристократа восемнадцатого века, предлагающего вам свою табакерку. Уинстон встречал О’Брайена, возможно, с дюжину раз, почти за такое же количество лет. Он чувствовал, что его очень тянет к этому человеку, и вовсе не по той причине, что он был заинтригован контрастом между благородными манерами О’Брайана и его борцовским телосложением. Гораздо в большей степени это было из-за тайной веры – а может, и не веры, а всего лишь надежды, – что политическая ортодоксальность О’Брайена была не столь уж совершенной. Что-то в его лице неотвратимо наводило на такое предположение. И, опять-таки, возможно, на лице его написана была вовсе не антиортодоксальность, а простая интеллигентность. Но в любом случае, у него была внешность человека, с которым ты мог бы поговорить, если б тебе удалось обмануть телеэкран и остаться с ним наедине. Уинстон никогда не прилагал ни малейшего усилия, чтобы проверить свою догадку, хотя, честно говоря, и сделать это ему не представлялось возможности. В данный момент О’Брайен взглянул на часы на руке, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль и, очевидно, решил до окончания Двухминутки Ненависти остаться в Департаменте Документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, через место от него. Маленькая женщина с песочного цвета волосами, которая работала в соседней с Уинстоном кабинке, оказалась между ними. Девушка с тёмными волосами сидела непосредственно за ним.
Ещё минута, и телеэкран в конце комнаты разразился ужасной, скрежещущей речью, похожей на грохот чудовищной машины без смазки. От такого грохота начинают скрежетать зубами, а волосы на затылке встают дыбом. Ненависть началась.
Как обычно, на экране вспыхнуло лицо Эммануэля Голдстейна, Врага Народа. Среди аудитории, в разных местах, раздался свист. Женщина с волосами песочного цвета издала писк, в котором смешались страх и отвращение. Голдстейн был ренегатом и отступником, который однажды, когда-то давно (как давно, никто уже не помнил) был одной из ведущих фигур в Партии, почти на одном уровне с самим Большим Братом, а потом занялся контрреволюционной деятельностью, был приговорён к смерти, но загадочным образом сбежал и исчез. Программа Двухминутки Ненависти изо дня на день варьировалась, однако не было ни одной, в которой Голдстейн не был бы ключевой фигурой. Он был главный предатель, первейший осквернитель чистоты Партии. Все последующие антипартийные преступления, все предательства, акты саботажа, ереси, отступления от курса проистекали непосредственно из его учения. Непонятно где, но каким-то образом он всё ещё был жив и вынашивал свои заговоры – возможно, где-то за морем, под протекцией проплачивающих его иностранных хозяев, а возможно даже (ходили иногда такие слухи) в каком-то тайном месте в самой Океании.
У Уинстона всё внутри сжалось. Он никогда не мог смотреть на лицо Голдстейна без болезненной смеси эмоций. Перед ним было худощавое еврейское лицо в ореоле спутанных седых волос с маленькой заострённой бородкой. Умное лицо, и всё же, по сути своей, жалкое, с какой-то стариковской глупостью, скрывающейся за этим длинным тонким носом и водруженными на него очками. Что-то в нём напоминало овцу, и голос тоже имел какой-то овечий оттенок. Голдстейн предпринимал свою очередную злостную атаку на партийные доктрины – атаку столь раздутую и извращённую, что и ребёнок способен бы был понять, что за ней стоит. И всё же атака эта была достаточно убедительной, чтобы наполнить тебя таким тревожным чувством, что есть же ведь другие люди, более низкого уровня, чем ты, которые могут не устоять. Он оскорблял Большого Брата, осуждал диктатуру Партии, он требовал немедленного заключения мира с Евразией, он защищал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли, он истерично кричал, что революцию предали… а речь его была быстрой и многосложной, похожей на пародию привычного стиля партийных ораторов, и в ней даже встречались слова Новояза, в действительности даже больше слов Новояза, чем мог обычно использовать обычный член Партии в реальной жизни. И всё это время, дабы не было никаких сомнений относительно той реальности, которая стояла за обманчивой болтовнёй Голдстейна, над его головой на телеэкране маршировали бесконечные колонны армии Евразии – ряд за рядом несгибаемого вида мужчины с ничего не выражающими азиатскими лицами; они выплывали на экран и исчезали, и тут же заменялись другими, в точности им подобными. Унылый ритмичный топот солдатских сапог составлял фон, над которым возвышался блеющий голос Голдстейна.
Время Ненависти не перевалило ещё за тридцать секунд, когда половина людей в комнате начала выплёскивать неконтролируемые гневные восклицания. Самодовольное овцеобразное лицо на экране и пугающая мощь евразийской армии за ним – это уж слишком: люди не могли этого вынести. Кроме того, сам вид Голдстейна и даже мысль о нём автоматически вызывали страх и гнев. Он был даже более постоянным объектом для ненависти, чем Евразия или Истазия, с тех пор как Океания оказывалась в состоянии войны с одной из этих Держав (воюя с одной, она обычно находилась с другой в состоянии мира). Но особенно странным было то, что, хотя Голдстейн был всеми ненавидим и презираем, хотя каждый день, по тысяче раз на день, на платформах, на телеэкранах, в газетах и книгах его теории опровергались, разбивались, высмеивались, принимались, по общему мнению, за жалкую чушь, – несмотря на всё это, его влияние, похоже, никогда не уменьшалось. Всегда появлялись новые простофили, только и ждавшие, чтобы поддаться их соблазну. Не проходило и дня, чтобы Полиция Мысли не разоблачила его замаскированных шпионов и саботажников. Он был командиром огромной теневой армии, подпольной сети конспираторов, посвятивших себя свержению Государственного строя. Братство, поговаривали, будто так они назывались. Ходили также передававшиеся шёпотом истории об ужасной книге, краткому сборнику всей ереси, автором которой был Голдстейн, и которая тайно появлялась то там, то здесь. Люди ссылались на неё – если вообще ссылались – просто как на ЭТУ КНИГУ. Но знали они о ней только понаслышке. Ни Братство, ни ЭТА КНИГА не были вещами, которые рядовой член Партии стал бы упоминать, будь у него способ избежать такого упоминания.
На второй минуте Ненависть перешла в неистовство. Люди подпрыгивали на местах; в попытке заглушить доводящий их до безумия блеющий голос с экрана, они кричали на пределе возможностей. Маленькая женщина с песочного цвета волосами стала ярко-розовой, а её рот открывался и закрывался, как у выброшенной на сушу рыбы. Зарделось даже мощное лицо О’Брайена. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь вздымалась и вибрировала, будто он принял стойку, чтобы выдержать натиск волны. Темноволосая девушка за Уинстоном начала кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!» и, неожиданно подняв тяжёлый словарь Новояза, запустила его в экран. Он ударился в нос Голдстейна и отскочил; голос неумолимо продолжал. В миг просветления Уинстон обнаружил, что кричит вместе со всеми и неистово лупит каблуком по перекладине своего стула. Самое ужасное в этой Двухминутке Ненависти было не то, что ты обязан принимать в ней участие, а, наоборот, то, что невозможно остаться невовлечённым. Через тридцать секунд в притворстве отпадала необходимость. Сильнейший экстаз от страха и мстительности, желание убивать, пытать, разбивать лица кувалдой, казалось, проходил через всю группу собравшихся как электрический шок, превращая каждого, против его воли, в орущего сумасшедшего с искажённым лицом. И при этом охвативший каждого гнев был абстрактной, нецеленаправленной эмоцией, а потому его можно было переключить с одного объекта на другой, как пламя в паяльной лампе. При этом был момент, когда ненависть Уинстона разгорелась не против Голдстейна, а совсем наоборот, против Большого Брата, против Полиции Мысли, а в такие моменты, как этот, он всем сердцем устремлялся к одинокому, обсмеянному еретику на экране, единственному из всех, кто стоит на страже правды и здравого смысла в мире лжи. Но уже в следующий момент он был заодно с окружающими его людьми, и всё, что говорили о Голдстейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Большому Брату менялась на преклонение, и Большой Брат, казалось, возвышался, становясь непобедимым, бесстрашным защитником, который стоит как скала против орд азиатов. И тогда Голдстейн, несмотря на его оторванность от всех, на его беспомощность, на сомнительность факта его существования в целом, – казался зловещим заклинателем, способным одной только силой своего голоса разрушить саму структуру цивилизации.
Бывали моменты, когда становилось невозможным перенаправить по собственному желанию свою ненависть в другое русло. Неожиданно Уинстон, приложив большое усилие, – сродни тому, с которым отрываешь голову от подушки, избавляясь от ночного кошмара, – преуспел в переключении своей ненависти с лица на экране на сидевшую сзади него темноволосую девушку. Живые, прекрасные галлюцинации пронеслись в его воображении. Он забивает её насмерть резиновой дубинкой. Он привязывает её голой к столбу и обстреливает её стрелами, как Святого Себастьяна. Он насилует её, и в момент оргазма перерезает ей горло. Более того, сейчас он лучше, чем ранее, понял, ПОЧЕМУ он так её ненавидел. Он ненавидел её, потому что она молодая, миловидная и лишённая сексуальности, потому что он хочет переспать с ней, но никогда этого не сделает, потому что вокруг её сладкой гибкой талии, которая, казалось бы, так и просится, чтобы её обвили твои руки, обёрнут этот одиозный алый пояс, агрессивный символ непорочности.
Ненависть достигла апогея. Голос Голдстейна превратился в самое нестоящее блеяние овцы, и на какую-то секунду вместо лица его появилась овечья морда. Затем лицо-морда растаяли и превратились в евразийского солдата, огромного и ужасного, который, казалось, двигался вперед со своим ревущим пулемётом и, казалось, вот-вот выпрыгнет за поверхность экрана, так что некоторые люди в первом ряду подались назад на своих местах. Но в тот же самый момент, вызвав вздох облегчения у каждого, вражеская фигура растаяла, уступив место лицу Большого Брата, черноволосому и черноусому, полному силы и таинственного спокойствия, лицу такому огромному, что оно заполнило почти весь экран. Никто не слышал, что Большой Брат говорил. То были всего лишь несколько ободряющих слов, которые произносят при грохоте боя, слов, самих по себе неразборчивых, но восстанавливающих уверенность просто тем фактом, что они произнесены. Потом лицо Большого Брата постепенно растаяло, и на смену ему встали три лозунга Партии, выведенные большими отчётливыми буквами:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Однако казалось, что лицо Большого Брата ещё несколько секунд присутствовало на экране, как будто влияние его образа на глаза людей было слишком сильным, чтобы сразу же пропасть. Маленькая женщина с волосами песочного цвета бросилась вперёд на спинку стоящего перед ней стула. С дрожью в голосе она бормотала что-то типа «Мой Спаситель!» и тянула руки к экрану. Потом она закрыла лицо руками. Было ясно, что она читает молитву.
В этот момент вся группа пустились в ритмичное пение, низкое и медленное, в котором «Б-Б!.. Б-Б!» повторялось снова и снова, потом очень медленно, с длинными паузами между первым «Б» и вторым… Тяжёлые звуки, бормотание, какое-то на удивление дикарское пение, на заднем плане которого, казалось, слышен был топот босых ног и бой тамтамов. Они продолжали в том же духе ещё секунд тридцать. Во время припева часто ощущался особый эмоциональный подъём. Отчасти это был гимн мудрости и величию Большого Брата, однако в большей степени это был акт самогипноза, намеренный уход в бессознательное состояние с помощью ритмического шума. Уинстону казалось, что всё внутри у него замерзло. Во время Двухминутки Ненависти невозможно не разделить общего сумасшествия, но это нечеловеческое повторение «Б-Б!.. Б-Б!» всегда приводило его в ужас. Конечно, он пел вместе со всеми – невозможно было этого не делать. Скрывать свои чувства, контролировать лицо, делать то, что делают остальные – такова была инстинктивная реакция. Но был какой-то промежуток, длиной в две секунды, во время которого его глаза могли его выдать. И было это точно в тот самый момент, когда произошла эта важная вещь… если она, и в самом деле, произошла.