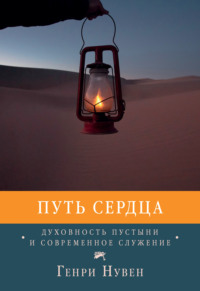Kitobni o'qish: «Путь сердца. Духовность пустыни и современное служение»
© Henri J. M. Nouwen, 1981
© МРОЕХ «ХЦ «Мирт», издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление, 2024
* * *
Посвящаю эту книгу Джону Могабгабу
Пролог
Через двадцать лет мы будем отмечать две тысячи лет христианской эры1. Вот только будет ли у нас что отмечать? Сейчас многие задаются вопросом, удастся ли человечеству выстоять перед лицом собственных разрушительных сил. Глядя на растущую нищету и голод, на стремительно распространяющиеся насилие и ненависть как внутри отдельных стран, так и между ними, а также на наращивание ядерных систем вооружений, мы понимаем, что наш мир вступил на путь самоубийства, и в нас с особой болью отзываются слова евангелиста Иоанна:
Слово… Свет истинный, Который просвещает всякого человека… в мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1:9–11).
Кажется, что тьма сгустилась как никогда, что силы зла окончательно перестали скрываться и дети Божьи подвергаются ещё более суровым испытаниям, чем когда-либо раньше.
Последние несколько лет я непрестанно думаю о том, как должно выглядеть в такой ситуации христианское служение и что это значит: оставаться сейчас служителем. Что требуется от тех, кто хочет принести во тьму свет, «благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18–19)? Что требуется от тех, кто призван войти в мучительную и пугающую сумятицу нашего времени и принести туда слово надежды?
Нетрудно заметить, что в этот страшный и болезненный период нашей истории нам, служителям, работающим в поместных приходах, школах, университетах, больницах и тюрьмах, очень нелегко выполнять свою миссию и делать всё возможное, чтобы в окружающей нас тьме воссиял свет Христа. Многие из нас так или иначе приспособились к общему летаргическому настроению. Другие устали, измучились, разочаровались, озлобились, обиделись или просто заскучали. Есть и такие, кто продолжает активно действовать и участвовать в происходящем, но, судя по всему, делает это, скорее, ради себя, нежели во имя Иисуса Христа. Во всём этом нет ничего странного. Служение требует неимоверных усилий; его требования постоянно растут, а удовлетворения оно приносит всё меньше. Как же нам сохранять в себе творческую энергию, ревность по Божьему Слову, желание служить и вдохновлять свои общины даже тогда, когда нам кажется, что им всё равно? Где нам искать подпитку и силы? Как нам утолить собственный духовный голод и жажду?
Именно об этом я и хотел бы поговорить в этой книге. Я надеюсь предложить кое-какие мысли и духовные дисциплины, которые могут помочь нам и дальше оставаться живыми свидетелями Христа, несмотря на подстерегающие нас искушения сойти с пути верности Иисусу, предаться комфортному себялюбию или впасть в отчаяние.
Но к кому нам обратиться? К Жаку Эллюлю, Уильяму Стрингфеллоу, Томасу Мертону, Тейяру де Шардену?2 Безусловно, им всем есть что сказать, но на этот раз меня интересует куда более древний источник вдохновения, чья непосредственность, простота и конкретность поможет нам сразу, без околичностей, добраться до самой сути наших трудностей. Я имею в виду Apophthegmata Patrum, «Апофтегмы отцов» – Древний патерик или «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов». Монахи-подвижники, жившие в египетской пустыне в четвёртом и пятом веках, могут рассказать много важного о жизни служения тем из нас, кто живёт и трудится в конце двадцатого столетия. Эти христиане-подвижники – кстати, среди них были не только отцы, но и матери-пустынницы – искали новую форму мученичества. Когда христиан перестали преследовать, свидетельствовать о Христе кровной жертвой стало невозможно. Однако окончание гонений вовсе не означало, что мир принял идеалы Христа и исправил свои греховные пути; мир, как и раньше, предпочитал не свет, а тьму (Ин. 3:19). Но если мир перестал враждовать с христианами, то теперь уже христианам пришлось начать вражду с миром, лежащим во власти тьмы. Бегство в пустыню было способом уклониться от искушения сообразоваться миру. Здесь, в пустыне, Антоний, Агафон, Макарий, Пимен, Феодора, Сара и Синклитикия стали духовными наставниками для других. Здесь они стали мучениками нового типа: свидетелями о спасительной силе Иисуса Христа против разрушительных сил зла. Именно их духовные наставления, советы паломникам и очень конкретные аскетические практики легли в основу моих размышлений о духовной жизни служителей-христиан нашего времени. Подобно монахам и монахиням египетской пустыни, нам нужно найти реальный и самый что ни на есть практический ответ на увещевание апостола Павла: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Я решил выстроить свои размышления вокруг одной истории, которую рассказывают об авве Арсении. Арсений был образованным римским сенатором и жил при дворе императора Феодосия в качестве воспитателя его сыновей Аркадия и Гонория. «Авва Арсений, ещё находясь при царском дворе, молился Богу так: „Господи! Научи меня, как спастись?“ И был ему голос: „Арсений! Бегай от людей – и спасёшься“». После того как Арсений тайно уплыл из Рима в Александрию и удалился в уединение, «он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: „Арсений! Бегай, молчи, пребывай в безмолвии; ибо в этом – корни безгрешности“»3. Эти слова «бегай», «молчи» и «пребывай в безмолвии» как нельзя лучше подытоживают сущность духовности пустынников. Они указывают нам три способа не дать миру сформировать нас по своему образу и подобию и, таким образом, прокладывают для нас три пути к жизни в Духе.
Сначала мне хотелось бы поразмышлять о том, что означает для нас бегство от мира, в связи с чем возникает вопрос об уединении. Затем я постараюсь определить молчание как важнейший элемент духовности христианского служения. Наконец, я хочу призвать вас подумать о том, что значит для нас призвание всегда молиться.