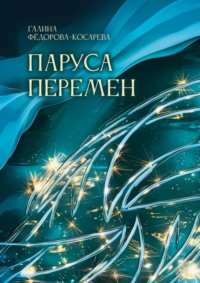Kitobni o'qish: «Паруса перемен. Эссе и интернет-посты»
* * *
© Г. Фёдорова-Косарева., текст, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
От автора
Представляя будущим читателям свою новую книгу эссе и заметок, воспоминаний и размышлений, мне бы хотелось прежде всего отметить, что это издание – своего рода авторские раздумья о жизни.
Полагаю, что явным водоразделом в моей судьбе, как и в судьбах большинства моих соотечественников, стали 90-е годы. Оно и понятно. Страна вступала в период радикальных изменений. Тогда я, оставив на время литературную работу, живо откликнулась на новые вызовы: пыталась найти себя в бизнесе, в педагогике, в общественной жизни, даже, в конце концов, меняла место жительства. Должна сказать, что именно в те годы в моей прежде совершенно атеистической голове произошло некое замыкание, которое и привело потом к новому пониманию мироустройства Вселенной. Именно тогда я приняла крещение, ушла резко в сторону от своего прежнего материалистического мировоззрения, навсегда осознав как данность наличие тонкого плана, Бога вовне и в нашем сердце, реальность существования ангелов и архангелов, великих личностей – Будды, Иисуса, Магомета… Конечно, для русской души главным остаётся православие – как данная нам Богом религия. Ангелы ведут по жизни каждого из нас, мягко и заботливо. Эх, если бы мы это ещё и понимали!
Жгучие проблемы нашего времени, роль России в процессе разрушения всего капиталистического мира, а теперь уже и в военном противостоянии с Западом – и поиск человеком своего Пути в это тяжкое время перемен – обо всём этом мои эссе и заметки.
В то же время эта книга – моя сердечная благодарность нелёгким прошедшим годам и земной поклон тем людям, которые помогали мне сохранять оптимизм, шагать вперёд и осмыслять эту непростую жизнь… чтобы могли рождаться потом новые добрые рассказы и волшебные сказки.
Моим друзьям и коллегам, тем, кто был рядом все эти годы, я и посвящаю с глубокой благодарностью эту книгу.
Ровесники войны
Все мы, родившиеся в годы Великой Отечественной или незадолго до её начала, – ровесники войны.
Я ещё помню её страшный оскал, когда мы с семьёй приехали в разрушенный послевоенный Минск в гости к маминой сестре Августе. Помню разрытые общие могилы возле военного городка. А в лесу – остовы сгоревших боевых машин. Муж тёти Гути дядя Ваня был военным лётчиком, он возил меня на аэродром, я сидела в кабине настоящего штурмовика, который совсем недавно сбивал вражеские мессеры.
Да и у нас в далёком тыловом Челябинске о войне напоминали не только фронтовые треугольники писем. Помню узкие полоски бумаги, наклеенные на окна крест-накрест, чтобы стёкла в квартирах не вылетели из рам в случае бомбёжки.
Мы гордились победой. Папа, вернувшийся с фронта, показывал мне карту, и я удивлялась: «Как это – малюсенькая Германия посмела полезть к нам. Наша страна такая великая!»
Мои школьные годы пришлись на тяжёлое послевоенное время. Шло восстановление народного хозяйства, разрушенного в годы войны.
Мы жили в коммунальной квартире на четвёртом этаже пятиэтажки. Когда-то в подъездах, видимо, планировали устанавливать лифты, для них было оставлено место, но потом стало не до лифтов, и мы бегали по пролётам, опасливо поглядывая вниз, в квадрат пропасти.
В квартире ютилось кроме нашей ещё две семьи. А в годы войны на подселении даже в ванной обитала жиличка – эвакуированная из Ленинграда. Пищу все готовили на общей кухне на керосинках. Кто сегодня помнит о керосинках? А продавался керосин в магазинчике по дороге к трамвайной остановке, и там всегда толпился народ.
Трамвай № 8, проходя под тремя мостами и затем через посёлок ЧТЗ – челябинский тракторный – и все парадные улицы, связывал наш КБС (расшифровывалось как коммунально-бытовое строительство) с центром города и железнодорожным вокзалом. Впрочем, ещё можно было за полчаса пешком дойти до вокзала через Порт-Артур (так в честь подвига русских моряков в 1905 году назывался этот район).
Сейчас здесь престижный микрорайон, застроенный высотными домами. А тогда Порт был как большая деревня, о которой ходила дурная слава, и мы не рисковали без особой надобности бегать туда. Особенно в тёмное время суток. Хулиганства, воровства и бандитизма в те послевоенные годы случалось немало.
Одно из главных впечатлений детских лет – очереди в магазинах. Особенно за керосином, мукой и хлебом. Очереди, в которых нужно было стоять часами. Номера записывали химическим карандашом на руке. Беготня по магазинам и стояние в очередях были моим главным делом в семье.
Мне было суждено начать учёбу в первом «А» классе женской школы № 37 города Челябинска. В школе, где с самого её основания в 1936 году преподавала математику моя мама Евсеева Антонина Васильевна, где уже три года училась моя старшая сестрёнка Амалия – Маля, как мы её звали дома.
Шёл трудный 1946 год. Мне ещё не исполнилось семи лет, но я уже немножко знала грамоту, так как нередко сидела рядом со старшей сестрой, когда та учила уроки. Бывала я раньше и в школе. Мама брала меня с собой, когда не хотела оставлять одну дома, и я тихонько рисовала что-нибудь, сидя на задней парте, чтобы не мешать остальным. Понятно, что я рвалась в школу – и оказалась в классе самой маленькой по возрасту и по росту.
Почти все мои одноклассницы жили по соседству – кто в домах, кто в бараках. В основном это были дети из семей работников завода имени Серго Орджоникидзе, или иначе – военного завода № 78. Теперь это Станкомаш. Не у всех была школьная форма, вместо портфелей многие ходили с тряпичными сумками. Носили матерчатые туфли – баретки, мы их натирали мелом, чтобы те выглядели наряднее. Зимой в классах было холодно, часто гас свет.
Чистописание для меня оказалось мукой. Я очень старалась, но ручка-пёрышко всё время оставляла кляксы, а чернильницы хоть и были непроливашками, но они не хотели со мной дружить. Так помарки и преследовали меня все школьные годы. По всем предметам успевала на пятёрки, а всё ж снижали отметки за эти помарки. Впрочем, это не помешало мне завершить школьное образование с золотой медалью.
В первые дни тёплого золотого сентября 1946-го я подружилась с черноглазой серьёзной девочкой – Олей Олимпиевой, дочерью директора мужской школы № 47. Её семья тогда жила в служебной квартирке, расположенной в самой школе, только вход в неё был со стороны двора, заросшего бурьяном. В ту пору даже директора – самые главные люди в системе школьного образования – не имели нормального жилья. А в их семье было, между прочим, трое детей. Сестра Ольги в будущем станет актрисой, а сама Ольга – кандидатом наук, будет преподавать в военном училище в Свердловске-Екатеринбурге. Но тогда мы ни о чём таком не задумывались.
Жили весело, беззаботно. Играли в лапту, прятки, «штандер-штандер» (была такая игра в мяч), «казаки-разбойники»… Став постарше, сели на велосипеды. Зимой катались на коньках, лыжах…
Другая моя подружка – Лиля Свиридова. Будущий врач, тоже кандидат наук и преподаватель в Челябинском мединституте. Жили тогда в одном доме и даже в одном подъезде. Мы – на четвёртом, а она – на втором этаже. Сотовых телефонов тогда не было, как и обычных стационарных – и ничего, обходились. Стукнешь в двери, договоришься – и во двор. Или просто покричишь подружке – и вот уже все в сборе. Можно и про школьные дела поговорить, поскакать на скакалке, поиграть в «классики» или в мяч. А сколько мы знали считалок!
Как раз весной 1946-го из армии вернулся мой папа, старший лейтенант-пехотинец Сергей Павлович Фёдоров, на гражданке учитель математики и астрономии, а также фотолюбитель, автомобилист, охотник и рыбак. Он прошёл всю войну, был награждён орденом Красной Звезды, а в послевоенный год служил в военной комендатуре польского города Штеттин.
Ещё во время первых боёв под Москвой доброволец Фёдоров вступил в партию.
Очень высокий и красивый, он был замечательным, неординарным человеком, и я гордилась им. У многих моих подружек отцы не вернулись с фронта, как, например, у Руфы Розановой, тоже дочери учительницы из нашей школы, Ангелины Михайловны. Или у Али Сафиуллиной. Как я узнала спустя многие годы, её отец как бывший пленный был репрессирован.
Мы учились в шестом классе, когда март 1953 года изменил всю ситуацию в СССР. Смерть Сталина! Помню, зарёванная, я бежала по улице – куда, зачем? – и думала: «Как же теперь мы будем жить?! Что будет с нашей страной?» В школе на третьем этаже был выставлен огромный портрет вождя, украшенный цветами. Общее построение в коридоре. Плакали все.
Мы учились в девятом, нам было по 16 лет, когда Никита Хрущёв в 1956-м произнёс свою знаменитую речь на XX партийном съезде. Вчерашний бог был свергнут, мы были опьянены ощущением открывшихся возможностей. И пронесли это чувство через всю жизнь. Чувство внутренней свободы.
Однако власть очень скоро поняла, что свободу народу следует давать дозированно, по маленькому глоточку. В 1957-м, после школы, я поступала в Уральский госуниверситет. Абитуриенты шёпотом обсуждали, что произошло в вузе весной. Тогда студенты старших курсов провели конференцию, на которой сравнивали одну за другой статьи Конституции СССР и современную им реальную жизнь. Судьба смельчаков была незавидна: исключение из вуза, а кому-то и срок…
И в этой обстановке всеобщего сиротства, недоедания, бедности и грубости удивительным было чувство единения и взаимовыручки людей, чувство радости детства, нашего упорного стремления учиться, гордости за нашу страну.
Мы – шестидесятники
Наша студенческая юность пришлась на конец 50-х – начало 60-х годов трагического и бурного XX века.
Собрались мы летом 1957-го в Свердловске, кучка медалистов со всей страны и абитуриенты более солидного возраста, которые поступали в Уральский госуниверситет имени Горького, уже хлебнув настоящей взрослой жизни и определив ориентиры дальнейшей судьбы.
На отделение журналистики этой осенью было принято 75 человек. Верящих в себя и полных розовых надежд.
Трудовые семестры
Первый курс начался с традиционной для тех времён поездки «на картошку». Убирали студенты урожай в одном из колхозов Свердловской области – Верх-Баяке. Помню холодный ветер индевеющих полей и горячие танцульки в деревенском клубе.
Мы рядами шли по полю, набирая картошку в мешки. Простужались и болели… В мой первый студенческий день рождения мы как раз были «на картошке», а у меня болело горло, поднялась температура. И всё же 20 сентября однокурсники поздравили меня – тогда мне исполнилось семнадцать лет. Плакатик нарисовали: «Ты пока ещё цветочек, будешь ягодкой потом»… трогательно очень…
До сих пор порой мозглые осенние ночи напоминают мне темень сельских улиц, холодные запахи сырой земли – из того моего далёка-далека.
Мы ещё не закончили работу на колхозных полях, когда 4 октября 1957 года над миром раздался писк первого спутника. Для нас это был сигнал вступления в новую эру! Какие мы испытывали эмоции!
На втором курсе мы снова выезжали «на картошку», на этот раз – в совхоз «Криулинский». Тогда я верхом на лошади гоняла стадо коров на водопой. На рассвете. Мне дозволяли. И это было особой светлой полоской в мороке холодных дней.
На третьем курсе мы ездили на уборку урожая уже на целинные земли. Лопатили пшеницу в зернохранилищах. Пыльно и тяжело. Кровь – носом. Но была и радость широкого бесконечного ровного пространства, куда можно было, забыв обо всём, уйти и брести, брести, брести – а потом вдруг спуститься в овраг, где под руками осыпáлся песок, – всё это было особым постижением многоликости жизни… Время дарило новые ощущения – степного ветра на лице, сыпучего скользящего зерна… И снова лошади, выезды верхом…
На четвёртом курсе мы с подружкой Валей Рощиной отправились уже в Качканар, на комсомольскую стройку, – сделались заправскими штукатурами. По собственному желанию! Это уже другой мир. Мир тайги, тяжёлых подъёмов на вершины окружающих гор, величественных и таинственных в своём молчании. Впрочем, в местной многотиражке я писала о проблемах на стройке, узких местах… А ночью, уже не момню почему, ещё и дежурила в здании управления – и всю ночь слушала радио на коротких волнах. Ловили «голоса».
Наши наставники
Трудовые семестры были ежегодной увертюрой к долгим месяцам учёбы. Нам повезло с преподавателями.
Большинство наших наставников были людьми необычными, яркими, талантливыми. Многие из них прошли школу Великой Отечественной. Так, декан Анатолий Иванович Курасов был участником взятия Берлина. Его студенты недолюбливали, но я знала: он всегда верил в меня и надеялся, что я оправдаю его надежды. И я старалась.
Многими орденами и медалями награждены фронтовики Борис Самуилович Коган, читавший нам курсы фронтовой журналистики, теории и практики печати, блестящий лектор Владимир Владимирович Кусков, тонкий знаток древнерусский литературы, бывший военный переводчик…
На первом курсе особое впечатление на всех произвёл эрудит Александр Константинович Матвеев, он читал курс античной литературы. Тогда он не был ещё ни доктором филологических наук, ни членом-корреспондентом Академии наук, ещё впереди были его знаменитые экспедиции и подготовка трёхтомного «Словаря говоров Русского Севера».
Специалист он был разносторонний – особый интерес у него был к топонимике – поиску смысла названий уральских гор, озёр, местечек. Нам он открыл мир юности современной цивилизации. Образы античных комедий и трагедий, как и древнегреческие мифы, с тех пор вошли вполне реальными силуэтами в окружающий нас пейзаж.
Всегда глубочайшее уважение, симпатию и почти нежность мы испытывали к преподавателю русского языка. Агния Ивановна Данилова была выпускницей Московских высших женских курсов, которые она закончила ещё накануне революции. Пожилая дама с буклями, мягкая и вежливая, дотошная и корректная, с красивейшим именем Агния была ярким образчиком старой русской интеллигенции. Ей было уже за семьдесят. Казалось, что через неё к нам обращается вся культура ещё той, дореволюционной России. Грех было у такого педагога плохо знать родной язык. Мы шутили, что наш однокурсник Феликс Симаков даже конспектировал академическую грамматику.
Особый интерес я всегда испытывала к философии. Царица наук! Известный уральский философ Константин Николаевич Любутин только начинал тогда свою научную и преподавательскую деятельность. Это потом он станет одним из организаторов в университете философского факультета, заслуженным деятелем науки РФ, вице-президентом Российского философского общества, академиком! А в ту пору… Молодой преподаватель, только что закончил философский факультет МГУ, приехал на Урал по распределению. Он был старше нас, студентов, пришедших в вуз после школы, всего на пять лет. А для многих моих однокурсников был и вовсе ровесником. И даже ходил с нами, влюблёнными в него студентками, в турпоходы. Помнится, особенно боготворила его наша умница-разумница Раиса Блажко.
Безусловно, изучали мы, и очень тщательно, важнейшую из наук – политэкономию. С этим предметом нас знакомил преподаватель Павел Семёнович Томилов, высокий, стройный, донельзя обаятельный. Как обожала его моя подруга Римма Буркова! Впрочем, всё естественно. Влюблённые студентки – это даже банально!
Обязательный курс по истории КПСС – как в те времена без таких знаний? Да никак! – нам читал Иван Пименович Плотников. Курс, конечно, невозможно скучный, зато читал его человек интересный. Молодой, что для нас было очень важно. Едва тридцать лет разменял. Смелый, свободно мыслящий, нами, студентами, любимый.
А полнейший восторг и восхищение у всех вызывал, конечно же, преподаватель по эстетике умнейший Лев Наумович Коган, большой человечище, к тому же ещё и богатырской комплекции. В ту пору глава уральской философской школы, он не чурался студенческих посиделок, обладал великолепным чувством юмора. Появлялся в коридорах общежития, заглядывал в комнаты к студентам, шутил – и громкий смех волнами перекатывался по всему этажу…
Тогда он только начинал формирование уральской школы социологии культуры. Пройдёт ещё десять лет, и он организует проведение уральских социологических чтений.
Интересно, что он работал в университете и спустя тридцать лет, когда на факультете искусствоведения и культурологии училась моя дочь Августа. Он читал тогда студентам введение в специальность. Августа закончила университет, получила профессию культуролога. Потом училась в аспирантуре в Питере, защитила кандидатскую и стала преподавать в вузе, только уже не на Урале, а в Москве. Так передаётся эстафета знаний.
С историей искусств нас знакомил Борис Васильевич Павловский. В годы войны Свердловск хранил увезённые в эвакуацию сокровища Эрмитажа. В нашем городе работали питерские и московские искусствоведы. Такое не проходит бесследно. Повышается культурный уровень жителей всей территории.
Борис Васильевич стал основоположником уральской школы искусствоведения, инициатором создания сначала отделения искусствоведения на филологическом факультете – это случится летом 1960 года, когда мы, закончив третий, переходили на четвёртый курс. А потом в нашем университете появится и новый факультет – факультет искусствоведения и культурологии, тот, где и будет учиться впоследствии моя дочь.
Да, это было время, когда создавались новые факультеты. Время начинаний.
Кстати, поступали-то мы на филологический. На отделение журналистики. А осенью 1959-го, когда мы приступили к учёбе уже на третьем курсе, отделение было преобразовано в факультет.
Азы профессии мы постигали под руководством многоопытного Евгения Яковлевича Багреева, основателя уральской школы журналистики. Ему было уже к 60 – нам он казался глубоким стариком. Мы его чуть-чуть побаивались и считали, что он никак не может понять нас, молодых и дерзких. В ту пору он только что оставил свой пост главного редактора газеты «Уральский рабочий» и занялся преподавательской работой.
Кафедру теории и практики на новом факультете возглавил фронтовик Валентин Андреевич Шандра, доцент, кандидат философских наук. Позднее он станет и доктором, и профессором, и будет назван главой уральской школы подготовки журналистов. Школы, в которой большое внимание уделялось изучению философии.
Нашей «классной дамой» была Любовь Ивановна Копяк. Под её руководством, помнится, я писала курсовую работу. О проявлении партийности в мировой прессе… Серьёзно так рассуждали мы тогда о роли СМИ…
Не забыть нам и мэтра – Леонида Михайловича Архангельского, который читал нам новый философский курс «Основы марксистско-ленинской этики». Архангельский был и редактором газеты «Уральский университет», для нас важнейшего органа печати. Там публиковались наши тексты, а иногда и наши фото. Кстати, у нас был отдельный курс по фотоделу.
Я как член комитета комсомола университета, ответственная за сектор стенной печати, была в университетской многотиражке принята и обласкана. Печатала свои газетные обзоры…
Очень нам помогала преподаватель Ирина Вячеславовна Романцева. Она кропотливо приучала студентов к редакционной «кухне»: проверке фактов, дат, имён, стилистической шлифовке, борьбе за действенность выступлений, умению выстроить материал. Я благодарна ей за поддержку и помощь.
Все восхищались эрудицией и кругозором обожаемого нами Владимира Валентиновича Кельника, который знакомил нас с журналистскими школами Запада. Он, как и старейшина факультета Багреев, только-только перешёл на преподавательскую работу, до того был заведующим отделом литературы и искусства газеты «Звезда» в Перми. Впервые он начал чтение лекций по зарубежной печати.
Бережно храню снимок, сделанный в одну из встреч однокурсников в 80-е годы, с нами именно он, наш любимый преподаватель. В верхнем ряду слева направо Римма Буркова, Валентин Васильев.
В среднем ряду Надежда Гущеварова (Мирская) (приехала из Саранска), затем я, Галина Фёдорова-Косарева, Валя Рощина, Владимир Кельник, в нижнем ряду Герман Иванцов, Ольга Гречишкина (она тележурналист, жила в Прибалтике), Фёдор Подольских (приехал из Оренбурга).
Сегодня из этой группы живы, кроме меня, член Союза писателей Надежда Гущеварова (Мирская), Герман Иванцов, Фёдор Подольских – правда, он теперь москвич, переехал к детям в столицу, Валя Рощина – она перебралась с сыном на Кубань. Время забирает людей очень быстро, увы… И передвигает по карте…
Владимира Валентиновича мы боготворили. Его инициативе я была обязана тем, что на практике весной 1961 года оказалась в Москве, в «Комсомольской правде». И видела, как столица встречает первого человека в космосе – Юрия Гагарина!
Впереди ещё был пятый курс, защита дипломов – и расставание с альма-матер.
По распределению в Архангельск – на работу в областные партийную и комсомольскую газету «Правда Севера» и «Северный комсомолец» – мы поехали втроём: кроме меня, ещё Ольга Щербинина и Надежда Плаксун.
В Архангельске нас тепло встретила землячка, выпускница нашего журфака 1960 года Татьяна Завгородняя (по мужу Шахова). На всю жизнь она осталась в этом прекрасном северном городе и спустя годы работала в местной организации Союза журналистов России.
Ну, а мы трое… Через несколько лет все мы вернулись на Урал. Позднее Ольга переехала в Питер, к дочери, сейчас выпускает книги, широко печатается. Надежда Плаксун по-прежнему в Екатеринбурге, успешно работала на телевидении, вела вопросы культуры. Общаемся. Перезваниваемся. Встречаемся на ветеранских собраниях.
Дорогие мои сокурсники
В Екатеринбурге наших однокашников сегодня раз, два и обчёлся.
Я уже упомянула Надежду Плаксун. Ещё не назвала Татьяну Зайцеву (с ними мы вместе когда-то были на практике в Москве). Потом Таня отправилась по распределению на далёкую Чукотку, на телевидение. И только недавно вернулась на Урал.
И, конечно, всегда перезваниваемся и изредка встречаемся с Германом Иванцовым, профессором, доктором наук, бывшим преподавателем нашего же университета (когда-то он занимался в знаменитой студенческой капелле и посетил Вену, выступал на фестивале молодёжи и студентов, вместе с ещё одним нашим однокурсником, сегодня известным московским писателем, знатоком русской истории Валентином Свининниковым).
Из тех наших однокурсников, кто также оставил след на уральской земле, нужно обязательно вспомнить ещё и Стаса Вагина. Он вернулся из Прибалтики в годы перестройки. Бросил там налаженную жизнь, удачную карьеру. Тут ему всё пришлось строить заново. Работал в «Областной газете». Здоровье не выдержало – нелегко начинать жизнь с чистого листа…
Хотелось бы назвать ещё и блестящего журналиста, поэта Валентина Васильева. Он, единственный, защищал диплом на английском языке. После окончания университета некоторое время поработал на Ближнем Востоке, потом вернулся и преподавал на родном журфаке. Полагаю, это было где-то в начале 70-х годов. Какие прекрасные стихи он писал! К сожалению, Вали, как и его друга Стаса Вагина, уже давно нет среди живых…
Когда мы заканчивали пятый курс, на страницах «Уральского университета» появилась фотография, на которой несколько будущих журналистов смотрят вдаль с высоты балкончика нашего здания по улице 8 Марта, 62. На этом снимке Фёдор Подольских, Феликс Симаков, я, а рядом со мной наша волжанка Римма Буркова (всю жизнь проработала в самарской вечёрке «Волжские зори», вечная ей память!)
Фёдор как уехал по распределению в Оренбург, так там и работал. Сейчас москвич, собкор газеты «Советская Россия». А был главным редактором областной партийной газеты.
Феликс стал известным тележурналистом в Ижевске. Он был самым юным на курсе. И вот – позже всех нас, совсем недавно, отметил своё 75-летие.
Некоторые из наших сокурсников обосновались в столице. Разные судьбы, но каждый из них сумел сделать в своей жизни рывок, который и привёл их к покорению первопрестольной. Это телевизионщица Людмила Нежнова, редакторы Светлана Фалей, Ирина Пинчук, Алла Бушуева (в замужестве Ведрашку, она стала женой главного редактора знаменитого «толстого» журнала «Новый мир»), Елена Родневская (перед выходом на пенсию уже работала в Государственной Думе), Леонид Левицкий и его жена, кандидат наук Зарема Хакимова. Леонид с женой работали в годы советской власти в Таллине, но сумели после перестройки вернуться в Россию и освоить пространства нашей столицы. Надеюсь, что Леонид и сегодня – на боевом посту, он работал в журнале Совета Федерации России.
Время идёт стремительно, и оно забирает одного за другим наших товарищей.
Вечная память:
– Владимиру Ермолаеву, корреспонденту «Правды» в Иркутске;
– Анне Тока, сотруднику газеты «Известия»;
– Болеславу Пинчуку, бывшему работнику ЦК КПСС;
– Юрию Николаеву, сотруднику газеты «Советская Россия»…
И это только некоторые ушедшие, из московского землячества… Но Советский Союз распался, и наших сокурсников разбросало по свету…
Недавно шёл из жизни Юрий Кунгурцев – талантливый писатель, поэт, переводчик, автор многих книг, известный деятель культуры Казахстана. Жил в Чимкенте. Мы звали его в студенчестве Игорем, потому что он очень хотел походить на обожаемого им Игоря Северянина… Большой некролог, посвящённый ему, мы нашли в интернете случайно.
Отыскали на просторах интернета Юрия Ряженцева. Успели даже поговорить по телефону – за несколько месяцев до его смерти. Оказывается, он, с женой-гречанкой, уехал из страны, жил в Афинах. Печатался в интернете в журнале «Девять муз». Его называют одним из самых талантливых поэтов эмиграции новой волны.
Разумеется, я не назвала многих наших однокашников. Например, Нину Шатрову. Она по распределению попала в Киров, работала в газете, создала семью и была счастлива – с мужем, детьми и внуками.
Многие адреса потеряны, не обо всех мы знаем… Разве что донесётся весть: например, умер Ваня Жадько… Боря Штейнфер… И всё же нет ничего крепче нашего дружества!
Viva журфак! Мы всегда знали, что учимся на самом лучшем факультете, который готовит настоящих журналистов!
Молодей и процветай, наш журфак!
Экс-декану Борису Лозовскому, более тридцати лет возглавлявшему журфак, – дружное «Ур-р-а!!!»
Bepul matn qismi tugad.