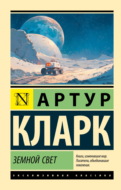Kitobni o'qish: «Шерли»
© Школа перевода В. Баканова, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Глава 1. Кураты
В последние годы кураты1 так и хлынули на север Англии: они густо населили горы, и в каждом приходе непременно найдется один, а то больше. Кураты достаточно молоды, чтобы проявлять недюжинную активность, и вроде бы творят добро. Однако речь пойдет вовсе не о недавнем времени, мы обратимся к началу века. Нынешние годы засушливы, выжжены солнцем, жарой, бесплодны, поэтому зенита мы будем избегать и погрузимся в полуденный отдых, проведем середину дня в дреме, мечтая о рассвете.
Читатель, если данная прелюдия наводит тебя на мысли о романтических историях, то ты ошибаешься. Предвкушаешь сантименты, поэзию и грезы? Ожидаешь любовных страстей, экзальтации и мелодрам? Умерь свой пыл, спустись с небес на землю. Тебя ждет история подлинная, чинная и обстоятельная, столь же неромантичная, как утро понедельника, когда всякий труженик просыпается и вздыхает, что пора вставать и отправляться на работу. Вряд ли можно сказать наверняка, что мне не удастся раздразнить твой аппетит, по крайней мере к середине или к концу трапезы, однако первое блюдо будет таким, которое добрый католик вкушает в Великую пятницу на Страстной неделе: холодная чечевица с уксусом, без масла; к ней подадут опресноки с горькими травами, и никакой тебе жареной баранины.
В последние годы, как уже сказано выше, на север Англии кураты хлынули настоящим ливнем, но в 1812 году до этого изобилия было еще далеко. Лица духовного звания встречались крайне редко: тогда ведь не существовало ни Общества помощи пастырям, ни Общества вспоможения куратам, чтобы протянуть руку помощи измученным заботами старым приходским священникам, снабдив их необходимыми средствами для содержания энергичных молодых коллег из Оксфорда или Кембриджа. В то время нынешних питомцев профессора Пьюзи2 и орудия пропаганды заботливо укачивали в люльках либо омывали в купелях. При взгляде на них никому бы и в голову не пришло, что отутюженные оборки накрахмаленных чепчиков обрамляют личики тех, кому на роду написано стать непогрешимыми преемниками святого Павла, святого Петра или святого Иоанна. В складках ночных рубашонок ты вряд ли смог бы разглядеть белые стихари тех, кто в будущем начнет вбивать Слово Божье в души прихожан и ставить в тупик старых священников, яростно жестикулируя над кафедрой в одеянии, которое прежде лишь робко мелькало за аналоем.
Тем не менее даже в те скудные времена кураты кое-где встречались. На благодатных нивах Уэст-Райдинга, что в Йоркшире, в радиусе двадцати миль произрастали целых три бесценных отпрыска Аарона. Сейчас ты их увидишь, читатель. Входи в уютный домик посреди сада на окраине Уиннбери, затем в гостиную. Они обедают. Позволь их тебе представить: мистер Донн, курат прихода Уиннбери; мистер Мэлоун, курат Брайрфилда; мистер Свитинг, курат Наннели. Мистер Донн любезно пригласил собратьев откушать с ним. Заглянем на огонек, посмотрим и послушаем. Впрочем, сейчас они просто едят, а мы отойдем пока в сторонку и поговорим.
Все трое джентльменов – в расцвете лет, им свойственна типичная для их возраста кипучая энергия, которую престарелые главы приходов тщатся направить в благое русло, однако юных левитов мало привлекают духовные обязанности вроде исправного надзора за приходскими школами и частых визитов к недужным. Они находят эти обязанностями скучными, предпочитая расточать энергию на занятие более приятное для них, хотя в глазах прочих оно и кажется не в пример тягостнее и однообразнее, вроде рутинной работы ткача за станком. Им же подобный досуг служит неиссякаемым источником удовольствия.
Я говорю про беготню в гости друг к другу. Эти джентльмены носятся взад-вперед, однако их маршрут представляет собой вовсе не круг, скорее он имеет форму треугольника, по которому они снуют день и ночь, будь то зима, весна, лето или осень. Время года и погодные условия совершенно неважны: с необъяснимым рвением наши кураты бросают вызов метели и граду, дождю и ветру, слякоти и пыли, желая пообедать, попить чаю или отужинать вместе. Сложно сказать, что именно привлекает их в подобных встречах: вряд ли дружба, поскольку они постоянно ссорятся, и вряд ли религия – о ней они даже не упоминают. Теологические диспуты между ними случаются, но о благочестии речь не идет никогда. Вряд ли их привлекает еда и питье: кусок мяса и пудинг они могут съесть и дома, чай там ничуть не менее крепкий, гренки не менее сочные, чем подают их собратьям. Миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уипп – соответственно, их квартирные хозяйки – утверждают, будто они делают это, лишь бы досадить ближнему. Очевидно, под «ближним» эти добрые женщины подразумевают самих себя, поскольку данная система взаимных набегов оборачивается для хозяек сплошной нервотрепкой.
Мистер Донн и его гости, как я уже сказала, обедают. Миссис Гейл им прислуживает, и в глазах ее сверкают отблески жаркого кухонного огня. Она полагает, что в последнее время жилец чересчур часто пользуется привилегией приглашать друга откушать (без дополнительной платы, поскольку жилье она сдает именно на таких условиях). Сейчас только четверг, тем не менее в понедельник на завтрак заглянул мистер Мэлоун, курат Брайрфилда, и остался обедать. Во вторник мистер Мэлоун и Свитинг зашли на чай, потом задержались на ужин, заняли свободную кровать и почтили хозяйку своим обществом за завтраком в среду. Теперь четверг, и вот они оба обедают, да еще наверняка останутся на ночь. Владей хозяйка французским, она выразилась бы так:C’en est trop3.
Мистер Свитинг крошит на мелкие кусочки свой ростбиф и жалуется, что тот жестковат; мистер Донн утверждает, будто пиво выдохлось. В том-то и беда: веди они себя приличнее, миссис Гейл так не возмущалась бы; довольствуйся они тем, что им дают, она не возражала бы против частых посещений, однако «юные кураты кичливы и на всех взирают свысока. Обращаются с ней бесцеремонно лишь из-за того, что она не держит служанку и выполняет работу по дому сама, как делала ее мать; и всегда-то они бранят Йоркшир и его обитателей». Поэтому миссис Гейл не считает их джентльменами. «Старый приходской священник стоит целого гурта огольцов из колледжа – он-то знает, что такое хорошие манеры, он добр к людям всякого звания».
– Хле-ба! – кричит Мэлоун.
Даже по двум слогам в нем можно распознать уроженца родины клевера и картофеля. Миссис Гейл не выносит Мэлоуна больше двух других куратов, однако побаивается его из-за высокого роста и крепкого телосложения. У него мощные конечности и типично ирландская физиономия – не исконно ирландская, вроде Дэниела О’Коннела4, а лицо североамериканского индейца, что свидетельствует о принадлежности к определенному типу ирландских джентри. Вид у него надменный и спесивый, больше подходящий рабовладельцу, нежели помещику над свободными крестьянами. Отец Мэлоуна считал себя джентльменом: он был беден и вечно в долгах, с огромным гонором; сын весь пошел в него.
Миссис Гейл принесла еще хлеба.
– Порежь, женщина! – велел гость, и «женщина» порезала, хотя первым ее побуждением было порезать самого курата – свободолюбивая йоркширская душа отчаянно бунтовала против его командного тона.
Аппетитом кураты всегда отличались отменным, и «жестковатое» мясо поглощали с большим успехом. «Выдохшееся» пиво тоже легко проскочило, в то время как йоркширский пудинг и две миски овощей были проглочены мгновенно, будто листва под натиском саранчи. Сыр также удостоился заслуженного внимания. Кекс с пряностями, поданный на десерт, исчез без следа. Его горько оплакал в кухне Абрахам, сын и наследник миссис Гейл, мальчик шести лет. Он надеялся отведать кусочек, и когда мать внесла пустое блюдо, зарыдал в голос.
Кураты без особого удовольствия потягивали довольно посредственное винцо. Мэлоун предпочел бы, разумеется, виски, но Донн, будучи англичанином, подобных напитков не держал. За вином они спорили, только вовсе не о политике, философии или литературе. Эти темы их совершенно не интересовали, впрочем, как и богословие – ни практическое, ни теоретическое. Они с упоением препирались из-за теологических нюансов, которые все остальные сочли бы пустыми, словно мыльные пузыри. Мэлоун угостился двумя бокалами вина, в то время как его собратья выпили по одному, и понемногу разошелся в свойственной ему манере, то есть начал дерзить, говорить грубости менторским тоном и шумно хохотать над своими же шутками.
Мэлоун поочередно насмехался над каждым из собеседников. У него имелся запас шуточек, которые он регулярно пускал в дело во время попоек вроде этой и редко уклонялся от привычного набора острот, поскольку не видел в том необходимости: не считал их однообразными и ничуть не заботился о мнении окружающих. Донну вечно доставалось за худобу, курносый нос и потертый сюртук шоколадного цвета, в который сей джентльмен облачался в дождливую погоду или при малейших признаках надвигающегося ненастья, а также за набор фраз из лексикона кокни и «прононс», коими он весьма гордился и считал, что они придают его речи некое изящество и выразительность.
Над Свитингом он подтрунивал из-за телосложения (тот был маленького роста и хрупок; по сравнению с Мэлоуном – совершенно мальчишка) и потешался над его музыкальными достижениями, поскольку тот играл на флейте и распевал гимны точно серафим, как считали юные леди в приходе. Глумился над тем, что он любимец женщин; дразнил матушкой и сестрами, к которым бедный Свитинг питал трепетные чувства и о каких имел глупость частенько упоминать в присутствии преподобного Пэдди, начисто лишенного родственных чувств.
Жертвы относились к наскокам Мэлоуна по-разному: Донн – с напыщенным самодовольством и хладнокровием, что помогало ему сохранять пошатнувшееся достоинство; Свитинг – с легкомысленным равнодушием, свойственным людям покладистого нрава, которые не претендуют ни на какое «достоинство».
Когда насмешки Мэлоуна стали чересчур оскорбительными, что произошло весьма скоро, они объединили усилия и набросились на противника с его же оружием. Для начала спросили, сколько мальчишек в тот день прокричали ему вслед «ирландский Петр» (Мэлоун был тезкой апостола, полное имя – преподобный Питер Огаст Мэлоун), когда он шагал по дороге. Осведомились, действительно ли в Ирландии среди духовенства принято носить в карманах заряженные пистолеты и дубинки в руках, отправляясь с визитами. И еще они поинтересовались об особом значении некоторых слов вроде «флер-р-р», «твер-р-рдый», «штур-р-рвал», «бур-р-ря» (так Мэлоун всегда произносил слова «флер», «твердый», «штурвал», «буря»), а также нанесли и прочие подобные контрудары, изощряясь кто во что горазд.
Такого ирландец, разумеется, не вынес. Поскольку Мэлоун не отличался ни добродушием, ни выдержкой, он впал в неистовство: выкрикивал ругательства, размахивал руками – Донн со Свитингом лишь смеялись. Он костерил их во всю силу могучей кельтской глотки, именуя саксами и снобами; они же дразнили его уроженцем завоеванных земель. Мэлоун угрожал им мятежом от имени своей «стр-р-раны», изрыгая лютую ненависть к господству англичан, они же попрекали его родину нищетой и эпидемиями. Гвалт в маленькой гостиной поднялся немыслимый: после столь ожесточенных нападок можно было ожидать, по меньшей мере дуэли, – однако мистер и миссис Гейл почему-то не встревожились и посылать за констеблем не стали. К подобным представлениям они давно привыкли и знали, что кураты никогда не обедают или не пьют чай без легкой разминки. Хозяева относились спокойно к последствиям этих невинных, хотя и шумных, ссор, понимая, что, в каких бы отношениях кураты ни расстались вечером, утром они вновь встретятся лучшими друзьями.
Достопочтенная супружеская чета сидела у кухонного очага, слушая звучный стук кулака Мэлоуна по столешнице красного дерева и последующий звон графинов и стаканов, насмешливый хохот объединивших усилия англичан и запинающийся от негодования голос ирландца, оставшегося в меньшинстве. Вдруг на крыльце загремели шаги и настойчиво застучал дверной молоток. Мистер Гейл пошел открывать.
– Кто там у вас наверху? – раздался голос в высшей степени выдающийся – гундосый и отрывистый.
– Ох! Это вы, мистер Хелстоун? Как теперь быстро темнеет! Я едва могу вас разглядеть. Пройдете, сэр?
– Сначала хочу узнать, надо ли мне входить. Кто там у вас наверху?
– Кураты, сэр.
– Что? Все трое?
– Да, сэр.
– Обедают?
– Да, сэр.
– Ясно.
Порог перешагнул мужчина в летах, весь в черном. Он прошел через кухню к внутренней двери, открыл ее, сунул голову в щель и прислушался. Шум наверху тем временем достиг апогея.
– Ого! – воскликнул он и повернулся к мистеру Гейлу. – И часто у вас так весело?
Будучи церковным старостой, мистер Гейл относился к куратам весьма снисходительно.
– Видите ли, сэр, они еще так молоды, – смиренно заметил он.
– Молоды? Палка по ним плачет! Негодные мальчишки! Даже будь вы протестантом, Джон Гейл, а не добрым сыном англиканской церкви, потакать подобному поведению все равно было бы недопустимо! Я не позволю…
Не закончив фразы, мужчина проследовал внутрь дома, закрыл за собой дверь и бросился вверх по лестнице. На пороге гостиной помедлил и прислушался, потом вошел без стука и предстал перед куратами.
Они остолбенели и притихли, нежданный гость тоже молчал. Невысокий, зато с прямой осанкой и широкоплечий, благодаря зоркому цепкому взгляду и крючковатому носу он напоминал коршуна. Шляпу с широкими загнутыми полями гость ни снять, ни хотя бы приподнять не потрудился и теперь стоял, скрестив руки на груди, и не спеша оглядывал своих так называемых юных друзей.
– Ну надо же! – начал он, уже не гнусавя, голосом глубоким и даже нарочито глухим, отчетливо выговаривая каждое слово. – Неужели чудо первой Пятидесятницы повторилось? Все снова заговорили на разных языках и перестали друг друга понимать? Где же они? Только что во всем доме стоял гам. Я слышал сразу семнадцать наречий: парфян и мидян, и эламитов, жителей Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и тех частей Ливии, что возле Киринеи, выходцев из Рима, иудеев и прозелитов, критян и аравийцев, – наверное, пару минут назад эта комната вмещала представителей всех перечисленных мною народов!
– Прошу прощения, мистер Хелстоун, – произнес Донн, – умоляю вас, присядьте! Не угодно ли бокальчик вина?
Его любезность осталась без внимания. Коршун в черном облачении продолжил:
– К чему я толкую о даре речи? Вот уж дар так дар! Я ошибся главой, книгой и заветом – принял Моисеев закон за благую весть, книгу Бытия за Деяния апостолов, долину Сеннаар за град Иерусалим. Оглушивший меня гам – вовсе не дар, а вавилонское столпотворение! Вы – апостолы? Это вы-то? Разумеется, нет! Вы трое зарвавшихся вавилонских каменщиков!
– Уверяю вас, сэр, мы просто болтали за бокалом вина после дружеского обеда. И тут принялись распекать протестантов…
– Ах так! Значит, протестантов распекали? Вот чем занимался Мэлоун? А по мне, так он разносил в пух и прах собратьев-апостолов. Вы пререкались друг с другом, подняв втроем гвалта не меньше, чем Моисей Барраклау, портной-проповедник, и его паства в секте методистов, когда впадут в религиозный экстаз. Знаю я, кто во всем виноват. Это ты, Мэлоун!
– Почему сразу я, сэр?
– Кто же еще! До твоего появления Донн и Свитинг вели себя тихо, и без тебя буянить перестали бы. Свои ирландские привычки тебе следовало оставить по ту сторону пролива. Дублинские студенческие нравы священнику не к лицу. Может, среди диких болот и гор Коннахта подобные художества и сходят с рук, однако в благоприличном английском приходе они бросают тень на того, кто их совершает, или, что гораздо хуже, на святую церковь, чьими смиренными служителями вы являетесь.
Пожилой священник читал юношам мораль не без высокопарности, держался чопорно, глядя на них коршуном; вопреки шляпе, черному сюртуку и гетрам, он больше смахивал на боевого офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, наставляющего духовных сынов на путь истинный. От сурового загорелого лица не веяло ни евангельской кротостью, ни апостольским добросердечием; напротив, на нем прочертили глубокие борозды проницательность и твердость духа.
– Я видел Сапплхью, – продолжил он, – бредущего по грязи этим дождливым вечером читать проповедь в Милдин. Как я уже говорил, во время службы в сектантской молельне Барраклау ревет, словно рехнувшийся бык, а вы, джентльмены, расселись тут за полпинтой мутного портвейна и бранитесь будто сварливые старухи. Неудивительно, что недели две назад Сапплхью сумел обратить шестнадцать душ за день. Понятно теперь, как Барраклау, хотя он мерзавец и притворщик, удается собирать полную молельню разрядившихся в ленты и цветы девушек-ткачих, чтобы они могли убедиться, насколько костяшки его рук крепче краев деревянной купели. Понятно, что вы, будучи предоставлены сами себе, когда я, Холл и Боултби не прикрываем вас, частенько проводите службы в пустых стенах и читаете свою сухую проповедь лишь псаломщику, органисту да церковному сторожу. Но довольно об этом! Я пришел повидаться с Мэлоуном. У меня слово до тебя, военачальник5.
– В чем дело? – недовольно осведомился Мэлоун. – Для похорон вроде уже поздновато.
– Ты во всеоружии?
– Ну да, руки есть, ноги есть. – И он поднял свои могучие конечности.
– Ишь какой прыткий! Я спрашиваю про настоящее оружие.
– Есть пистолеты, которые вы мне дали. Я не расстаюсь с ними. Ночью кладу заряженными на стул возле кровати. Еще есть трость-дубинка.
– Прекрасно. Сходи-ка ты на фабрику в лощине.
– А что там затевается?
– Пока ничего. Может, и обойдется, но Мур остался совсем один. Рабочих послал в Стилбро, в доме только он и две женщины. Самое время для его «почитателей» нанести визит, если они проведают, как легко это сделать.
– Ну, сэр, уж я-то к его «почитателям» не отношусь. Мне до него дела нет.
– Ха! Духу не хватает, Мэлоун?
– Вовсе нет. Если бы намечалась буза, я непременно пошел бы. Мур странный и нелюдимый, я никогда не понимал его, так что и шага не сделаю ради сомнительного удовольствия побыть в его компании.
– Буза вполне вероятна; может, даже бунт случится. Хотя шансов и маловато, спокойной ночь точно не будет. Мур заказал новые машины и вечером ждет доставки из Стилбро двух подвод ткацких и стригальных станков. Старший мастер Скотт с несколькими лучшими работниками отправились их забирать.
– Сэр, они наверняка доставят все в целости и сохранности.
– Мур говорит то же самое и никого не желает в помощь. И все же свидетель ему не помешает – так, на всякий случай. Что за беспечность! Сидит себе в конторе с открытыми ставнями, после наступления темноты разгуливает по лощине, по дороге в Филдхед и вдоль окрестных полей, будто он всеобщий любимец или же заговоренный… Злоключения Пирсона и Армитеджа – в обоих стреляли: в одного в собственном доме, в другого – на пустоши – ничему его не научили.
– Муру следует поостеречься и принять меры, сэр! – подхватил Свитинг. – Думаю, доведись ему услышать то, что слышал на днях я, он непременно бы так и поступил.
– И что ты слышал, Дэви?
– Вы ведь знаете Майка Хартли, сэр?
– Ткача-антиномийца?6 Да.
– Когда Майк пьет несколько недель подряд, он, как правило, заканчивает тем, что приходит в дом священника в Наннели, чтобы высказать мистеру Холлу свои соображения по поводу его проповедей, изобличить тенденциозность учения о добрых делах и предупредить о том, что и он, и все прихожане блуждают в кромешной тьме.
– При чем здесь Мур?
– Сэр, помимо того, что Майк антиномиец, он вдобавок и страстный якобинец и левеллер7.
– Знаю. Напившись, всегда бредит убийством монарха. Майк немного знаком с историей, поэтому частенько вспоминает тиранов, которых умертвили «мстители за кровь»8. Этот малый буквально помешан на убийствах венценосных особ и любых других лиц по причинам политическим. Мне доводилось слышать, будто к Муру он питает прямо-таки нездоровую тягу. Ты имеешь в виду это, Свитинг?
– Вы выразились как нельзя точнее, сэр. Мистер Холл считает, что Майк не испытывает к Муру личной вражды. Майку даже нравится с ним потолковать, и он к нему привязан, однако вбил себе в голову, что пример Мура должен послужить для острастки прочих. Недавно он расхваливал Мура перед мистером Холлом, назвав его самым башковитым мануфактурщиком в Йоркшире, и объявил, что по этой причине Мур должен стать искупительной жертвой… Как думаете, сэр, Майк в своем уме? – спросил Свитинг.
– Сложно сказать, Дэви. Он может быть безумен, себе на уме или же и то и другое сразу.
– Сэр, у него якобы бывают видения.
– По части видений он почище Иезекииля или Даниила. Явился ко мне в прошлую пятницу, когда я уже ложился, и сообщил, будто в тот день ему было видение.
– Рассказывайте, сэр! Что ему привиделось?
– Дэви, твой орган любопытства чрезвычайно развит. У Мэлоуна он отсутствует вовсе. Его не интересуют ни убийства, ни видения. Взгляни-ка на этого здоровущего, равнодушного ко всему Сафа!
– Какого-такого Сафа, сэр?
– Так я и думал, что ты не знаешь. Это из Ветхого Завета, почитай на досуге. Мне известно лишь его имя и племя, но с младых ногтей я привык считать его добродетельным здоровяком, нескладным и невезучим. Саф погиб в Гобе от руки Сивхая…
– Сэр, так что там за видение?
– Подожди, Дэви, сейчас услышишь. Донн кусает ногти, Мэлоун зевает, так что я расскажу тебе одному. К сожалению, Майк остался без работы, как и многие другие. Недавно его нанял мистер Грейм, дворецкий сэра Филиппа Наннелийского, для выполнения кое-каких работ. Если верить Майку, после обеда он ставил изгородь и вдруг услышал вдали оркестр – горны, флейты и трубу. Звуки доносились из леса, и он принялся гадать, откуда там взяться музыке. Майк всмотрелся. Среди деревьев двигалось нечто красное, как маки, и белое, как цветы боярышника. В лесу таких пятен виднелось много, потом они хлынули в парк. Майк решил, что это солдаты – тысячи и даже десятки тысяч, однако шуму от них было не больше, чем от мошкары теплым летним вечером. Майк утверждал, что они построились и промаршировали по парку полк за полком. Он последовал за ними на выгон, вдалеке все так же играла музыка. На выгоне они устроили маневры. В центре стоял человек в алом и отдавал приказы. Майк прикинул, что они растянулись акров на пятьдесят. Он наблюдал за ними полчаса, потом они молча промаршировали прочь. За все это время он не слышал ни голоса, ни поступи – лишь музыканты играли торжественный марш.
– Куда они пошли, сэр?
– В направлении Брайрфилда. Майк последовал за ними. Когда они проходили мимо Филдхеда, откуда ни возьмись появился столб дыма, какой мог бы изрыгнуть целый дивизион артиллерии, бесшумно растекся над полями, над дорогой, над выгоном и подкатился к самым его ногам синей дымкой. Облако рассеялось, и Майк огляделся в поисках солдат, однако они исчезли… Он поступил как мудрый Даниил: не только описал видение, но и дал свое толкование. Заявил, что оно предрекает кровавую бойню и гражданскую войну.
– Вы ему верите, сэр?
– А ты, Дэви? Мэлоун, почему ты еще здесь?
– Сэр, странно, что вы сами не остались с Муром. Вам ведь нравятся подобные приключения…
– Мне следовало бы остаться, но, увы, я договорился поужинать с Боултби, когда он вернется с собрания Библейского общества в Наннели. Я обещал прислать в качестве своего заместителя тебя, чему Мур, кстати, вовсе не обрадовался, поскольку предпочел бы меня. Питер, будь угроза реальна, я непременно отправился бы с тобой. В случае нужды ударь в фабричный колокол. Ты давай иди, если только… – пастор повернулся к Свитингу и Донну, – если только Дэви Свитинг или Джозеф Донн не захотят тебя подменить. Что скажете, джентльмены? Поручение весьма почетное, не без привкуса опасности, ведь в стране нынче неспокойно, а Мур и его мануфактура раздражают многих. Не сомневаюсь, что под вашими жилетами бьются отважные рыцарские сердца. Пожалуй, я чересчур благоволю своему любимцу Питеру. В качестве паладина мне следовало выбрать малютку Давида или непогрешимого Иосифа! Мэлоун – большой неуклюжий Саул и годится лишь для того, чтобы передать свое оружие вам. Доставай же пистолеты, давай сюда свою дубинку!
Многозначительно усмехнувшись, Мэлоун вынул пистолеты и протянул собратьям. Энтузиазма они не проявили. С изящной скромностью оба джентльмена попятились от предложенного оружия.
– Я к ним даже не прикоснусь! – заявил Донн. – Сроду оружия в руках не держал.
– С мистером Муром я едва знаком, – пробормотал Свитинг.
– Если ты в руки не брал пистолетов, попробуй же, каковы они на ощупь, великий сатрап Египта! Что же до тебя, малыш менестрель, ты наверняка предпочитаешь сражаться с филистимлянами при помощи своей флейты. Передай им шляпы, Питер. Пусть идут оба!
– Нет-нет-нет, сэр! Моей матушке это не понравится, мистер Хелстоун!
– А у меня есть правило: никогда не встревать в подобные дела, – сообщил Донн.
Хелстоун сардонически ухмыльнулся, а Мэлоун, заржав как лошадь, убрал пистолеты, взял шляпу и дубинку, потом заметил, что настроен хорошенько побузить и надеется, что шайка грязных ткачей не преминет нагрянуть нынче к Муру. С этими словами он удалился, перепрыгивая через две ступеньки, и хлопнул входной дверью так, что весь дом содрогнулся.