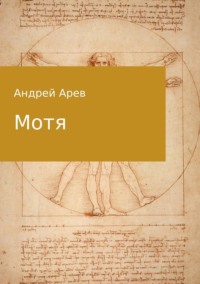Kitobni o'qish: «Мотя»
Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет;
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе,
не устоит. И если сатана сатану изгоняет,
то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
Матф. 12:25-26
Глава 1. Либерея
-3
Моте было холодно. Стоять одной на февральском ветру в коричневой школьной форме с черным фартуком, белыми манжетами и воротничком, белых гольфах и туфельках, не зная, куда идти, потому что ты умерла, кровь твоя свернулась и уже не сочится из дырки в виске – стоять так не только холодно, а еще и тоскливо. Мотя раскачивается и напевает, чуть шевеля сиреневыми губами: «… по головке гладит, черствый пряничек дает…». Её похоронили неправильно, не отрубив кистей рук, ступней и не отделив головы, поэтому ночью, почувствовав тяжесть на груди, Мотя выкопалась, плача и размазывая слезы, смешанные с землей, и вытирая их красным шелковым галстуком. Теперь она стояла у стеклянной витрины «Лакомки» и смотрела на красивую выпечку, любуясь и не понимая, почему ей не хочется сладкого. Что-то тяжелое медленно толкалось внутри, в правом боку, заставляя двигаться, двигаться не хотелось, а хотелось заползти куда-нибудь, сжать ноги вместе до боли, свернуться калачиком и оцепенеть, не обращая внимания на пропитанное мочой и кровью белье, схватившееся на морозе коркой…
1
Когда холодно, за 30, и такая погода держится недели две – время начинает замерзать. Сначала вымерзает лишняя влага из настоящего, и дни, плотно сбитые, как мячи для пионербола, пугающе быстро, с легким хлопком меняют друг друга. Потом замерзает прошлое, сначала створаживается в подобие холодца, который вполне себе можно резать ножом, а затем становится более плотным, как рахат-лукум, и таким же белесым. Дни, не насыщенные событиями, замерзают в лед, прозрачный или цвета бульона. И тогда их можно увидеть сложенными в сенях, вместе с намороженными плитками молока, пельменями, колобками фарша и квашеной капустой. Конторские приносят его на работу, и часов в 10 утра раздается клич: Девки, айдате чай с яблоками пить!
Задастые пятидесятилетние «девки» крошат в чай яблоки, кусочки замороженного прошлого, достают домашнее варенье из лесной клубники – и сутки их удлиняются на пару часов.… А еще в лед замерзают дни, не наполненные ничем, кроме какого-либо чувства – счастья или там, любви. Получается такой радужный лед, его можно наколоть на этакие небольшие монпансьешки, и рассасывать весь день. Челюсть немеет, во рту остается неуловимое послевкусие – невозможно понять, чем ты тогда был так счастлив или, вот, любил же – а сейчас что? Но все равно, приятно – как после хорошего, красивого сна, который не можешь вспомнить, и пока вспоминаешь – все исчезает.
2
Мотя жила в маленьком городке, настолько маленьком, что на окраине он уверенно превращался в деревню – совсем недалеко от центра по утрам орали петухи, пахло хлевом, а зимой можно было видеть, как трактор затаскивает в чей-то двор смётанный на березу стог сена. Население окрестностей Эмска состояло, в основном, из скроенных по одному лекалу сухоньких мужичков, лысоватых и рыжеусых, одетых вечно в теплые клетчатые рубахи, застиранные джинсы-варёнки и такие же жилеты, и здоровенных теток, которые были выше своих мужей на голову, и, кажется, так и родились в этих своих серых плащах и всепогодных галошах на босу ногу. Летом окраина торговала на городском рыночке сепарированными сливками, а зимой – копченым салом, хотя самые распространенные местные фамилии были как-то связаны с едой, вернее, с ее отсутствием: Худяков, Постовалов, Художитков, Баландин.
Жительствовала Мотя в кирпичной двухэтажке, забитой как барк капитана Хёрда грузом мороженого мяса и картошкой; мясо на балконах нагло тырили синички, а картошка в самодельных подвалах сморщенными кракенами тянула свои щупальца к свету. Дом вообще был похож почему-то на торговое судно, застрявшее в водорослевых покосах Саргассова моря, и давно переставшее дрейфовать. Команда постепенно спилась, обзавелась семьями, переженившись на местных русалках, которые быстро обабились, развешали из больших эмалированных тазов свежевыстиранные простыни и пододеяльники, и наплодили племя младое, незнакомое, сидевшее по подъездам с «Балканкой» и «Ягой» – Ангка в их глазах не то, чтобы не горела, а просто не была оплодотворена.
Старшее же поколение разными темпами уверенно двигалось к смерти – чаще всего, она приходила в виде сковородки жареных грибов, съеденных на ночь, и наутро самому человеку было не ясно, жив он или прикалывается, уходя серым осенним утром на работу в свою контору или на завод; на самом же деле, окружающие видели очередной никчемный труп, а мозг, обманутый грибами, плавно входил в русло посмертных мытарств, – и начиналось: какая-нибудь бухша никак не могла понять, почему она не может сдать отчет, а ведь уже конец месяца, почему на нее орет начальник, почему сын-оболтус снова проспал первый урок, а еще и месячные, и все это одновременно. Или там, знаешь, миома матки, а еще невыплата по кредиту и отправляют на маммографию в город с подозрением на онкологию. Такова была замысловатая осенняя смерть; еще была белая и искристая зимняя, наполненная запахами весенняя, и скучная, с мухами – летняя.
Мотя мало с кем общалась во дворе, разве что с дворником и его детьми. Дворник-татарин Фарид, который обычно молча сметал в кучу листья, либо скалывал гиреем лед, и приветствовал знакомых лишь кивая, к Моте почему-то чувствовал особое расположение, всегда улыбался при встрече и говорил, снимая шапку: здравствуй, девочка! Остальное время он мычал про себя какую-то песню, иногда останавливаясь чтобы, воздев указательный палец, произнести какое-нибудь дацзыбао на своём смешанном русско-татарском наречии, например: Мечетта никакой урыс сюзе булмасэн1 или же: бер курешу узе бер гомер, тугие паруса… я список кораблей прочел до середины2.
У него была жена Фаина, тихая женщина с мягкой улыбкой, и двое сыновей – Уримка и Тумимка, лобастые погодки семи и восьми лет, вечно стриженые "под чубчик". Братья заболели Древним Египтом, когда валялись дома со свинкой, и теперь младший, Уримка, шастал по городу в поисках тюбиков от «Поморина» и «Мэри», чтобы замочить найденное в детской ванночке, затем разрезать бывший тюбик, прокатать на самодельных вальцах, и вогнать в установленный размер на гильотинке для фотографий – на нем была техническая сторона дела. Старший, сидя по-турецки где придется, чеканил на этих жестяных листах жизнь древнеегипетских богов, которые стояли в очередях за молоком, развешивали бельё и разбирались с мирозданием при помощи мастерка и нивелирной рейки: все во дворе знали, что, например, птицеголовых Ра и Монту звали как попугайчиков – Кеша и Гоша, а Сет носил имя соседской таксы Тильды – аналогично было и с остальными.
Когда братья обшили этими листами одну из стен комнаты, и она стала напоминать внутренность какой-то жестяной египетской пирамиды («у Хеопса была избушка каменная, а у Уримки и Тумимки – жестяная…»), родители мягко объяснили им, что делать этого больше не стоит. Молчаливые, как отец, братья теперь проволокой сшивали листы в книги и хранили их в подвале – часто можно было видеть, как младший, сопя, снимает сапожным ножом оплетку с куска многожильного кабеля, а старший, прикусив кончик языка, корпит над новым листом летописи, украшая их иероглифами собственного изобретения.
Еще Мотя иногда заходила к ювелиру, немцу Тицу. Вернее, это в какой-то прошлой жизни Тиц был ювелиром, а сейчас работал кочегаром в ближайшей котельной. Он жил здесь так давно, что никто уже не знал, потомок он екатерининских переселенцев, или же бывший пленный. После того, как из рук Тица перестали выходить цепочки и броши, а вместо них стали появляться малюсенькие полиспасты и ручные тали, все поняли – свихнулся. Из мастерской его выгнали, но дома Тиц упорно продолжал делать миниатюрные золотые кран-балки, на крюках которых висели микроосколки кирпичей дома Ипатьева, монетки с могилы дятловцев или кусочки челябинского метеорита. Потом он охладел к металлу, и начал работы по выведению магнита для дерева – на даче он скрещивал различные деревья и кустарники, называя результаты своих мичуринских экзерциций сплавами – говорили, будто один из его "сплавов" примагничивал дерево, поэтому немца тут же забрали в тайную кремлевскую лабораторию доктора Календарова3, на дверь квартиры повесили секретную милицейскую бумажку с печатью, и Мотя больше его не видела.
В школе Мотя дружила с Нюрой Одинцовой. Нюра всегда собирала и сдавала больше всех в классе мухоморов – желтенькие отдельно, красненькие отдельно. Еще Нюра собирала для заготконторы выброшенные пионерские галстуки, – с тех пор, как шелкопряда научились кормить красными ягодами тутовника, алый шелк перестал быть дефицитом, и многие выбрасывали порванные или испачканные галстуки, – их потом отправляли северным народцам, чтобы те заготовили как можно больше копальхемов4 для заблудившихся в тундре советских геологов, которые искали на северных просторах нефть и газ, необходимые Советской стране. А ведь всем известно, что пометить притопленный в болоте копальхем лучше всего пионерским галстуком или хотя бы вымпелом «Лучшему оленеводу».
Нюра была девочкой тихой и странной, по воскресеньям ходила к городской тюрьме, где сидели немецкие пленные, которые всю неделю строили в городе красивые дома с фундаментом из природного камня, и враги СССР. В стену тюрьмы была вделана клетка, в которой сидел захваченный вместе с немцами белый петух Миша. Мишу собирались откормить и съесть, но петух специально почти ничего не ел и стал больше походить на кусок трески, чем на птицу, поэтому над клеткой была надпись: "Зверь weißenHahn". Нюра приходила разговаривать с петухом, чтобы подтянуть себя по немецкому – петух говорил с четким берлинским акцентом. Еще Миша оставлял Нюре вишневые косточки, которые давали ему вместе с зерном – это были косточки от специальных вишен, выращенных в Бабьем Яру, – ими кормили перед казнью главных врагов СССР. Враги с удовольствием ели эти вишни, потому что от них кровь быстрее покидала обезглавленное тело и становилась очень красной, что не могло не нравиться зрителям. Нюра ела косточки, чтобы узнать мысли врагов и понять, как они могли ненавидеть СССР.
3
Сама Мотя даже не знала толком, как ее зовут. Мама Моти умерла родами: когда ее спросили, как назвать новорожденную, мама улыбнулась и ответила: Мотя.
"Хорошо-хршо. Хрш", – сказало мамино сердце, и остановилось. Папа называл Мотю "мое солнце", но он бывал дома редко, потому что все время пропадал в командировках, и воспитанием Моти занимались попеременно приходящие бабушки. Бабушка – папина мама называла Мотю Матильдой, говорила, что это имя переводится, как "опасная красота", и рассказывала о святой Матильде Рингельхаймской. Моте нравился перевод имени, но само имя напоминало о соседской таксе Тильде. Тильда была умной и доброй собакой, но Мотя, если и хотела быть каким-то животным, то никак не собакой, а тогда уж южным ктототамом, который живет в Амазонии, где тепло и мало людей.
Бабушка – мамина мама называла Мотю Матрёной, рассказывала о Матрёне Московской, которой слушался сам Сталин. Матрёной Мотя тоже быть не хотела, поэтому писала свое имя двумя арамейскими загогулинами – тау и мим. Арамейский она выучила по найденной в папином кабинете книге.
А с бабушками у нее не складывалось. Мамина мама постоянно приносила Моте просфоры, бормоча что-то про тело Христово, и пыталась запихнуть их Моте в рот – скушай, деточка. Маленькой Моте, смотревшей на распятье из глубины своего
крохотного роста («госпоже Правой ноге…») телом Христовым представлялся почему-то только большой палец ноги, наверное, немытый и с толстым желтым ногтем, ее начинало мутить, и она убегала.
Папина мама вообще пугала Мотю. Она говорила, например: не будешь слушаться – превратишься в косулю, и таким же серым вьюжным днем в конце ноября за тобой приедут на УАЗике четыре пьяных клоуна, и ты будешь убегать, плача и сбивая ноги о наст, только хрен что у тебя получится; или: не будешь слушаться – придут китайцы и увезут тебя в свой специальный пластмассовый китай; или: не будешь слушаться – родишься лавровым деревом, и все будут бросать твои листья в суп.
Но и это было не самым страшным. Папина мама часто напевала: только крышеснег, и, кроме крышеснега, – никого.… Вот что было самым страшным. Мотя видела себя одну в доме, в сумерках… и вдруг – быстрый маховой промельк, дрожь вторженья, и – появляется крышеснег, одетый в белое, и ступающий мягкими неслышными лапами.
Да! Прошлогоднее унынье! Да! дела зимы иной. Иной, как вы не понимаете? Иной, нездешней, нечеловеческой зимы!
Белый снежный ужас проникал тогда в Мотю, она хватала на кухне самый большой нож и с бешено колотящимся сердцем караулила под дверью тихие неслышные шаги. Но страшных незнакомых шагов не было – просто приходила бабушка и забирала нож.
Зато Мотя любила папу. Папа, наверное, тоже любил Мотю.
– И это так страшно, – сказала как-то Мотя Нюре, – так страшно, когда тебя кто-то любит, ничего от тебя не хочет, а просто любит, а ты не знаешь об этом или, что еще хуже, знаешь, но тебе это не нужно и даже противно, ведь это такой ужас леденящий, такая бездна… И все эти ваши ангелы, трубящие по сравнению с этой бездной – как гипсовые пионеры-горнисты, а геенна огненная – как котельная на улице Ленина.
– Я думаю, что по-настоящему могут любить только мертвые, – ответила Нюра, – например, меня любят мертвые мамонты, которые живут глубоко под землей. Когда долго идет дождь, то в их подземных норках становится очень печально и сыро. И они начинают плакать. А дождевые черви не выдерживают их плача, и выкидываются на поверхность, как киты на берег…
– Да, или вот, как мне Кока Смирнов рассказывал, живешь-живешь, любишь-любишь, и вдруг оказывается, что по-настоящему ты любил только кота Ваську, который умер, когда тебе было шесть лет, да и то все забылось, и не осталось от этой любви ничего, кроме, разве что, когда на игре в порнопсевдонимы ты сказал, что тебя бы звали Василий Ленин, и все ржали.
Кока Смирнов, одноклассник Моти и Нюры, круглолицый мальчик, вечно поправляющий очки, как-то сообщил Моте, что порнозвезды выбирают псевдонимы, используя для имени кличку первого домашнего питомца, а для фамилии – название улицы, на которой прошло детство. Мотя тогда еще подумала, что советские порнопсевдонимы были бы крайне забавными: Муся Куйбышева, Тихон Киров…
4
В декабре Моте и позвонил тот самый Кока Смирнов.
– Здравствуй, Мотя, – важно сказал Кока.
– Здравствуй, Кока, – ответила Мотя, и хихикнула. Она так живо представила толстенького Коку, поправляющего свои круглые очки, и ведь, верно же, прежде чем позвонить, он непременно репетировал минут сорок, потому что был очень стеснительным.
На том конце провода замолчали.
– Ну же, Кока, что ты хотел мне сообщить? Я слушаю, – Мотя улыбалась, и так вся лучилась хорошим настроением, что Кока почти перестал стесняться, и сообщил, что в городской музей приезжает выставка – Детская Янтарная Комната.
Мотя удивилась, а Кока ответил, что да, существует такая, и если знаменитую Янтарную Комнату так и не нашли, то Детскую Янтарную удалось спасти, потому что она же маленькая, и теперь президент Медведев возит ее по стране, чтобы показать детям. Еще обещали привезти Доспех цесаревича Алексея, его же кукольный театр Гиньоль, а следующей зимой – Детский Ледяной дом Анны Иоанновны. Доспех цесаревича Мотя уже видела, когда ездила к тёте в Златоуст, кукольный театр ее не интересовал, а до следующей зимы было далеко, поэтому не слышала, что там говорил Кока, а представила президента Медведева, которого Путин запер в Спасской башне, чтобы он держал руками стрелки курантов, дабы устранить бардак со Съеденным временем, который начался еще во времена СССР, когда шахтеры Кузбасса что-то там колдовали с календарем, чтобы приблизить Новый год. Медведев пытался спасти положение, меняя часовые пояса, но ничего не получилось. Тогда Спасскую башню обшили досками, будто для ремонта, а на самом деле там прикованный цепью к самым главным государственным часам Медведев сжимал стрелки курантов руками так, что из-под ногтей текла кровь. Говорят, когда становилось невмоготу, Медведев танцевал там под песню "Одинокий парень", он смотрел на часы, и напевал:
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
I'm a lonely boy
I'm a lonely boy
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Она потом долго была самой модной на дискотеках, и все танцевали ее, как Медведев, поглядывая на часы....
– Мотя? Ты меня не слушаешь? – обиженно сказал Кока.
– Слушаю, Кокочка. Ты говорил о Детской Янтарной Комнате.
– Да, так вот. Я тут кое-что почитал и понял, что в этой комнате можно найти оч-чень интересную вещь…, – Кока выдержал паузу.
– Какую же?
– Детскую Либерею Ивана Грозного!
– То есть, ты хочешь сказать, что кроме детской янтарной комнаты существует еще и детская библиотека Ивана Грозного?
– Да! Ведь все делалось всегда в двух экземплярах – оригинал и уменьшенная детская копия, чтобы с детства готовить наследников к… в общем, готовить.– Ахха. И что ты предлагаешь?
Кока ответил, что можно спрятаться в музее, и ночью поискать в Янтарной Комнате библиотеку. Особо никакой охраны не было – вечером, в половину пятого придет уборщица тетя Клава, а в пять музей уже будет закрыт, так что у них в распоряжении будет вечер и вся ночь, потому что из музея все равно не выйти. А утром можно улучить момент, пока никто не видит, и прикинуться ранними посетителями. Спрятаться, конечно же, лучше всего в самой Янтарной Комнате. Осталось только придумать причину не ночевать дома, но Кока сказал, что для него это не проблема, потому что у родителей опять это. Мотя знала, о чем говорит Кока – у его родителей было два состояния – запой и хождение в церковь. Правда, между этими двумя состояниями еще был период ремиссии, недели две-три, когда родители Коки были вполне себе родителями, заботливыми и внимательными. Мотя узнала об этом давно, еще в первом классе, когда Кока на уроке, посвященным семейным традициям, смущаясь, сказал, что у них в семье традиция – в хлам. Брови учительницы поползли вверх, и только потом до всех дошло, что картавящий Кока произнес: «в храм», имея в виду семейные походы в церковь, хотя и в своей логопедической оплошности был не так далек от истины. Семья после потери взрослыми постоянной работы жила случайными заработками и пенсией, получаемой на старшего сына-инвалида. В хлам – ремиссия – в храм.
Мотя сказала, что папа опять в командировке, а уйти от присмотра бабушек можно будет, если позвать к себе ночевать Нюру Одинцову, а потом взять ее с собой в музей; Кока знал, что девочки были подругами, и был не против компании Нюры. На том и договорились.
Мотя позвонила Нюре, и сообщила о плане Коки. Обстоятельная Нюра согласилась идти в музей, но спросила, зачем Коке детская Либерея, и почему она должна быть именно в Янтарной Комнате.
– Это же не важно, Нюра! – сказала Мотя, – главное – приключение! А Кока просто любит читать, ты же знаешь.
Вечером все трое собрались в музее. Янтарная Комната сверкающим новогодним ящичком стояла посреди музейного зала. Когда хоровод первоклассников, скакавших вокруг Янтарной Комнаты, как Ганзель и Гретель вокруг пряничного домика, норовивших если не отщипнуть, то хотя бы лизнуть блещущее медом чудо, струйкой вытек в коридор, а директор музея пошла их провожать, троица забралась в тесное янтарное пространство и затихла. Слышно было, как директор заперла сейф, как гремела ведром уборщица, как по радио Газманов пел суру «Мчащиеся»:
В знак Моего знаменья – скакуны,
Что мчатся, и, от бега задыхаясь,
Бьют искрами из-под копыт,
И атакуют на заре,
И пыль взметают в облака,
И в стан врага врываются всей массой…
Проголодавшийся Кока развлекал девочек, жутким шепотом рассказывая про то, как осажденные в 1612 в Москве голодные поляки сварили и съели кожаные фолианты Либереи Грозного, а Янтарную комнату с подачи Вилли Цауга немцы после операции «Возмездие» в Кенигсберге перегнали в сукцинат, соль янтарной кислоты, и сожрали его как тонизирующий препарат. Мотя тоже начала поглядывать на горящие медом стены, и тогда Нюра молча вытащила из своего пакета три пирожка с картошкой.
Когда все стихло, Кока вынул из кармана фонарик, и начал медленно водить его лучом по стенам Комнаты. Комната текла медом, липовым, гречишным, падиевым… и вдруг мелькнула слабая зеленоватая точка. Кока поднес фонарик ближе, и девочки увидели застывшего в куске янтаря червячка, отвечавшего лучу фонаря изумрудным свечением.
– Это Иванов червячок, Lampyris noctiluca, – сказал Кока, – символ книжного червя, несущего свет знаний. Закройте глаза, девочки – все, кто близко подходил к Либерее – теряли зрение.
Девочки послушались, и Кока надавил на кусок янтаря с червячком.
Было слышно только жаркое дыхание Коки, деревянный стук упавшего янтаря и шуршание. «Вот, я не ослеп», – сказал Кока, девочки открыли глаза и увидели, что он держит в руках золотую пластину размером в две ладони, завернутую в кусок пергамента, и две тонкие книжки. В свете фонаря они разглядели, что книги называются «Юности честное зерцало» и «Предсказания иеромонаха Авеля», на пергаменте, в который завернута пластина, что-то написано по-церковнославянски, а на самой пластине были видны иероглифы, похожие на египетские, и тоненькие дырочки, словно простроченные бабушкиным «Зингером».
Когда они выбрались из Янтарной комнаты, Кока сказал разочарованно: «Слабенький результат, я думал, там что-то интересное будет…», взял протянутый Нюрой пирожок и уселся прямо на входе в Комнату.
– А что ты хотел там найти? – спросила Мотя, тоже получившая пирожок, и устроившаяся на чучеле косули, пахнувшем мышами и пылью, – комикс по Книге Дзиан? перевод рукописи Войнича? Это же Детгиз, скажи спасибо, что книга Авеля не набрана большими буквами для четырехлеток, и туда картинок не понапихано. А в «Зерцало» не вшиты грампластинки, как в журнале «Колобок».
– Не знаю, – сказал Кока, – «Книгу излечений», или беседы Джона Ди с духами. «Стеганографию» Тритемия…
– Давайте спать, ребята, – зевнула свернувшаяся калачиком в подвешенной к потолку люльке Нюра, – завтра вставать рано.
– Давайте, – согласилась Мотя, – завтра нас ждут три конкретных сурка: Past, Present и Future.
Утром они подскочили по звонку предусмотрительно заведенного Кокой будильника, наскоро умылись над ведром, утерлись носовыми платками и аккуратно изобразили ранних посетителей, объяснив директору музея, что пишут статью о Янтарной Комнате в школьную газету. Немного побродив по залу для достоверности, они помчались в школу, и все равно, конечно же, опоздали не только на политинформацию, но и к первому уроку.
Мечетта никакой урыс сюзе булмасэн – со смешанного татарского-русского эту фразу можно перевести как "В мечети не должно быть ничего русского".
Кроме этого, служил в продотрядах, участвовал в военном походе на Бухару. По личной рекомендации Фрунзе перевелся в Военно-медицинскую академию Петрограда.
После академии демобилизовался по состоянию здоровья и был избран членом Президиума Бухарского исполкома, а затем членом ЦИК Узбекистана. Одновременно проходил интернатуру на медицинском факультете и экстерном закончил физико-математический факультет.
Был зачислен ассистентом, а затем исполняющим обязанности ученого секретаря в Отдел экспериментальной биологии при Институте экспериментальной медицины (ВИЭМ), где занялся исследованием УКВ с целью создания нового оружия, погружающего врагов в сон или вызывающего состояние острого умопомешательства.
Для разработок этого оружия бюджет института был увеличен с 20 до 65 млн. рублей, кроме того, наркому внутренних дел Г. Ягоде, входившему в Комитет содействия ВИЭМ, было приказано начать строительство специальной лаборатории, для чего были так же отпущены средства НКВД.
Помимо спецлаборатории Календаров возглавил Отдел колебательной физики и биологии, и технической реконструкции советской медицины. При этом Ученый совет ВИЭМ не имел возможности проверить, чем занимается Календаров, поскольку его работы шли под грифом повышенной секретности, зато сам он был полностью в курсе исследований, проводившихся в институте, и умело пользовался чужими идеями и результатами. Эксперименты по изучению влияния УКВ на человека Календаров проводил на себе.
21 сентября 1937 года Календарова арестовали по обвинению в участии в антисоветской организации, якобы созданной Ягодой и Запорожцем. Календаров настаивал, что его отношения с указанными лицами носили чисто служебный характер, а отсутствие результатов в исследованиях объяснял недостаточной технической оснащенностью лаборатории.
На всех допросах Календаров утверждал, что действовал в интересах страны и лично товарища Сталина.
После передачи материалов прокурору дело решили прекратить за недостаточностью улик, и 29 декабря 1939 года Календаров покинул тюрьму.
Работал в московском Институте теоретической геофизики как специалист по физике, затем затем стал директором Института физиотерапии. Во время войны служил в госпиталях. После демобилизации переквалифицировался в патофизиолога, переходил с одного места на другое, нигде не задерживаясь больше чем на год. Что с ним стало дальше – неизвестно.