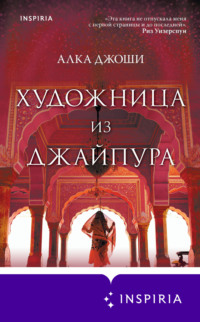Kitobni o'qish: «Художница из Джайпура»
Моей матери, Судхе Латике Джоши, защищавшей мою самостоятельность
Моему отцу, Рамешу Чандре Джоши, который пел мне самую дивную колыбельную
Путник должен стучать в каждую чужую дверь, дабы найти свою, должен странствовать по всем мирам, чтобы в конце концов достигнуть сокровеннейшего алтаря.
Рабиндранат Тагор «Гитанджали» («Жертвенные песнопения»)1
Когда богиня благополучия приходит тебя благословить, не следует выходить из комнаты, чтобы умыть лицо.
Индийская пословица
Персонажи, которые встречаются на страницах книги
Лакшми Шастри: 30-летняя мастерица мехенди, живет в Джайпуре.
Радха: 13-летняя сестра Лакшми, родилась уже после того, как Лакшми сбежала из деревни.
Малик: слуга Лакшми, мальчик лет 7–8 (сам не знает точно), живет в людном Внутреннем городе с родственницами-мусульманками – тетушкой и кузинами.
Парвати Сингх: 35-летняя матрона из высшего света, жена Самира Сингха, мать Рави и Говинда Сингхов, дальняя родственница королевской семьи Джайпура.
Самир Сингх: знаменитый архитектор из семейства, принадлежащего к высокой касте раджпутов, муж Парвати Сингх, отец Рави и Говинда Сингхов.
Рави Сингх: 17-летний сын Парвати и Самира Сингхов, учится в частной школе-пансионе для мальчиков Мейо-Колледж (в нескольких часах езды от Джайпура).
Лала: старая дева, много лет служит Сингхам.
Шила Шарма: 15-летняя дочь мистера и миссис В. М. Шарма, состоятельной четы брахманов незнатного рода.
Мистер В. М. Шарма: официальный застройщик королевской семьи Джайпура, муж миссис Шармы, отец четверых детей (младшая дочь – Шила Шарма).
Джей Кумар: холостяк, приятель Самира Сингха по Оксфорду, работает врачом в Шимле (у подножия Гималаев, в 11 часах езды от Джайпура).
Миссис Айенгар: квартирная хозяйка Лакшми в Джайпуре.
Мистер Панди: сосед Лакшми, жилец миссис Айенгар, дает уроки музыки Шиле Шарме.
Хари Шастри: бывший муж Лакшми.
Саас: в переводе с хинди – «свекровь». Когда Лакшми говорит «моя саас», она имеет в виду мать Хари. «Саасуджи» – уважительное обращение к свекрови.
Миссис Джойс Харрис: молодая англичанка, жена британского офицера, который служит в Джайпуре в составе группы по передаче дел периода британского господства.
Миссис Джереми Харрис: свекровь Джойс Харрис.
Питаджи: отец (хинди)
Маа: мать (хинди)
Манчи: деревенский старик, который научил Лакшми рисовать, а Радху – смешивать краски.
Канта Агарвал: 26-летняя жена Ману Агарвала, училась в Англии, родом из образованной калькуттской семьи.
Ману Агарвал: руководитель хозяйственной службы дворца королевской семьи Джайпура, муж Канты, учился в Англии, родственник семейства Шарма.
Баджу: старик-слуга Ману и Канты Агарвалов.
Махараджа Джайпура: номинальный правитель Джайпура в период после обретения независимости, высший представитель королевской семьи в городе, владелец несметных земельных и денежных богатств, а также множества дворцов.
Нарайя: строитель нового дома Лакшми в Джайпуре.
Махарани Индира: бездетная мачеха махараджи, супруга покойного махараджи Джайпура (она же «вдовствующая королева»).
Махарани Латика: жена теперешнего махараджи, 31 год, училась в Швейцарии.
Мадхо Сингх: попугай махарани Индиры.
Гита: вдова, любовница Самира Сингха.
Миссис Патель: постоянная клиентка Лакшми, хозяйка гостиницы.
Словарь терминов на французском, английском и хинди см. в конце книги.

Пролог
Аджар, штат Уттар-Прадеш, Индия Сентябрь 1955 года
Она неслышно ступает по берегу реки, огрубевшие подошвы не чувствуют ни мелких камешков, ни запекшейся грязи. На голове она держитмутки, глиняный кувшин, в котором каждый день носит воду из колодца. Но сегодня в кувшине не вода, а все ее пожитки: вторая юбка, рубашка, подвенечное сари матери, «Сказки про Кришну», которые читал ей отец – страницы от времени стали мягче шелка, – и письмо, что утром пришло из Джайпура.
Заслышав вдали женские голоса, она в нерешительности замедляет шаг. Деревенские сплетницы стирают сари, рубахи, юбки,дхоти, болтают, рассказывают небылицы, смеются. Но как только заметят ее, тут же оставят работу, вытаращатся, а то и сплюнут – господи, спаси нас от проклятья! Она вспоминает о письме, которое лежит в мутки, и думает: ну и пусть, всё равно это последний раз.
Вчера эти женщины донимали деревенского старосту: почему девчонка-проклятье все еще живет в учительском доме, там должен жить новый учитель. Она сидела в глинобитных стенах и боялась пикнуть – не ровен час, зайдут и за волосы вытащат ее на улицу. Ведь теперь ее некому защитить. Труп ее матери на прошлой неделе сожгли вместе с падалью – погребальный костер бедняков. Отец, бывший школьный учитель, ушел от них полгода назад и вскоре утонул в луже на берегу реки: он был так пьян, что, наверное, даже не почувствовал жала смерти2.
Всю прошлую неделю девочка караулила на окраине деревни почтальона, который время от времени приезжал к ним на велосипеде из соседней деревни. Сегодня утром, едва завидев его, она выскочила из укрытия, перепугав почтальона, и спросила, нет ли писем. Он нахмурился, закусил губу и уставился на нее слезящимися глазами сквозь толстые стекла очков. Она видела, что ему и жаль ее, и досадно: ведь всю почту обычно получает староста. Но она не отвела взгляд. В конце концов он торопливо сунул ей желтоватый пухлый конверт, адресованный ее родителям, и укатил прочь.
Сейчас она выпрямилась, расправила плечи и прошла мимо женщин у реки. Они глазели на нее. Она чувствовала, как трепещет сердце, но шагала прямая, как тростинка, смутки на голове, словно направлялась к крестьянскому колодцу в двух милях от деревни – единственному, из которого ей дозволялось брать воду.
Сплетницы уже не шепчутся, а перекрикиваются:
– Вот идет девчонка-проклятье! В год, когда она родилась, саранча погубила пшеницу! Ее старшая сестра сбежала от мужа, и больше ее не видели! Бесстыжая! В тот же год ее мать ослепла! А отец пристрастился к бутылке! Позор! Она даже выглядит подозрительно. Голубые глаза бывают только у ангрежи-валли. Может, она вообще не отсюда? Не из нашей деревни?
Девочка часто думала о старшей сестре, о которой болтают женщины. Той самой, чье лицо мерещится ей тенью во сне, о чьем существовании ее родители предпочли позабыть. Сплетницы утверждают, что она покинула деревню тринадцать лет назад. Почему? Куда она пошла? Как ей удалось сбежать оттуда, где следят за каждым твоим шагом? Быть может, она улизнула ночью, когда спят даже козы и коровы? Говорят, она украла чьи-то деньги, но ни у кого в деревне денег нет. Чем же она кормилась? Еще говорят, она переоделась в мужское платье, чтобы по пути не задержали. Другие уверяют, что она сбежала с цирковым мальчишкой и стала танцовщицей в увеселительном квартале Агры.
Три дня назад колченогий старик по имени Манчи, единственный ее друг, предупредил, что если она не уйдет из дома, староста выдаст ее за вдовца или выгонит из деревни.
– Нечего тебе здесь делать, – сказал Манчи-джи.
Но куда пойдет она, тринадцатилетняя сирота без денег и родных?
– Ничего не бойся,бети, – добавил Манчи-джи и посоветовал отыскать зятя, мужа старшей сестры, от которого та сбежала: он живет в соседней деревне. Возможно, он поможет ей найти сестру.
– Но почему мне нельзя остаться с тобой? – спросила она старика.
– Негоже это, – мягко ответил он.
Старик зарабатывал тем, что разрисовывал на продажу сухие листья дерева бодхи. И сейчас в утешение протянул ей такую картинку. От злости она едва не швырнула подарок ему в лицо, но увидела, что на рисунке бог Кришна кормит манго свою супругу, Радху, в честь которой ее назвали. Прекраснее подарка она в жизни не получала.
Возле гумна Радха замедляет шаги. Четыре вола бредут под ярмом вокруг большого плоского камня, мелют пшеницу. Прем, который должен смотреть за волами, дремлет, привалившись к стене хижины. Она неслышно юркает мимо него к узкой тропинке, что ведет к храму Ганеши-джи. Там в высоком святилище стоит статуя Ганеши. К ногам слоновьего бога возложены дары: неспелый кокос, бархатцы, горшочек масла ги, дольки манго. Над сандаловыми благовониями вьется ленивый дымок.
Девочка кладет Кришну, нарисованного Манчи-джи, перед Ганешей-джи, устраняющим препятствия, и молит его рассеять недобрую славу девчонки-проклятья.
До деревни, где живет зять, она добирается к вечеру: солнце клонится к горизонту. Девочка прошагала десять миль и обливается потом, ноги по щиколотку в пыли, во рту пересохло.
Она с опаской входит в деревню. Прячется за деревьями и кустами. Она знает, что девочку, которая идет одна, всюду подстерегает опасность. Она ищет мужчину, которого описал Манчи-джи.
И видит его. Вот он. Сидит на корточках под баньяном, лицом к ней. Ее зять.
У него густые, жирные, иссиня-черные волосы. От нижней губы к подбородку змеится выпуклый шрам. Мужчина уже немолод, но еще и не стар. Рубашка в пятнах карри, дхоти в пыли.
Тут она замечает, что на корточках перед ним сидит женщина, одной рукой поддерживая под локоть другую, которая висит, как неживая. Голова женщины прикрытапаллу. Женщина что-то шепчет мужчине. Наверное, зять снова женился, думает Радха.
Она подбирает с земли камешек, бросает в мужчину, но камешек летит мимо. Со второй попытки попадает мужчине в бедро, но он лишь отмахивается, точно от насекомого. Он внимательно слушает, что говорит женщина. Радха снова и снова швыряет в него камешки, иногда попадает в цель. Наконец он оборачивается.
Радха выходит на опушку, чтобы он ее увидел.
Он округляет глаза, точно увидел призрака, и спрашивает:
– Лакшми?
Часть первая

Один
Джайпур, штат Раджастан, Индия 15 ноября 1955 года
Независимость изменила всё. Независимость не изменила ничего. Англичане ушли восемь лет назад, теперь у нас есть бесплатные государственные школы, водопровод и мощеные дороги. А мне кажется, Джайпур тот же, что и десять лет назад, когда я впервые ступила на его пыльные улочки. Тем утром, по дороге к первой за день клиентке, мы с Маликом едва не столкнулись с мужчиной, который нес на голове мешки с цементом, но тут между нами промчался велосипедист с шестифутовой стремянкой под мышкой. Из-за него проезжающая мимо конная повозка задела свинью, и та с визгом ринулась в переулок. Чуть погодя мы уступили дорогу шумной компаниихиджр. Разряженные в сари мужчины с накрашенными губами плясали и пели перед домом, где недавно родился мальчик. Мы так привыкли к запахам города – коровьи лепешки, дым очагов, кокосовое масло для волос, сандаловые благовония, моча, – что практически их не замечали.
Независимость изменила только одно: людей. Теперь они держались иначе, гордо выпячивали грудь, словно наконец разрешили себе дышать. Они и ходили иначе – стремительно, важно – направляясь в храмы. И с лавочниками на базаре торговались по-новому, гораздо нахальнее.
Малик свистом подозвалтонгу. Не перестаю удивляться: мелкий, тощий, как тростинка, а свистит так, что слышно в Бомбее. Он взвалил наши тяжелые судки с едой на повозку, и тонга-валла с большой неохотой отвез нас за пять коротких кварталов к особняку Сингхов. Привратник смотрел, как мы вылезаем из тонги.
До независимости большинство джайпурских семейств ютились в тесных домишках в старом Розовом городе. Сингхи же поколениями обитали в роскошном особняке в предместье. Они принадлежали к правящему классу (раджи, князьки, офицеры) и давно привыкли к привилегиям – и до, и во время, и даже после британского владычества. Особняк Сингхов располагался на широком бульваре, усаженном деревьями бодхи. Восьмифутовые стены, утыканные осколками стекла, скрывали от глаз двухэтажное здание. Над тянувшимися вдоль обоих этажей мраморными верандами густо росли бугенвиллеи и жасмин, и в знойные летние дни, когда в Джайпуре было жарко, как в тандыре, здесь всегда царила прохлада.
Убедившись, чточокидар Сингхов видел, как мы прибыли, мы выгрузили из повозки наши судки. Малик остался сплетничать с привратником, я же направилась по мощеной дорожке, по бокам которой тянулись аккуратно подстриженные лужайки, прямиком на веранду, куда вела каменная лестница.
Стояло промозглое ноябрьское утро. У дверей меня приветствовала старинная служанка Парвати Сингх, Лала, которая некогда нянчила ее сыновей. В знак уважения Лала прикрыла голову сари.
Я с улыбкой сложила руки внамасте.
– Ну что, Лала, пользуешься магнолиевым маслом?
В прошлый визит я сунула ей бутылочку своего снадобья от мозолей.
Лала улыбнулась, но тут же прикрыла улыбкупаллу, выставила вперед босую ногу, согнула в колене и повернулась, демонстрируя, какие гладкие теперь ступни.
–Хан-джи, – негромко рассмеялась она.
–Шабаш, – похвалила я. – Как поживает твоя племянница?
Полгода назад Лала устроила пятнадцатилетнюю племянницу служанкой к Сингхам.
Старуха нахмурилась, открыла было рот, чтобы ответить, но из дома донесся крик ее госпожи: «Лакшми, это ты?»
Лала растянула губы в улыбке, кивнула – дескать, у племянницы всё хорошо, – и ушла в кухню. А я отправилась в спальню Парвати – я бывала там много раз и прекрасно знала, куда идти.
Парвати сидела за палисандровым столиком. Взглянув на золотые часы на запястье, она продолжала писать письмо. Парвати отличалась пунктуальностью и не любила, когда опаздывают. Впрочем, мне не раз приходилось дожидаться, пока она нацарапает записку к Неру3-джи или закончит телефонный разговор с членом Индо-Советской лиги.
Я поставила судки на пол и принялась укладывать подушки на обтянутой кремовым шелком оттоманке, Парвати же тем временем запечатала письмо и кликнула Лалу.
Но пришла не старуха, а ее племянница и встала в дверях, потупясь и сцепив руки в замок.
Парвати хмуро оглядела девушку и, помолчав, сказала:
– К обеду будут гости. Приготовь намбунди райта4.
Девушка побледнела – того и гляди, хлопнется в обморок.
– Йогурт кончился, мемсагиб.
– И что с того?
Служанка неловко переступила с ноги на ногу и в поисках ответа перевела взгляд с турецкого ковра на висящую на стене рамку с фотографией премьер-министра, а с нее на зеркальный шкафчик для спиртного.
– На обед приготовь намбунди райта, – отрезала Парвати.
У девушки задрожали губы. Она умоляюще взглянула на меня.
Я отошла к окнам, которые смотрели на сад позади дома. Парвати была и моя госпожа, и заступиться за девушку я могла не более чем тигровая шкура на стене.
– Да скажи Лале, чтобы сегодня сама подала нам чай, – с этими словами Парвати отпустила девушку и устроилась на оттоманке. Можно было начинать мехенди. Я привычно уселась на другом конце оттоманки и взяла Парвати за руки.
До того как я приехала в Джайпур, мехенди моим госпожам рисовали шудры, женщины из низшей касты. Но они рисовали те же узоры, что когда-то их матери: точки, черточки, треугольники. Этого хватало, чтобы заработать на кусок хлеба. Мои же рисунки были искуснее, они рассказывали истории женщин, которых я обслуживала. Да и паста у меня была лучше и мягче той смеси, которой пользовались шудры. Перед тем как рисовать, я смазывала кожу клиенток лосьоном из лимонного сока с сахаром: тогда узор держался дольше. Чем хна темнее, тем больше женщину любит муж (по крайней мере, так считали мои клиентки), так что мои темно-коричневые рисунки неизменно приводили их в восторг. Постепенно среди моих клиенток распространилось убеждение, будто мои мехенди помогают вернуть непутевого мужа на брачное ложе и выманить младенца из утробы. Благодаря этому я могла называть цену в десять раз выше той, что просили шудры. И получать ее.
Даже Парвати верила, что рождением младшего сына обязана моему мастерству. Она была моей первой клиенткой в Джайпуре. Когда она понесла, страницы моего еженедельника заполнились приглашениями ее знакомок – дам из высшего света.
Оставив хну на руках Парвати высыхать, я принялась за ее ступни, она же наклонилась, чтобы полюбоваться узором. Наши головы почти соприкасались, я чувствовала на щеке ее теплое сладковатое дыхание, отдающее бетелем.
– Ты говоришь, что не бывала за границей, но такие листья инжира я видела только в Стамбуле, – сказала она.
От давнего страха у меня на миг перехватило дыхание. На ногах Парвати я изобразила листья турецкой смоковницы, так не похожей на свою кузину из Раджастана, чьи скудные плоды годятся в пищу разве что птицам. На ступнях я рисовала узор, предназначенный лишь для взора ее супруга – округлые половинки спелого манящего инжира.
Я поймала взгляд Парвати, мягко взяла ее за плечи и с улыбкой уложила обратно на подушки.
– Развеэто заметит ваш муж? – Я приподняла бровь. – То, что инжир турецкий?
Я достала из сумки зеркальце и поднесла к своду правой стопы, чтобы Парвати рассмотрела крохотную осу, которую я нарисовала рядом с инжиром.
– Ваш муж наверняка знает, что каждой смоковнице нужна оса, чтобы опылить ее цветок.
Парвати удивленно вскинула брови и приоткрыла рот, накрашенный темно-сливовой помадой. Оттоманка вздрогнула от ее громкого смеха. Парвати была статная, с красивыми глазами и чувственными губами, верхняя чуть пухлее нижней. Она носила разноцветные сари – сегодня была в шелковом, цвета фуксии: на их фоне ее лицо казалось светлее.
Парвати вытерла слезы краешком сари.
–Шабаш, Лакшми! – сказала она. – В те дни, когда ты рисуешь мне мехенди, Самира так и тянет в мою постель.
В голосе Парвати сквозила нега полудня на прохладных хлопковых простынях, когда к ее бедрам прижимаются теплые бедра мужа.
Усилием воли я отогнала от себя этот образ.
– Так и должно быть, – пробормотала я и продолжила колдовать над сводом ее стопы. У большинства женщин это место очень чувствительно, но Парвати привыкла к движениям моей палочки и ни разу не вздрогнула.
– Значит, листья турецкой смоковницы останутся загадкой, как твои голубые глаза и светлая кожа, – хихикнула Парвати.
Я обслуживаю ее вот уже десять лет, а она никак не успокоится. В Индии у всех глаза черные, как уголь. Голубые требуют объяснения. Я – женщина с темным прошлым? Мой отец – европеец? Или, того хуже, мать – англо-индианка? Мне тридцать лет, я родилась во времена британского владычества и привыкла к тому, что люди судачат о моем происхождении. Но я ни разу не поддалась на подначки Парвати.
Я накрыла мехенди влажным полотенцем, налила в ладони гвоздичного масла, потерла руки, чтобы его согреть, и принялась убирать излишки высохшей пасты с кистей Парвати.
– Считайте,джи, что одну из моих прародительниц соблазнил Марко Поло. Или Александр Македонский. – Я массировала пальцы Парвати, хлопья хны сыпались на полотенце, и постепенно на кистях проступал узор. – Кто знает, быть может, во мне, как и в вас, течет кровь воинов.
– Ох, Лакшми, тебе всё шутки! – Парвати снова расхохоталась, и в ушах ее весело заплясали сережки – золотые колокольчики с жемчужными язычками. Обе мы принадлежали к высшим кастам: я – к брахманам, Парвати – к кшатриям, но она не видела и никогда не увидит во мне ровню, поскольку я, рисуя мехенди, прикасаюсь к чужим ступням, то есть занимаюсь грязным делом, которое приличествует только шудрам. И хотя брахманы веками учили детей кшатриев и отправляли религиозные ритуалы, в глазах элиты Джайпура я опозорила свою касту.
Но женщины вроде Парвати щедро платят. А потому, не обращая внимания на ее язвительные замечания, я убирала остатки пасты с ее кистей. За эти годы мне удалось скопить немало денег, и я была как никогда близка к осуществлению мечты о собственном доме. Его мраморные полы будут приятно холодить мои ноги после целого дня беготни по городу. Еще в нем будет водопровод, и мне больше не придется упрашивать хозяйку налить воды вмутки. И ключ от дверей будет только у меня. Из этого дома меня никто никогда не выгонит. В пятнадцать лет меня силой выдали замуж в другую деревню: родители посчитали, что дольше не в состоянии меня прокормить. Теперь я сама их прокормлю и позабочусь о них. Все эти годы я посылала им деньги, писала письма, они не ответили ни на одно, но ведь наверняка они передумают, когда я перевезу их в Джайпур, в мой собственный дом? И тогда родители поймут, что моя жизнь удалась. А до нашей встречи я гордость попридержу. Как говорил Ганди-джи, «око за око – весь мир ослепнет».
Послышался звон разбитого стекла, и мы вздрогнули. По ковру прокатился крикетный мяч и замер подле оттоманки. В следующий миг с веранды в комнату вошел Рави, старший сын Парвати, и в открытую дверь потянуло ноябрьским холодом.
–Бета! Немедленно закрой дверь!
Рави ухмыльнулся.
– Говинд прозевал мою подачу. – Он заметил мяч у дивана, подошел и поднял его.
– Он же намного младше тебя.
Парвати во всем потакала сыновьям, особенно младшему, Говинду, рождением которого она, по ее убеждению, была обязана моему мастерству (впрочем, я ее не разубеждала).
С тех пор как я в прошлый раз видела Рави, он очень вытянулся, раздался в плечах. Квадратный подбородок – точь-в-точь как у отца – оттеняла щетина: он уже начал бриться. Румяный, с длинными, как у матери, ресницами, он, пожалуй, мог считаться красавцем.
Рави подбросил мяч, одной рукой поймал его за спиной.
– Чай есть? – поинтересовался он с отцовскими интонациями: тот же выговор ученика частной английской школы.
Парвати позвонила в серебряный колокольчик, который держала возле оттоманки.
– Вы с Говиндом попьете чаю на улице. И скажичокидару, чтобы вызвал стекольщика-валлу.
Рави улыбнулся, подмигнул мне и вышел, так хлопнув дверью, что из нее выпал очередной осколок стекла. Он грациозно пробежал по лужайке. Три садовника, обернув головы шарфами, пропалывали, поливали, подстригали кусты гибискуса и каприфоли.
Появление Рави послужило прекрасным предлогом якобы невзначай упомянуть о том, ради чего я пришла. Однако действовать следовало осторожно.
– Приехал из пансиона?
–Хан. Я попросила Рави помочь мне перерезать ленточку на открытии нового джимхана. Ты же знаешь Неру-джи – как он старается модернизировать Индию. – Она со вздохом откинула голову на подушки, словно премьер-министр каждый день осаждает ее звонками. Насколько мне известно, так и было.
Лала внесла серебряный поднос с чаем. Я принялась доставать из судков угощение, которое приготовила специально для Парвати, и услышала, как она укоряет старуху:
– Разве я не говорила отослать ее прочь?
Служанка молитвенно сложила руки, прикоснулась к губам.
– Моей племяннице некуда пойти. Кроме меня, у нее никого не осталось. Пожалуйста,джи. Мы в вашей власти. Быть может, вы передумаете?
Никогда я не видела Лалу в таком отчаянии. Я отвернулась, опасаясь, что служанка вот-вот упадет на колени. На столике у кровати с балдахином было устроено святилище Ганеши. Статуэтку украшал венок из гардений и еще один, из листьевтуласи; у ног ее горела дия. Парвати называла себя «современной», но каждое утро молилась. Я и сама раньше молилась Лакшми, в честь которой меня назвали, богине красоты и достатка. Маа частенько рассказывала мне историю о крестьянине-брахмане, который пожертвовал богине косу – всё, что у него было, а Лакшми в благодарность даровала ему волшебную корзину, в которой, стоило ему захотеть, появлялась пища. Но это всего лишь сказка, как и прочие мамины истории; в семнадцать лет я отвернулась от богов, точь-в-точь как сейчас от святилища Ганеши.
– Мне будет жаль с тобой расстаться, Лала, – сказала Парвати. – Сегодня же прогони девчонку. – И она так сердито взглянула на служанку, что та потупилась, понурила плечи и поплелась прочь.
Я проводила Лалу глазами. Она даже не обернулась. Чем ее племянница так разгневала госпожу?
Парвати взяла с подноса чашку с блюдцем – знак, что мне тоже можно выпить чаю. Сервиз был в английском вкусе: леди в корсетах, джентльмены в панталонах, кудрявые девушки в длинных платьях. До независимости такие вещи символизировали любовь к Британии. Теперь же выражали презрение. У моих клиенток не изменилось ничего, кроме поводов для притворства. Если я чему и научилась у них, так тому, что только дурак, живя в воде, враждует с крокодилом.
Я отпила глоток чаю и приподняла брови.
– Ваш сын совсем мужчина, и такой красавец!
– Не то что сынок Рао, который считает себя главнымдевдасом Раджастана.
Парвати, как и все мои клиентки, говорила мне такое, чего никогда не сказала бы ровне. Детей у меня не было, и клиентки меня жалели, хоть и с оттенком превосходства. Мне было тридцать, я не юная дурочка и не болтливая матрона. Клиентки полагали, что муж от меня ушел; я не разубеждала их. На лбу у меня по-прежнему алелабинди5, сообщая всему свету, что я замужем. Без этой своеобразной верительной грамоты мне не удалось бы войти ни в доверие к клиенткам, ни в спальни наподобие той, где я была сейчас – с полом из розового салумбарского мрамора и палисандровой оттоманкой, на которой восседала моя госпожа.
Я сделала еще глоток.
– Непросто найти идеальную пару такому идеальному сыну! Не завидую я вам.
– Ему всего семнадцать. В двенадцать он оставил меня, уехал в Мейо-Колледж. Через год он снова меня оставит: уедет в Оксфорд. И пока я даже думать не хочу о том, что он оставит меня ради жены.
Я поправила сари.
– Вы поступаете дальновидно. А вот Датты, по-моему, поспешили.
Глаза ее блеснули.
– В смысле?
– Они устроили помолвку сына с дочерью Кумаров. Да вы ее знаете – такая, с родинкой на щеке. Разумеется, свадьба состоится лишь после того, как он кончит курс. – Я посмотрела в окно на ее сыновей в белых костюмах для крикета. – Хороших разбирают как горячуюджалеби. Родители боятся, что сын уедет учиться в Америку или Англию и вернется с женой, которая ни слова не знает на хинди.
– И правильно. Самые счастливые браки – когда невесту выбирают родители. Взять хотя бы нас с Самиром.
Мне было что возразить, но я удержалась и притворно подула на чай.
– Я слышала, дочь Акбаров обещали за сына Мухаммада Исмаила. Кажется, он одноклассник Рави?
Я отхлебнула глоток и посмотрела на Парвати.
Та выпрямилась, взглянула в окно. Племянница Лалы принесла мальчикам чай. Рави о чем-то разговорился с девушкой и даже игриво щелкнул ее по носу, отчего та захихикала.
Парвати нахмурилась и, не сводя глаз с сыновей, потянулась ко мне, как птенец: покорми. Я сунула ей в ротнамкин с петрушкой, который приготовила утром. Парвати, как и все мои клиентки, даже не подозревала, что ингредиенты, которые я кладу в свои угощения и которыми рисую узоры на их руках и ногах, распаляют ее желание и похоть ее супруга.
Парвати отвернулась от окна, аккуратно поставила чашку на поднос.
– Если бы я искала сыну невесту – я не говорю, что собираюсь… – Она вытерла губы салфеткой. – Нет ли у тебя кого на примете?
– Сами знаете, в Джайпуре много достойных девиц. – Я улыбнулась ей и поднесла чашку к губам. – Но ведь Рави – мальчик особенный.
Парвати снова посмотрела на сыновей. Племянница Лалы ушла, и Парвати успокоилась.
– Когда я прошу Рави приехать домой из колледжа, он всегда соглашается. Самир сердится: зачем мы тогда вообще посылали его учиться. – Она усмехнулась. – Но я так по нему скучаю. И Говинд тоже. Ему было всего три года, когда Рави уехал учиться.
Она взяла чайник и налила себе еще чаю.
– Знаешь дочку Рая Сингха? Говорят, прехорошенькая.
– К сожалению, ее только вчера сговорили за сына миссис Ратор. – Я вздохнула. Тема была деликатная, и ни я, ни Парвати не собирались раньше времени раскрывать свои карты.
Прищурясь, она взглянула на меня:
– Сдается мне, у тебя есть кто-то на примете.
– Боюсь, мой вариант вам не понравится.
– Это еще почему?
– Ну… пожалуй, он нетрадиционный.
– Нетрадиционный? Лакшми, ты меня отлично знаешь. В прошлом году я была в Советском Союзе – и не один, а два раза. Неру-джи уговорил меня поехать с делегацией Индо-Советской лиги. Давай же, говори.
– В общем… – Я принялась с преувеличенным рвением убирать выбившуюся прядь волос в пучок на затылке. – Девушка не из раджпутов.
Парвати приподняла выщипанную бровь, но не отвернулась. Я тоже не отвела глаза.
– Она из брахманов.
Парвати моргнула. Какой бы современной она себя ни считала, Парвати и подумать не могла, что Рави возьмет жену из другой касты. Представители каждой из четырех индийских каст столетиями женились исключительно на своих, даже вайшьи и шудры.
Я сунула ей в рот очереднойнамкин.
– Лучшей партии для Сингхов нельзя и представить, – продолжала я. – Девушка красивая. Воспитанная. Образованная. Веселая. Рави явно понравится. У ее родителей большие связи. Ваш чай не остыл? Мой остыл.
– Мы ее знаем?
– С самого детства. Давайте я попрошу принести еще чаю? – Я поставила чашку и потянулась к серебряному колокольчику, но Парвати перехватила мою руку.
– Забудь ты о чае, Лакшми! Расскажи мне о девушке, или я вытру ногу о полотенце, и час твоей работы пропадет зря.
Не поднимая глаз, я потрогала пальцем ее ступню – проверила, высох ли узор.
– Это Шила Шарма, дочь мистера В. М. Шармы.
Разумеется, Парвати была знакома с супругами Шарма. Оба семейства вращались в одних и тех же деловых кругах. Строительная компания мистера Шармы, крупнейшая в Раджастане, недавно получила от махараджи заказ на переустройство его дворца Рамбагх. Муж Парвати владел архитектурным бюро, которое спроектировало массу здешних жилых и деловых зданий. Это будет неожиданный союз двух знатных семейств. И если мне удастся устроить этот брак, я буду нарасхват у элиты Джайпура в качестве свахи, а это куда выгоднее, чем рисовать мехенди.
Парвати наклонила голову набок.
– Но ведь… Шила еще ребенок.
За последний год Шила изрядно пополнела на рисовых пудингах и лишних порцияхчапатис маслом ги и выглядела уже не девочкой, а юной женщиной.
– Ей пятнадцать лет, – сказала я. – И она очень симпатичная. Учится в школе для девочек, которую открыла махарани. На прошлой неделе учитель музыки сказал, что Шила поет точь-в-точь как Лата Мангешкар6.
Я взяла чашку. Наверняка сейчас Парвати мысленно подсчитывает плюсы и минусы, совсем как я на прошлой неделе. Плюсы: если объединить обе компании – строительную фирму Шармы и архитектурное бюро Сингха, – они станут приносить куда больше прибыли, чем по отдельности; вдобавок Парвати получит невестку, которая знает английский и сумеет занять разговором политиков и набобов. Единственный минус – Шила из другой касты, пусть и высшей. Были и другие подвохи, о которых я не обмолвлюсь Парвати: как Шила, безобразно скривив губы, дергает кузину за косички, как командует нянькой, как приводит в отчаяние учителя музыки своей ленью. Я обслуживала клиенток годами и наблюдала, как растут их дети. Я лучше всякой профессиональной свахи представляла, у кого какой характер и причуды. Но об этих ее недостатках муж узнает самостоятельно, а я пока помолчу.
Парвати задумчиво теребила бахрому на подушке.