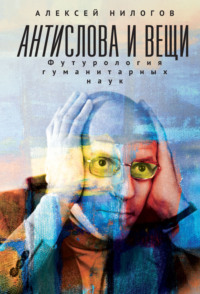Kitobni o'qish: «Антислова и вещи. Футурология гуманитарных наук»
Антисловие от Мишеля Фуко
Знак не ожидает пассивно прихода того, кто может его познать: он всегда конституируется только посредством акта познания1.
Знание не должно больше заниматься раскопками древнего Слова в тех неизвестных местах, где оно может скрываться; теперь оно должно изготовлять язык, который, чтобы быть добротным, то есть анализирующим и комбинирующим, должен быть действительно языком исчислений2.
Для языка в классическую эпоху характерно одновременно господствующее и незаметное положение.
Господствующее постольку, поскольку слова получили задачу и возможность «представлять мысль». Но в данном случае представлять не означает выражать, давая чёткий перевод, изготовлять какой–то дубликат, который в своих внешних формах мог бы в точности воспроизвести мысль. Представление надо понимать в узком смысле слова: язык представляет мысль так, как мысль представляет себя сама. Для того чтобы образовать язык или вдохнуть в него жизнь изнутри, требуется не существенный и изначальный акт обозначения, а только существующая в сердцевине представления присущая ему способность представлять самого себя, то есть анализировать самого себя, располагаясь часть за частью под взглядом рефлексии, и отсылать себя к своему заместителю, который его продолжает. В классическую эпоху всё дано лишь через представление; однако тем самым никакой знак не возникает, никакое слово не высказывается, никакое слово или никакое предложение никогда не имеет в виду никакого содержания без игры представления, которое отстраняется от себя самого, раздваивается и отражается в другом, эквивалентном ему представлении. Представления не укореняются в мире, у которого они заимствовали свой смысл; сами по себе они выходят в пространство, которое им свойственно и внутренняя структура которого порождает смысл. И здесь, в этом промежутке, который представление устанавливает для себя самого, находится язык. Таким образом, слова не образуют тонкой плёнки, дублирующей мысль со стороны фасада; они призывают мысль, указывают на неё, но прежде всего изнутри, среди всех этих представлений, представляющих другие представления. Классический язык гораздо ближе, чем это полагают, к мысли, которую он должен обнаружить, но он не является ей параллельным; он включён в её сеть и воткан в саму ткань, которую она развёртывает. Язык – это не внешнее проявление мысли, но сама мысль3.
Язык с полным правом является универсальным элементом в той мере, в какой он может представлять все представления. Должен существовать язык (или по крайней мере может), который собирает в своих словах тотальность мира, и наоборот, мир, как тотальность представимого, должен обладать способностью стать в своей совокупности Энциклопедией4.
Первоочередной задачей этого знания была задача заставить заговорить немые знаки; для этого нужно было распознать их формы, истолковать и переписать их в других знаках, которые в свою очередь должны были быть расшифрованы; даже раскрытие тайны не избавляло от той склонности к придиркам, которые делали его столь трудным и столь дорогим. В классическую эпоху «познавать» и «говорить» переплетаются между собой, образуя одну нить; и для знания, и для языка речь идёт о том, чтобы дать представлению знаки, посредством которых можно было бы его развернуть согласно необходимому и очевидному порядку5.
…познавать природу – значит, исходя из языка, строить истинный язык, который должен открыть условия возможности всякого языка и границы его значимости6.
В то время как биология XIX века всё «более и более приближается к внешней границе живого существа, все чаще выходя за ту телесную оболочку, дальше которой не мог идти взгляд прежнего естествоиспытателя, филология распутывает отношения между языком и внешней историей, установленные прежними грамматистами, и этим способом приходит к внутренней истории языка. И коль скоро мы улавливаем эту внутреннюю историю во всей ее объективности, она может далее служить путеводной нитью для восстановления (на благо Истории как таковой) тех событий, которые остались, за пределами памяти7.
Став весомой и плотной исторической реальностью, язык образует вместилище традиций, немых привычек мысли, тёмного духа народов; язык вбирает в себя роковую память, даже и не осознающую себя памятью. Выражая свои мысли словами, над которыми они не властны, влагая их в словесные формы, исторические измерения которых от них ускользают, люди полагают, что их речь им повинуется, не ведая о том, что они сами подчиняются её требованиям. Грамматические структуры языка оказываются априорными предпосылками всего, что может быть высказано. Истина дискурсии оказывается в плену у философии. Отсюда необходимость возвыситься над мнениями, философиями, быть может, даже науками, чтобы добраться до слов, которые сделали их возможными, и ещё далее – до мысли, чья первоначальная живость ещё не скована сеткой грамматик8.
Эволюция видов, быть может и поныне не завершена; формы производства и труда беспрестанно изменяются и, быть может, настанет такое время, когда труд уже не будет для человека основой отчуждения, а его потребности – постоянным напоминанием о его пределах; и нельзя ручаться, что человек не откроет когда–нибудь символические системы, столь чёткие и прозрачные, что в них растворится застарелая непрозрачность исторических языков. Конечность человеческого бытия заявляет о себе в форме позитивности, но парадоксальным образом обрисовывается в форме бесконечности, указывая не только на жёсткость границ, но и на однообразие пути, беспредельного, но, быть может, и небезнадёжного. Однако все эти содержания и всё то, что, скрываясь в них, указывает тем самым на временнóй предел, лишены позитивности в пространстве знания, они служат целям возможного познания, лишь будучи связанными в каждом своём моменте с конечностью человеческого бытия. Ибо эти содержания не могли бы и проступить в том свете, который хоть отчасти на них упал, если бы человек, который в них выявляется, был замкнут в безмолвной, тёмной, непосредственной и блаженной открытости животной жизни; и точно так же они не выступили бы при рассмотрении их на собственной основе под острым углом зрения, если бы человек мог беспрепятственно охватить их светом бесконечного понимания9.
Сама попытка задуматься, хотя бы на мгновение, о том, что сталось бы с миром, мыслью и истиной, если бы человека не существовало, может показаться игрой в парадоксы. Ведь мы так ослеплены человеком в его недавней очевидности, что не сохраняем даже воспоминания о тех временах – не столь уж и отдалённых, – когда существовали мир, миропорядок, человеческие существа, но не существовал человек. Этим и объясняется то потрясение, которое произвела – да и поныне производит – мысль Ницше, предвещавшая (в форме грозного пророчества) о близящемся событии – что человек скоро уступит место сверхчеловеку; тем самым философия возврата хотела сказать, что человек давно уже исчез и продолжает исчезать, а наше современное осмысление человека, наша забота о нём, наш гуманизм – безмятежно спят под грохот его несуществования. Не пора ли нам, верящим в нашу связь с конечным человеческим бытием, которое лишь нам принадлежит и открывает нам в познании истину мира, не пора ли нам вспомнить о том, что мы живём под дамокловым мечом?10
Если и впрямь человек в мире является местом эмпирико – трансцендентального удвоения, если ему приходится быть той парадоксальной фигурой, в которой эмпирические содержания познания высвобождают из самих себя те условия, которые сделали их возможными, то человек и не может даваться в непосредственной державной прозрачности cogito; однако он не может также и покоиться в вещной бездейственности того, что недоступно и никогда не будет доступно самосознанию. Человек есть такой способ бытия, в котором находит своё обоснование постоянно открытое, заведомо не ограниченное, но, напротив, вновь и вновь преодолеваемое пространство между всем тем, что человек пока ещё не осмысливает в свете cogito, и тем мыслительным актом, которым, наконец, оно всё же постигается; обратно – между этим чистым постижением и нагромождением эмпирии, беспорядочным накоплением содержаний, грузом опыта, не дающегося самому себе, безмолвным горизонтом всего того, что предстает в зыбкой протяжённости не – мысли. Будучи двуединством эмпирического и трансцендентального, человек является, таким образом, местом непонимания – того самого непонимания, которое постоянно грозит затопить мысль её собственным небытием, но в то же время позволяет мысли собраться в целостность на основе того, что от неё ускользает. Именно по этой самой причине необходимость трансцендентальной рефлексии в её современной форме вызывается в отличие от Канта не существованием науки о природе (в противоположность постоянной борьбе и сомнениям философов), но безмолвным, хотя и готовым вот–вот заговорить, как бы пронизанным подспудно самой возможностью речи, существованием того непознанного, которое беспрестанно призывает человека к самопознанию. Теперь уже вопрос не в том, как же, собственно, опыт природы допускает необходимые суждения, – но в том, как человек может мыслить то, что он не мыслит, как, безмолвно вторгаясь, он занимает то место, которое от него ускользает, как: он оживляет каким–то застылым движением тот свой облик, который упрямо предстаёт перед ним как нечто внешнее? Как может человек быть той жизнью, чьи сплетения, биения, скрытая сила выходят далеко за пределы того опыта, который ему непосредственно дан? Как может человек быть тем трудом, требования и законы которого давят на него как внешнее принуждение? Как может он быть субъектом языка, который образовался за тысячелетия до него и без него, система которого от него ускользает, смысл которого почти непробуден в словах, лишь на мгновение освещаемый его речью, и вовнутрь которой ему поневоле приходится помещать своё слово и мысль, будто им только и под силу, что оживлять на какое–то время отрезок этой нити бесчисленных возможностей? Это четырёхкратный сдвиг кантовского вопроса: речь идёт уже не об истине, но о бытии; не о природе, но о человеке; не о возможности познания, но о возможности первоначального непонимания, не о необоснованности философских теорий перед лицом науки, но об охвате ясным философским сознанием всего того мира необоснованного опыта, где человек не узнаёт себя11.
Наконец, в языковой проекции человеческое поведение проявляется в своей нацеленности на высказывание чего–то, и все, даже самые незначительные человеческие жесты, вплоть до неосознанных механизмов и ошибок, получают смысл; всё то, что окружает человека – объекты, ритуалы, привычки, речь, – вся эта сетка следов, которую он оставляет за собою, складывается в связный ансамбль, в систему знаков. Таким образом, эти три пары – функция и норма, конфликт и правило, значение и система – целиком и полностью покрывают всю область познания человека12.
Дело в том, что вся современная эпистема, образовавшаяся в конце XVIII века и поныне служащая позитивной почвой нашего знания, та эпистема, в которой сложился некий особый способ бытия человека и возможность его эмпирического познания, – вся она предполагала исчезновение Дискурсии и её однообразного господства, смещение языка в сторону объективности и новое его проявление во всём многообразии. А если этот язык возникает теперь со всё большим устремлением к единству, которое мы должны, но пока ещё не в состоянии помыслить, то не свидетельствует ли это о том, что вся эта конфигурация ныне находится на пути к гибели и что сам человек тем ближе к собственной полибели, чем ярче светится на нашем горизонте бытие языка? Разве человек, возникший в тот момент, когда язык был обречён на рассеивание, не должен сам рассеяться, когда язык воссоединится вновь? И если это так, то не будет ли ошибкой, причём серьёзной ошибкой (поскольку она скрывает от нас то, о чём мы должны задуматься), интерпретировать наличный опыт как применение языковых форм к порядку человеческого бытия? Не следует ли, скорее, отказаться помыслить человека или, точнее, помыслить исчезновение человека (и почву, на которой только и возможны все науки о человеке) в его соотнесённости с нашей заботой о языке? Не следует ли признать, что поскольку язык появился здесь вновь, то человек должен вернуться к тому безмятежному небытию, где его некогда удерживало всевластное единство Дискурсии? Человек был фигурой между двумя способами бытия языка; или, точнее, он возник в то время, когда язык после своего заключения внутрь представления, как бы растворения в нём, освободился из него ценой собственного раздробления: человек построил свой образ в промежутках между фрагментами языка. Конечно, всё это не ответы, но, скорее, вопросы, на которые нельзя найти ответа; они должны остаться там, где они возникают, помня при этом, что сама возможность их постановки есть уже ворота мысли будущего13.
Антислова, антислова, антислова…
1
Вегетарианцы тоже из мяса. Слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, существующих вопреки антиязыку и возможности выражения, – такие слова, благодаря которым антиязык не предшествует самому себе, а ограничивается областью воантиязыковляемого, оставляя на стороне альтернативной семиотичности оазисы конкурирующих антиязыков, – альтерантилогизмы. Антислова существуют в момент своей потенциальности (например, потенциалологизмы), однако могут не существовать также в потенциальном статусе, имея в виду вычурные классы антислов, чьё несуществование обессмыслено на самом антиязыке. Антиязыковая бессмысленность открывает горизонт для деконструкции бытийного языка до асемиотического состояния, в котором ничего невозможно вплоть до постулирования Бога. Слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, синхронных своему (пере)означиванию, – синхронологизмы; вопреки телепатическому языку и принципам «изначального опоздания» и «изначального опережения» синхронологизмы могут быть свойственны лишь божественному языку, на котором нельзя высказать ни один перформативный парадокс – тем более в виде атеистической ереси. Слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, ахронных своему (пере)означиванию, когда невозможно определить, действию какого принципа соответствует та или иная антисловоформа, – ахронологизмы. Принцип синхронности в отличие от «изначального опоздания» и «изначального опережения» характеризует идеальный язык, служащий непосредственным средством коммуникации, а в отличие от языка телепатии – являющийся по преимуществу звуковым. Божественный язык, попадающий в лоно божественной интенциональности, несоразмерен перформативно–парадоксальному языку, на котором неозначиваема бессмысленность14. Божественная интенциональность, не знающая непрерывностей между интенциональными актами, не содержит в себе ничего, кроме небытия, из которого творится любое множество, суммирующееся в Единое из–за отсутствия прерывностей между актами творения. Если сартровское определение небытия в виде отсутствия прерывностей между интенциями было сориентировано на «сознание о», то при гиренковской трактовке «уже – сознания» присутствие непрерывностей конституируется в качестве вертикальной архитектуры сознания с несколькими параллельными потоками, между которыми невозможно идентифицировать сартровские отсутствующие прерывности. «Уже – сознание» – это не интенциональный скарб готовых означиваний, а целокупность азначиваний, расплавляющих традиционные способы выражения смысла – значения слов, пребывающих в потных ртах многочисленных носителей языка. Означивание при помощи языковых паллиативов приводит к искажению как последующего азначивания, так и предшествующего воантиязыковления (изобретение новых средств воязыковления сопряжено с семантической экономией, упреждающей новые смыслы под предлогом безвозмездного недарения; если бы для каждого нового смысла создавалось эксклюзивное средство его выражения – мы столкнулись бы с лингвистической дурной бесконечностью, основанной на контекстуальности словоупотребления (Витгенштейн); с другой стороны, означивание смыслов в соответствии с первичным употреблением до всякого восполнения к вторичности слишком расточительно даже для запаздывающего характера естественного языка; чтобы быть первым среди равных, а не первым в зависимости от вторичных и тем более последних, необходимо отказаться от аутентичности означивания во имя будущих аутентичных означиваний. Палимпсестное наложение означиваний друг на друга позволяет языку скользить по поверхности преждевременных азначиваний, обеспечивая тем самым приращение новых смыслов и способов их выражения. Означающее, опаздывающее к означаемому, а означаемое, опаздывающее к референту, упреждают появление в языке несоизмеримых сингулярностей, то есть препятствуют «очисловке» смыслов (идей) – отождествлению их с миром чисел. Палимпсестное словоупотребление: когда новые означивания соседствуют с новыми азначиваниями, не давая выразить не только исконный смысл, но и исконный антисмысл, преобладает в языке над синхронным означиванием, при котором смыслы презентируются без (ре)презентации; чтобы быть первым, несмотря на запаздывание второго (Гиренок), приходится постулировать не экономику, а онтономику – одновременное присутствие всего трансфинитного числового ряда). Идеальный язык, основанный на принципе синхронности, позволяет не столько саннигилировать «изначальное опережение» с «изначальным опозданием»15, сколько коммуницировать на уровне языка вещей–в–себе – с каждой на её индивидуальном языке, несмотря на то, что Витгенштейн наложил запрет на сингуляризацию языковости. Синхронизация16 «изначального опоздания» и «изначального опережения» приводит к тому, что создаётся иллюзия идеального языка, на котором можно общаться с вещами – в – себе постольку, поскольку их индивидуальные языки обременены как «изначальным опережением», так и «изначальным опозданием». Презумпция идеального языка должна отвечать непосредственной синхронизации, не стопорящей настоящее (сиюминутность), а давая возможность и для опережения, и для опоздания на фоне призрака ноуменологического смысла. Коэффициент синхронизации может быть сведён к статистической погрешности при условии своей неаннулируемости (иначе синхронизация превращается в бременение и небытийствование). Синхронизация плана содержания и плана выражения, достигнутая «атеистической интенциональностью», может длиться до тех пор, пока не будут десинхронизированы, то есть различены, отсутствующие прерывности между интенциональными актами (если небытие не поддаётся различению, остаётся опасность отождествления его с бытием, то есть вульгарная онтологизация).
Ad – hoc – онтология предполагает одноразовые онтологические статусы, которые могут оказаться бесполезны для предельной теологизации – конкурирующей автосимуляции. Дурная бесконечность в своём лингвистическом изводе, манипулируя негипостабельностью, выдаёт неозначенное за тавтологичное, подвергая забвению многие ответы на вопрошание о бытии (увязая в языковых парадоксах о бытии, легко потеряться там, что никогда не знало вопрошания, словно непоименованная неизвестность, которая не существует сама по себе). Языковые игры о бытии ставят ва–банк для того, чтобы создать видимость заболтанности бытия, в то время как языковые игры на самом языке бытия доступны лишь тем, кто не отчаялся в абсолютном забвении бытия без поправок на дежавю (уже виденное) или жаме вю (никогда не виденное). Излишняя метафоризация онтологического вопрошания через трансгрессию естественного языка может привести к дискредитации как антиязыка, так и языка бытия, во имя последнего из которых мы отваживаемся на забвение вопроса о небытии (начиная с Парменида и заканчивая испытательным сроком смерти философии), чтобы не попасться на дешёвые бинаризмы или диалектизмы. Забвение вопроса о небытии по – прежнему не начато, но уже покрылось изрядной пылью, и его отсрочка продолжает увеличиваться (забвение небытия ради более явственного его воспоминания не работает на экономию парадоксальной интенции, при которой та или иная фобия преодолевается через ещё большее её нагнетение, а протекает в логике ресентиментальности, каждый раз мстя предшествующей попытке по своей концептуализации).
Вопрошание о небытии открывает такой горизонт негипотетизируемости, в котором события лишены не столько смысла, сколько бессмысленности, то есть неразличимы исключительно (эксклюзивно) в хронологии отсрочки. Забвение вопроса о небытии в стилистике (а то и риторике!) хайдеггеровского вопрошания свидетельствует отнюдь не в эсхатологическую пользу, поскольку мы имеем дело с чистым забвением – без психологической шелухи (несмотря на то, что о бессмысленности говорится больше чепухи, чем бессмысленности, она пребывает в состоянии постоянного дефицита автореферентности), вносимой человеческим фактором. «Небытология», парадоксальная в номенклатуре языка, может найти приют лишь в антиязыке как доме для всех беспризорных и блудных вещей.
Вопрошание о забвении небытия в отличие от забвения самого вопроса о небытии является не перформативно–парадоксальным, а парадоксально–интенциональным – ещё больше усиливающим вопрошание о забвении того, чего нет, но не может не быть, то есть не быть в собственном небытии (если экстраполировать франкловский метод парадоксальной интенции на проблему синхронизации плана содержания и плана выражения, то мы выйдем на качественно иной уровень лингвоонтологизма – «изначальное опоздание»17. Метод нахождения смысла через анализ внешней формы слова использовался стоиками во всех областях знания для обоснования их воззрений в физике и космологии, в этике и теологии197.
Устанавливая статус внешней формы слова, стоики, как и Платон в «Кратиле», проводили различие между «первыми словами» (πρω'ται φωναί) и словами позднейшими, возникшими из первых в результате изменений значения, изменений звуковой формы, а также в результате словосложения. Подлинная, ничем не замутнённая связь между звучанием и значением характерна только для «первых слов», созданных древнейшими людьми, которые, по мнению стоиков, превосходили их современников не только по своим нравственным качествам, но и в духовном, интеллектуальном отношении» (Вдовиченко А.В. Критическая ретроспектива лингвистического знания. Расставание с «языком». – М.: Издательство Православного Святотихоновского гуманитарного университета, 2007. – 510 с. – С. 51–52).
[Закрыть] и «изначальное опережение» будут сняты за счёт интенсификации, а именно – посредством собственных автореференций). Если значение запаздывает к своему референту, а означающее к своему означаемому, необходимо усилить такое запаздывание, пока оно не будет полностью исчерпано. «Изначальное опоздание», удвоенное на себя, может привести к амбивалентности, при которой не удастся установить сам запаздывающий характер (автореферентность «изначального опоздания» указывает только лишь на то, что «изначальное опоздание» о самом «изначальном опоздании» презумпционно, а потому – непротиворечиво; с другой стороны, парадоксальная интенция, применяемая в отношении самого «изначального опоздания», вопрошает об алгоритмах умножения (возможно, в духе аутентичного умножения сущностей) запаздывающего эффекта – эффектации. Заставив референт опаздывать к означаемому, а означаемое – к означающему, мы рискуем получить эффект «изначального опережения», вследствие чего нам придётся стабилизировать аннигиляцию «изначального опоздания» и «изначального опережения», выявив меру самой парадоксальной интенции. В отличие от эффекта синхронности между планом содержания и планом выражения «изначальное опоздание» при парадоксальной интенции может спровоцировать как инверсию, так и интерференцию смыслов до их воязыковления (правда, отнюдь не в фодоровском понимании языка мыслей, иначе придётся констатировать иерархию скоростных эффектов уже для самого языка мыслей). Таким образом, мы решаемся подорвать когнитивную функцию естественного языка, заключающуюся в оформлении мыслей. Отказывая мыслям в опосредованном выражении, мы пренебрегаем ими в надежде синхронизации мыслепорождения и воязыковления, когда приходится жертвовать большинством, чтобы «онепосредствовать» меньшинство.
Вопрос: Что занимало Сартра–философа?
Ответ: В целом можно сказать, что Сартр, столкнувшись с миром истории, который буржуазная традиция, ничего в нём не понимавшая, хотела бы считать абсурдным, решил показать, что, наоборот, во всём есть смысл. <…>
Вопрос: Когда вы перестали верить в смысл?
Ответ: Разрыв произошёл в тот момент, когда Леви–Строс и Лакан – первый для обществ, а второй для бессознательного – показали, что смысл является, скорее всего, неким поверхностным эффектом, отражением, пеной, что то, что существует для нас, что перепахивает нас и поддерживает во времени и пространстве, называется системой».
Фуко даёт определение этой системе, ссылаясь на работы Дюмезиля и Леруа–Гурана, имена которых хотя и не назывались, но легко угадывались, а затем снова обращается к Лакану:
«…Значимость работ Лакана состоит в том, что он показал, как через речь больного и симптомы его невроза даёт о себе знать не субъект, а структуры, сама система языка… Мы заново открываем знание, существовавшее ещё до появления человека…
Вопрос: Но тогда кто рождает эту систему?
Ответ: Кто носитель этой анонимной бессубъектной системы? «Я» взорвалось – взгляните на современную литературу – и было заново открыто «имеет место». В «имеет место» говорит безличность. В каком–то смысле мы возвращаемся к точке зрения XVII века, но на новом уровне: место Бога занимает не человек, а анонимная мысль, бессубъектное знание, безличная теория…» (Дидье Э. Мишель Фуко / Пер. с фр. Е.Э. Бабаевой; науч. ред. и предисл. С.Л. Фокина. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 378 с. – (Серия «Жизнь замечательных людей».) – С. 195–196).
Pfeiffer R. Geschechte der klassischen Philologie. Von den Anf ngen bis zum Ende des Hellenismus. Hamburg, 1970. S. 315; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957. S. 60.