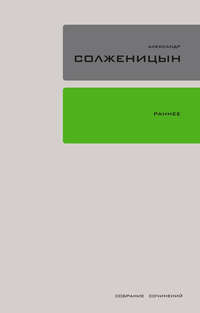Kitobni o'qish: «Раннее (сборник)»
Shrift:
© А. И. Солженицын, наследники, 2016
© Н. Д. Солженицына, составление, 2016
© В. В. Радзишевский, комментарии, 2016
© В. Калныньш, макет и оформление, 2016
© «Время», 2016
* * *

Дороженька
Повесть в стихах
Зарождение
Чернеют вышки очерком знакомым.
От вышки к вышке день сочится над державою.
От зоны к зоне звонами подъёмов
Задолго до свету ликуют рельсы ржавые.
Похлёбка с рыбкой кошачьей, мучная затирка.
В прохуженном, пролатанном томительный развод.
Идут работать лагери! И наша каторга
Четырежды клеймённая идёт.
Так будет год. И десять так. И так же двадцать пять.
Всё то же самое. Опять. Опять.
Обыскивать. Считать. Обыскивать. Считать.
Запястья за спину, покорные, по пять,
Бушлаты чёрные, вступаем меж тулупов,
Как медных статуй в отблесках кострового огня,
И, спины сгорбивши, глаза потупив,
Идём, как будто бы кого-то хороня.
Да каждый день и хоронят кого-нибудь –
На палец бирку голому. Для верности – прокол штыка…
Заря.
И – день.
Жестоко-медленно катится солнце по небу,
Искрит о землю мёрзлую безсильная кирка.
Не будет, не было сверкающего мира!
Портянка в инее – повязкой у лица{1},
О кашах спор да окрик бригадира, –
И – день, и – день, и – нет ему конца!
К закату стынет степь. Встаёт луна багровым диском.
Во тьме толкаемся, скользим, спешим к себе в загон,
Бригадами суровыми
Врываемся в столовую,
Где доходягу, лижущего миски,
Казнит презреньем лагерный закон.
Глотаешь жадно щи, не видя где ты, с кем ты, –
А через стол, в пару, над глиняной посудой,
То обнищалое лицо интеллигента,
То дистрофией обезволенная удаль.
Но тот, кто время здесь расчёл, – расчёл его неплохо.
Не обменяться словом нам, лишь только вздохом.
Опять, опять гудит над лагерем звонок.
Тебе в один барак, а мне в другой.
Проверка. Строем под замок.
Отбой.
Не кончено, не верь! – Я знаю, жду, но мне
Не победить, не разомкнуть ни на щель век усталых.
Едва уснём – звонок!! И в ослепительно торжественной луне
Мы, как в плащах комических, выходим в одеялах.
Выходим клокоча, выходим проклиная,
До самых звёзд безжалостных всё вымерзло, всё ярко, –
И вдруг из репродуктора, рыдая,
Наплывом нанесёт бетховенское largo.
Я встрепенусь, едва его услышу,
Я обернусь к нему огрубнувшим лицом, –
Кто и когда узнает и напишет
Об этом обо всём?
Со светлым пониманием, не в гневе –
И надобно теперь писать, теперь! Довлеет злоба дневи,
Но равнодушен день к минувшим дням.
Едва ворочаются мысли жерновами,
Чуть вспыхнет свет в душе по временам –
«Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам»!{2}
Свой круг начну и я. И поведу – стихами:
Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь
Такой ценой открывшуюся речь!
Тогда напрасно вы по телу шарить станете –
Вот я. Весь – ваш. Ни клока, ни строки!
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти
Вы не дотянете палаческой руки!!!
Мой труд! Год за год ты со мной созреешь,
Год по году Владимиркой пройдёшь{3},
Наступит день – не одного меня согреешь,
Не одного меня ознобом обоймёшь…
Вступление
Где и когда это началось?..
Друг мой издавний, – когда?
Чистое стёклышко мира ребячьего,
Грозно дохнув, замутила беда?
Вспомним ли крест перепутья
Трудного,
Скрещенных прутьев
Над нами тень,
Ужаса безрассудного
Первый день?
Изредка нам проступали зримо
Знаменья страхов потусторонних{4}, –
Мы проходили вчуже, мимо,
Скрывши лицо в ладонях.
Слабым, хотелось нам просто
Забыть их,
Лад своей жизни оберегая,
Дом свой, уют свой, вещи –
Поступь
Событий
Зловещих
Минула, не задевая…
Так и теперь, когда стонами
Наша душа пролилась, –
Те, кого это не тронуло,
Думают ли о нас?..
Не слышать, имея уши,
Не видеть, глаза имея, –
Коровьего равнодушья
Что в тебе, Русь, страшнее?
Глава первая. Мальчики с луны
Странствовать!.. Ликует сок бродяжий!
Дорвались и мы с тобой до воли!
В двадцать лет – сопеть на крымском пляже?
Наша, наша! – бьётся на приколе –
Вёсла сложены, как связанные крылья,
Просится в полёт!
Водяной зеленоватой пылью
Обомшелую бударку обдаёт.
Первобытно раздувая городские ноздри,
Тянет с Волги свежестью, и остро
Побережье пахнет рыбой и смолой.
Хлеба – не купить. Припасено немножко
Сухарей у нас да пуда два картошки,
Высыпанной в ящик носовой.
Не щенки мы, нет! – как мореходы встарь,
В краску белую макая голый палец –
Уж давно продумано: «Волгарь –
Скиталец».
Ну, толкай! Примат материи, на слове не лови,
Всё же – Господи, благослови!..{5}
–
Звон и гуд… И тракторы рычат у перевозов,
Кони ржут, скрипят грузовики,
Сизо-масляна идёт вода с навозом,
И толкутся волны поперёк реки.
Густо-чёрный выстилая дым,
Буксирок, вцепившись невподым,
Тянет баржи две, как две скалы.
Двухэтажные, легки, белы,
Разминутся пароходы, радостно гудя.
И деревни целые – плотами
С избами, коровами, бельём и петухами
Медленно спускаются, реку загромоздя.
А и в русле не одна дорожка:
Не гребём – теченье выбивает
В мирную воложку,
В нераспуганную тишь
Рыба на-солнце серебряно взыграет,
Юркнет птица в островной камыш.
Изливает с неба синева.
Вёсла трепетные вывесим – и движемся едва.
Что-то дед смолёный ладит топором…
С ним малыш, две удочки забросил…
Нестерпимо брызжут серебром
И топор, и капли с наших вёсел…
И опять затягивает в стрежень.
И блеснёт едва повыше осоки
Уцелевшей церкви в глубине прибрежья
Крест – и серенькие куполки…
Вечер. Солнце западёт за берег горный,
И вода сгустеет в изумруд,
И огни зажгутся в белых знаках створных,
Шумы дня притихнут и замрут.
Отразятся с кручи в стынущие воды
Скалы, обнажённые породы,
Купы лиственных и пики чёрные хвои, –
Бакенщик, старик рыжебородый,
Объезжает бакены свои.
И уж на ночь, только солнце сгаснет,
Водный путь отмечен столбовой –
Там, где горный берег – бакен красный,
И – зелёный там, где луговой.
Исчезают тени, и мягчеет небо.
Проступает точка первая Денеба{6},
Все созвездья выводя изглубока.
Плёс утих. Ни лодки рыбака.
Осеняет Волгу только звёзд шатёр.
Ну, и нам на берег: сушняка
Подсобрать да развести костёр.
От костра всё сразу потемнеет –
Волга, небо, прибережья глубь,
Мы – к огню плотней и ждём, пока поспеет
В котелке картошка или суп.
Из-под крышки сладкий пар клубится,
Зверь-костёр клыками сучья рвёт,
По воде прошлёпают неслышно плицы{7},
Проскользит, сверкая, пароход
И, по тёмной глади бледным светом мрея,
В полноту беззвучной ночи канет…
В смуглых отсветах лицо Андрея,
Лоб его печаль пытливая туманит.
Внутренне сцеплённых выводов коварство
Вот не ждал, куда его направит! –
«Оглянись, Сергей, подумай.
Чувствуешь, как давит
На тебя, на всех нас – государство?»
Я смотрю на звёздный свод извечный,
Слышу вольный шорох всплесков в тишине
И от всей души, чистосердечно
Удивляюсь: «Давит? Государство? Не-е».
После гребли по телу приятная истома,
Что к краям – расплывчатей лицо освещено…
Как давно, дружище, мы знакомы,
Как давно!..
Помню твоей детской курточки вельвет,
Несогласие упрямое с немецкими глаголами,
Наши шахматные страсти, меж двумя
футболами.
Вместе нас кружил извивами весёлыми
От Байдар к Ливадии велосипед,
Подымал Военною-Грузинскою от Ларса.
Вместе аттестаты понесли в Универс’тет{8},
И обоим нам ударил буйный свет
Гегеля и Маркса.
Математика. И физика. Но для души
Их священной строгости нам оказалось мало:
Подлинно, что точные науки – хороши,
Да не строгости, а счастья людям недостало.
И пошли на исторический в МИФЛИ,
Порешив, что с парой факультетов справимся,
И давно согласно к выводу пришли:
«Мы нам нравимся».
Как не нравиться, когда так чётко сведены
К стройным формам мир и человек?
Сколько нами дивных вечеров проведено
В мудрой тишине библиотек!
Сколько раз не хожено в кино!
Сколько жертвовано вечеринок!
Я безумец, я фанатик, – но –
Но Андрей мой – инок.
В миллионном городе, в блистании огней,
Там, где вечер – лучшая пора,
В пять минут десятого ложится спать Андрей
И встаёт – чтоб думать – в пять утра.
Как по Канту время мерь –
он в шесть пройдёт по дворику
И вернётся записать, что понял
в утре чистом.
Хочет стать он, как и я, историком,
Но для этого ещё – экономистом.
Том за томом я гоню взаглот,
Я истерзан весь, я в спор нырну с наскока,
Взор застит восторженно слеза, –
Он мне тихо, мудростью Востока:
«Прежде, нежели открыть свой рот,
Друг, открой глаза!»
Это – то влеченье, род недуга,
О котором написал поэт:
Книга, стол и мы друг против друга, –
Никого на свете больше нет!
Распадутся волосы-неулежни мои{9}
Над лицом горячечным, но бледным,
Ближе – сходимся – яснеем – и! –
Запись отточённая о выводе последнем.
И не жаль обоим эту странную,
Без вина, без девушек сухую юность нашу…
…Вот и ужин! Ложки расписные деревянные
Мы вонзаем в ячневую кашу.
После ужина на сене в лодке мягко.
Лёгкой зыбью чуть вздымается корма.
Всю Историю – от нас до братьев Гракхов,
Высветил прожектор Марксова ума.
Маркс! – как меч, рубящий путаницу партий!
Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта,
Только-только вылупясь из жёлтеньких скорлуп,
Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!
Есть закон движения! Другого Абсолюта
Нет! И как там было – сердобольно, круто,
Нравилось, не нравилось, – минует постепенно.
Всё пройдёт: Сената гнев и курий плеск и пена.
Желчь упрёков, звон разящих слов
Не всплывут на высоту веков.
Воин Рим, бронёю перевитый!
Шаг Истории, не знающей пощады! –
Гордое отчаянье самнитов,
Умное безсилие Эллады,
Ярость Брута, Ганнибала гений –
Всё должно быть сметено и сбито,
Что само не станет на колени.
Dura lex, sed lex1. Во всём закон.
Ничего, что б в сторону свернуло.
Ничего? И даже шут Нерон?{10}
И кровавое захлёбыванье Суллы?
Фатализм! Эклектика! Неверно!..
…Но Андрей молчит и дышит мерно
В лад дремотным заплескам волны.
И спине тепло от дружеской спины.
За ночь иней нас покроет впробель.
Утром вспрыгнем, зубы бьёт ознобик,
И – бултых в синеющую воду!
Холодом озноб тот вышибить приятно!
И – бегом, в чём родила природа,
По камням! на взгорок! и обратно
На песок! поборемся! и в танец!
Дикарём разнузданным пляши,
Пока тело вызорит румянец,
Да ори! – всю Волгу полоши!
А теперь хватайся каждый за весло –
Оттолкнулись! Понесло!
–
Солнышко пригреет – не гребём, лежим.
Лодку сносит тихо, мы себе зубрим –
Снова диамат, латынь и древний Рим.
Купим яблок, тут их мерят на ведро,
И грызём, и дремлем… Всё б у нас добро,
Только ни брезента, ни плаща –
И на небо часто смотрим, трепеща.
От грозы, дождя мы беззащитны.
Как нам стал понятен первобытный
Ужас перед силою богов:
Только что покинули мы крыши
Наших равнодушных городов –
И уже иначе видим, слышим,
Туча наплывёт – мы сжались, мы не дышим,
Ветер кажется – злопамятный, живой,
«Завтра я…» – не скажем, верим в глаз дурной.
Завтра день – смотри ещё какой!..
На недели тучами затянет
Небо. Будет Волга холодна,
Заколышется, волною спорной станет
Глину выворачивать со дна.
Попадись тогда на волнобое!
Повернись бортом! –
Пляшет, мечется седое, водяное
То на этом, то на том!
Берег в брызгах. Чёрно дышат трубы.
Грязь на пристанях. И дождь – безугомонь.
Шутки грузчиков и ругань дерзко грубы,
Но и труд их стоит этой ругани.
Экую ворочают махину!
В сорок рук вздымают! Ну как рухнет?..
«Э – э – эх, ду – би – на!..
Ух – нем!!
Зелёная! Сама пойдёт! Сама пойдёт!
Подёрнем! Подёрнем!»{11}
Вымахали с покриком задорным –
Там, голубушка! – и с паром, хрипом, храпом
Сыпят, топают, валят на берег трапом.
Те мешки подкинули, те бочки катят ловко…
Третьяковка??
Обогнали Англию в лебёдках, кранах, планах, –
Так откуда ж этих дьяволов-то рваных?!.
–
Дождь и дождь. Уж нам не плыть сегодня.
Подгребаем к дебаркадеру под сходни –
Всё же крыша, хоть и брызжет из щелей –
И идём в черёд порыскать чаю.
Новодевичье в лаптях тебя встречает
И в азямах рваных Сенгилей.
Райпартпрос, Райком и Райкомол,
Райуполминзаг и Райзаготконтора.
И районный юродивый, полугол,
Смуглогрудый, клянчит у забора.
Чаю мне! – продрог на сумрачной воде.
Раймилиция. Райплан. И РайНКВД.
Мокнет «Правда» на витринке. С тёмно-хмурых
Сеет мелкий-мелкий дождь с небес.
Райтюрьма, Райсуд и Райпрокуратура,
Райсоцстрах, Райздрав и Райсобес.
Там, где, дети горя и отваги,
Бурлаки под бичевой тянулись в напряге, –
Закрывая полки голые, в Раймаге
Продают физическую карту… Африки…
На столбах бубнят колхозные частушки
Близ Райклуба громкоговорители,
Под забором рубят головы косушкам
Жители.
Нет теперь ни кабаков на Волге,
Ни Николки нет, ни монополки,{12}
Ни в церквях колен не гнёт никто, –
«Эй, молодка!
Литру водки!
Два по двести!.. Три по сто!»
Пар одежд сырых и сизый дым махры,
Окна мутные, спиртовые пары.
Густо-густо вкруг некрашеных столов –
«Нам салатику! – вопят, рыдают, – огурцов!»
Вот охотник смяк, склонясь к дробовику,
Ловит блох борзая под столом.
«Будьте так любезны! Дайте мне чайку!»
– «Ча-ай?? Не подаём!»
Над столами русский чин трисловьями порхает,
Лица смотрят масляно, слепо.
И ревут «Златые горы», оглашая
Чайную Райпо.
И лохматый грузчик, мой сосед,
Дядя Миша, мужичина-глыба:
«Чаю зря ты, малый, просишь. Чаю нет.
На сто грамм перцовки».
– «Я не пью. Спасибо».
– «Ах, культуриш руссиш!.. Ну, кажи свой ум.
Ну, скажи, что водка – это а-пи-ум…»
– «Хвастать тоже нечем. Лёгкие и печень…»
– «Хо! Ты – тюря! Печень! Этим душу лечим!
К-комсомолец! Пожалел!.. А дать тебе винтовку,
Да – на вышку?..{13} Ну, не зявься, выпей
стограммовку.
И мои б такие были… Пей, не брезгуй».
– «Где ж они?»
– «Сопрели. Под сосной карельской».
– «Отчего ж?»
– «А это очень просто мы:
В тундру высадили голыми да босыми,
Ну, а в тундре и волкам не рай.
Рыбу пальцами словить сумеешь – ешь.
Ягоду найдёшь дикую – собирай!
Хочешь если, так друг дружку режь.
Хочешь – помирай…»
– «Но простите, но за что же вас?»
– «Ты – с луны? В тридцатом-то?
Не знаешь, что да как?
Потому что был сочтён кулак,
Ну и… Ликвидировать. Как класс.
…Я за землю, парень, да за волю,
Да за эту грёбаную власть
Шёл на Колчака…
Землю дали – тёр, дурак, мозоли,
А они меня – ша-расть
В кулака!
Да кого ж она, земля, не богатит,
Если только вкалывать здоров?
Государство! Что ему претит,
Если у крестьян да по три пары лошадёв?»
–
Юность верит. И она права.
…Но прошло-то года, слушай, двадцать два!
До каких же пор мы будем зря
Сваливать на бедного царя?
Зафиксируем: в раймаге – ни черта?
Это – нищета?
Тише! Тише! Склонность к выводам
поспешным.
Никакой прогресс не может быть безгрешным.
Отклоненья, исключенья – кто же говорит?
Ведь писал Истории законы не Эвклид!{14}
Роют трудно, роют по-кротовьи,
А оглянешься – и мир уже не тот.
Жестоко? Приходится и кровью
Заплатить за тяжкий путь вперёд.
Мы не только что не против –
мы оправдываем даже:
Ликвидировать? Конкретно – как? Куда ж их?
В тундру. В дикий лес.
Dura lex, sed lex.
Трудно мы живём. Дай время, будет лучше.
Внуки примут жизнь, не зная, как далась…
–
Вот и солнце прорвалось сквозь тучи,
И покорно Волга улеглась.
Так за вёсла твёрдою рукою!
Поплыли,
Где на двести вёрст Самарскою лукою
Волгу отшвырнули Жигули{15}.
Сладость есть и в малом и в великом.
Между сосен, вперегонку, с перекриком
Вымахнуть, запыхавшись, на кручу! –
Тут раскинуться на выгретой, пахучей
И никем ещё не топтанной траве;
Отдаваясь тишине дремучей,
В небо жмуриться без мыслей в голове,
Никому и ничего не должен…
Жи-гу-ли!.. Какая-то в вас правда!..
Раздробилось зеркало в Заволжьи
И застыло в озерках-бакалдах.
Нет теченья! Плёсы недвижимы.
Близко дальнее, а крупное –
мало непостижимо.
С коробок от спичек – баржа на подчале.
Замерла ли? Тянут её таском?
Хоть заплачь от этой веющей печали!
Хоть христосуйся – такая в сердце Пасха!..
Мирный бор овершьями колышет,
Запахом смолы и солнца пышет.
Жёлто тлеют иглы в медном сосняке.
К югу, поверх сосен
Облачко относит
Медленно, в покойном высоке.
Под травой краснеет земляника,
И грибы столпились возле пней.
Разве в малом меньше, чем в великом,
Веской мудрости коротких наших дней?..
–
Через день взгляни на правый берег –
Сланец, скалами пластованный, белесый,
Стук стволов паденья, пил железный верезг,
Люди серые с лопатами, кирками
Горы облепили муравьями.
Экскаваторы, лебёдки, вагонетки,
Грохот, скрежет, и столбится едко
В лёгкие и в небо каменная мгла…
Это будет чудо Третьей Пятилетки –
Перемычка Волжского Узла.
О, грядущее переустройство мира!
Мы войдём в тебя наукой и уменьем!
…А кому кирку?.. Не из-под наших кирок
Пусть разбрызгиваются каменья!
Привезут, найдут неученную рать, –
Что над этим голову ломать!
…Так мы плыли в гладком беззаботьи,
И, наверно б, нам на ум не вспало:
Что за люди там кишат в лохмотьях?
Что за люди бьют вручную скалы,
Катят тачки в гору по тропинкам? –
Сам, как глина, побуреет человек…
В невесёлом месте, в Красной Глинке{16},
Мы однажды стали на ночлег.
Правый берег вскопан, взбугрен, бурый.
Штабелями досок и бревён,
Мусором, щебёнкой – левый завалён.
Перекатом Волга мчится хмуро.
Мы причалили, да плох нам выпал сон:
Выстрел. – Новый. – Очередь. – И ржавый
Звон от рельс на нашем берегу.
С фонарями в зарослях облава
Заплясала, заметалась на лугу.
Засветились пристань и бараки,
Шли моторки, воду Волги пеня…
Из моторок прыгали собаки,
Заливаясь в ярости и пене,
За собой вожатых мчали в темень,
Хрипло лаяли и обрывали привязь,
Кто-то выволок на берег пулемёт.
Словно в бой, с винтовками навывес,
Пробежал запыхавшийся взвод.
Не понять – война или охота?
Ладно, греемся; не трогают – и рады.
Вдруг у нас над самым ухом кто-то:
«Вот они! А ну, вставайте, гады!
Подымайтесь! Застрелю, заразы!»
Шутки плохи, тут не отлежаться.
Из-под одеяла высунулись разом –
Вислоухие испуганные зайцы:
– «Мы – туристы. Что вы к нам, товарищ?»
Но товарищ плюнул от обиды.
– «Хто? Туристы?? Шляются здесь, твари…
Чтобы я на Волге больше вас не видел!»
Перекошенный, разгорячённый,
Освещён недоброй дрожью света,
Пляшущую руку с пистолетом
Долго опускал он, огорчённый.
–
Их всю ночь ловили. С места заклятого
Мы ушли под утро, торопясь уплыть,
Чтоб не рвать, что в сердце дорогого.
Чтоб не думать. Чтобы позабыть.
Подымалось солнце над лугами.
Красное, в торжественной игре,
Жигули оно зажгло, как пламя,
Озарило мёртвые машины на горе,
Раздробилось радугой росяной через лес,
Багряницей разостлало водной глади скатерть, –
И вот тут-то вывернулся нам наперерез
Арестантский катер!
Он скользнул, едва нам нос не срезав,
И послал короткий частобой,
Он прошёл, как будто гром железа
Кандалов рассыпал за собой.
Бугорками волн взбелели волоконца,
Закипела, забурлила полоса реки –
Эти лица! лица, обернувшиеся к солнцу!
И с бортов – конвойные штыки.
Вот они, кто там кирками машут! –
Только нескольких и рассмотрели мы.
Кто они?.. За что их?.. Не расскажут…
Тихие, стояли у кормы.
Что-то было в лицах их заросших,
В складках, не черствеющих у глаз,
От чего пахнуло всем хорошим,
С детских лет несбывшимся повеяло на нас.
Оба без отцов, ведь мы и шли бродяжить
По краям родной неведомой земли,
Чтоб мужскую взвесить эту тяжесть,
От которой матери, солгав, уберегли.
Нас заметили. Переглянулись.
Может, вспомнили своих мальчишек-сыновей.
Чуть заметно
Вслед нам
Улыбнулись,
И у каждого по-своему взметнулось у бровей.
И – промчало катер. И Андрей в сомненьи
Протянул: «А что, сейчас бы к Самому
Молодой, второй явись бы Ленин, –
Он бы – не попал в тюрьму?..»{17}
Глава вторая. Медовый месяц
Несу я сознание мира.
Боюсь, что не в силах донесть.
В. Гофман
До опушки – один переклик без малого.
В сени яблонь при тлеющем самоваре
Вечерами чаюют московские баре:
Слева в садике спорят о Ваське Качалове,
На террасе направо читают сценарий.
За кустами белеют мужские фигуры,
Праздных женщин движения – не легки, –
От самих же себя, от своей же культуры
Убегают на лето сюда толстяки –
От редакций и секций, премьер театральных,
От квартирных теснот, телефонной судьбы, –
Убегают сюда, в край ремёсл вышивальных,
Безпривозных базаров, прилавков печальных,
Где сельпо продаёт лишь сухие грибы.
Оттрубивши своё песнословие веку,
Отнеся гонорар к Елисееву{18},
За сто вёрст сюда сахар везут по рассеянью,
Чемоданами сало и бэкон,
Для хозяйки сговоренной – ситчику в дар,
Для работы полуночной – пачки сигар,
Кофе в зёрнах, вино и запас керосина.
…Над Тарусою сумерки звёздные сини,
Слышен блюдечек позвон и пенье гитар.
Ждут их осенью кассы столицы грешной
И страницы журнальной хвальбы.
В ряд их дач, не по чину – бревёнки потешной,
Кругляши нашей маленькой тихой избы{19}.
Нет в саду у нас кресел и столика чайного,
Нет огней и гостей под навесом крыльца, –
Всё вдвоём… И на пальце твоём – обручального
Золотой отлив кольца.
Нет у нас нагружённого доверху ледника,
Порожнём мы с базара приходим нередко,
Но как мило хлопочешь ты в белом переднике,
Увильнув: «Подгорит», убегаешь к загнетке.
…Драгоценного света дневного крупицы
Вот-вот-вот разойдутся меж теней вечерних, –
Дальше-дальше в окно, ближе-ближе к странице
Я слеплю себя строк неразборчивой чернью.
И уж всё отшвырнуть бы давно мне пора,
Встать, схватить тебя за плечи, закружить, –
Не могу, не додумавши, отложить
Годы царствования Петра.
Всё понятно – прогресс! А сидит во мне ересь:
Всю страну на дыбы – по какому праву?
Запишу! Назову его – «шведский тезис»,
Оправдала ли цену свою Полтава?
Двести лет всё победы, победы, победы,
От разора к разору, к войне от войны, –
А разбитые нами на Ворксле шведы
Разжирели, как каплуны.
Рок зловещий российские полчища водит.
Славы мало!
Земли недостало! –
Да…
Видно, слово «победа» не зря происходит
От слова «беда».
Погоди ж, дорогая, окончу, дочту,
Тени вечера выйдут из-за леса –
Мы пойдём, обнявшись, и на нашу чету
Будут встречные взглядывать с завистью.
Вот не думал, что буду на даче
Жить, как дачник исправный живёт…
Есть у каждого годы удачи,
И таким обернулся мне минувший год{20} –
Словно звёздным дождём мне дороги усыпало,
Словно горы верстались мне по плечу,
Словно есть это счастье, и мне оно выпало:
Всё могу, чего захочу!
Под ногами любая наука стлалась,
Быстромудрые бесы вселились, казалось,
В грудь мою – и толкал меня каждый бес,
Одержимый мгновенными планами,
Томы будущих лет взросли до небес
Краснокрылыми великанами,
И вползла ядовитая слава. О славе
Где те юноши, что не чахли?
Незнакомые девушки письма мне слали,
И таинственно письма их пахли.
Содрогалась Европа надменная, отдана
Шагу армий, невиданных раньше,
Чёрным гневом возмездия небо над Лондоном
Застилалось из-за Ла-Манша,
Воды пенились, судна роились,
Напрягались десанты, готовясь к прыжку… –
В это лето мы поженились
И поехали на Оку{21}.
–
Мы привыкли к южным степям –
Золотая в сто вёрст ладонь,
Ни единого взгорка там
На бегу не встречает конь,
И нигде ни единый лесок
Не вклиняется в звень пшеницы,
И, едва только вспыхнет восток, –
Степь до запада озарится.
Здесь же – падей прохлада, здесь – синяя тень,
Ямку каждую дождь наливает всклень,
Позарос, весь в отрожках изрезан овраг,
Там спустился в него, там поднялся большак.
Сосны стройные веют на взлобке,
Между ними – дубы вперемес,
Там – ольха, там – берёза. Подымемся. Робко
Вступим в бело-зелёный лес.
Это счастье
Даётся не часто,
А не каждый его оценит –
Забрести вот в такую чащу,
Где листов прошлогодних олово,
Положить к тебе на колени
Голову.
Солнце еле пробрызнет сюда,
Небо еле сюда просветит,
Разве только, беспутный чудак,
Забредёт, заблудившись, ветер
И доносит, как где-то аукают
И хохочут девчёнки-грибовницы,
Помавая ветвями, баюкает:
«Всё достигнется… всё исполнится…»
Жалоба
«А чему исполняться? Чему?
Я о большем и не мечтала.
Всё исполнилось. Почему
Тебе этого счастья мало?
Мало нравлюсь тебе? Плетеницей
Из цветов себе лоб украшу.
Хочешь думать? Какую страницу
Распахнуть тебе в книге нашей?..
…Как бежал молодой дворянин
Со знаменем,
Как очнулся он навзничь, раненым,
С небесами один на один –
И увидел, какой
Покой
Был по небу высокому разлит.
В суматохе большого боя,
Когда к славе рвалась рука,
Разве
Мог увидеть он над собою
Эти медленные облака?..{22}
Но ведь мы-то, ведь мы-то можем!
Посмотри – и сейчас плывут.
Что же ищешь ты, что же?
Я не верю, что люди на свете живут
Кроме нас и ещё там где-то,
Когда ты меня обнимаешь…
Повторяй мне, что любишь меня, только это,
Понимаешь?..
Ты настойчиво, ты упорно
Что-то хмуришься о своём.
Не легко тебе, не просторно
Со мной вдвоём?
Выпить, вытянуть сердце из груди,
Чтобы мой был, чтоб мой был весь!
Я не знаю, что завтра будет, –
Я люблю, что сегодня есть.
Только ты ведь обманешь: кольцо
Моих рук на заре разомкнёшь –
Почужевший, холодный, уйдёшь
Карла Маркса читать на крыльцо.
Станет звонкий пастуший рожок
По заре собирать своё стадо,
Я проснусь и увижу, что рядом
Нет тебя, что опять уволок
Тебя жребий твой, выбор жестокий.
Я неделю всего как жена,
А опять просыпаюсь одна
И полдня провожу одинокой.
Милый, славный, ты брови не хмурь
И не бойся – я не заплачу.
Значит, надо забыть мою девичью дурь, –
Мне ведь всё представлялось иначе.
Не мужчина я. Жалобу слабости
Ты прости мне на этот раз…»
И украдкою влажные заблесты
Она пальцем снимает с глаз.
Вот оно!.. Я кошусь с опаскою
На лицо неразгаданно женское…
–
Вспоминаю: акации спуска Крещенского,
Седину оснежённого Новочеркасска…
Мы проходим вокзал, за вокзалом крыльцо,
В сто одёжек окутаны, ждут лихачи, –
И у каждого жёлто манит копьецо
Недрожаще-горящей свечи.
Полусонного мальчика взяв из вагона,
Высоко подсадив, меня взвозят покачливо
В город, на гору, – фаэтоном
Меж сугробов, огромных взгляду ребячьему.
Фаэтон проплывает спокойно, как лебедь,
Лёд цветится огнями в оконных рамах,
И сияет луна в завороженном небе,
Отражаясь в крестах и на куполах храмов.
Позади пятиглавой громады собора –
Попирающий камень строптивый Ермак,
Что ни дом – за твердыней ворот и забора
Взаперти от Советов упрямый казак,
Сберегая теченье обычья богатого,
Своедомно живёт, как живали отцы.
Двудорожным широким проспектом Платова
Заливаются лёгких саней бубенцы:
– Эх ты, удаль-тоска, раскружить тебя не на что!
Хеп-па-па-берегись застоялых зверей!! –
Богомольный народ, разбредаясь от всенощной,
Подаёт милостыню калечным и немощным
На изглаженных папертях стройных церквей.
Их степенному шествию дерзко не в лад,
Хохоча и толкаясь, студенты валят,
Неуёмные, жадные жить, несытые,
В институтской столовой свой ужин выстояв, –
На свиданья, в читальни, в кино, в общежития
Тротуарами улицы Декабристов{23}.
И гудят до полуночи лаборатории,
Ослепительный свет над столами чертёжников,
В клубе – диспут любителей Новой Истории
И Союза Воинствующих Безбожников.
А за ставнями тихих домов затаивший
Неушедших, непойманных, белых, бывших –
Что за город такой? Всё кипит, но ни слова
Не сойдёт у прохожего с замкнутых губ, –
Стольный город разбитого Войска Донского, –
Антиквар, книгочей, книголюб.
Слишком мал понимать, только щурю глазёнки,
Как на сбруе звенящей играет луна,
И не знаю, что в доме, – вот в этом, – ребёнком,
Моя будущая растёт жена.
Семилетье российской лихой безвременщины!
Свист и дым по стране от конца до конца! –
Скольких нас воспитали пониклые женщины,
Сколько нас не знавало руки отца!
Пятилетнею девочкой в кружевцах
Ты отведала первых учений тернии,
Изъяснялась в учтивых французских словах
И разыгрывала этюды Черни.
Ни за дверь, ни в толпу! (Наберётся, ma chère,
Этих выходок, этих манер!)
Тем охотней узнала ты книгам цену,
А в семейном кругу, в воскресенье,
Дверь из комнаты в комнату делала сцену
Для домашнего представленья.
И когда собирались по сходству подружки,
Повелитель был обществу вашему нервному
Реже – добрый весёлый Пушкин,
Чаще – жёлчный презрительный Лермонтов.
Лет в четырнадцать сердца отчётливей стук,
Что-то смутно томит, что-то поймано понаслышке,
Но посмотришь с холодным вниманьем вокруг,{24}
А вокруг – маль-чишки!..
Так пускай литераторша мажет тетрадки,
Пусть галдит, что герой ваш – одни недостатки, –
Разве это в его фосфорическом взоре?
Бледном лбу? сжатьи губ? и в усах завитых?
Через всё полюбился девчёнке Печорин!
А Печорина нет давно в живых.
Ждёшь, что жизнью тебе уготовано диво,
Но проходит юность, в меру счастливо,
В меру ровно, – а дива нет.
Выпускные экзамены сдав торопливо,
Поступаешь в Универс’тет.
…Образ к образу рядом затенчивым,
Местом меркнущим, местом ярким,
То я вижу тебя на балу студенческом,
То в измученном зноем вечернем парке.
Не Печорина – духов сомнения едких,
Подмело их при сталинских пятилетках.
Их приносное семя и раньше-то плавало,
Не ныряя по омутам русской реки.
А коряги в ней – мы, убеждённости дьяволы, –
Духоборы, самосжигатели,{25}
Бунтари, проповедники, отлучатели,
Просветители, вешатели, большевики!
Угораздило же тебя родиться
В тре-тревожной стране, под разбойный шум,
Где как прежде, где в каждом десятом таится
Протопоп Аввакум.
Однолюб. Однодум.
Я! Я верю до судорог. Мне несвойственны
Колебанья, сомненья, мне жизнь ясна,
И влечёт меня жертвенное беспокойство
От постели, от нежности, ото сна.
Рвёт и рвёт моё мясо Дракон,
И где лапу положит – отдай, оставь ему! –
Это Горе Истории, Боль Времён,
Мне волочь его, как анафему!
Да, я звал тебя, звал. А дороги круты.
Я зачем тебя влёк? В каком чаду?
Не иди! Ты слаба. Переломишься ты! –
Я не знаю – я ли дойду…
Рай зелёный… Ничто не радует.
Там столицы взрываются, бомбы падают!
Вся планета в ознобе! планета в трясении! –
Вот! Пишу:
Моему поколению
Родились мы – не для счастья
Бредит, буен мир больной.
Небывалое ненастье
Захлестнёт нас! Будет бой!!
Перед тяжким наступленьем
Пусть же скажут правду нам,
Как умел Владимир Ленин
Говорить её отцам:
Враг – не трус, не слаб, не глуп он! –
В нас не верит тот, кто лжёт.
Мы – умрём!! По нашим трупам
Революция взойдёт!!!
Из Октябрьской мятели
Поколение пришло.
Чтоб потом цвели и пели,
Надо, чтоб оно – легло…
Уж не помню, ещё что слетело
С языка у меня в пылу,
Только помню: жена побледнела
И щекой прислонилась к стволу.
Так я бил, безпощадный и мрачный,
Словом о слово, в слово словом.
Этот месяц – первый побрачный,
Называют в России медовым,
Honey-moon окрестили его за проливом,
У французов он назван – la lune de miel,
Одарён и у немцев прозваньем счастливым
Flitter-Wochen – поблескивающих недель.
Как обманчива ласковость этих названий!
Даже камни – притрёшь ли, не обломав?
Два бунтующих сердца! Меж вами
Кто виновен? кто прав?..
Ветер осени
Шепчет на уши.
Лес обрызгало
Желтизной.
Лето кончилось,
И пора уже
В грохот города
Нам домой.
Первый замороз,
Утро терпкое.
Окский катер.
Речная рань.
Дом Поленова{26}.
Старый Серпухов.
И дорога
Через Рязань.
Русских станций
Скончанье света.
Все вповалку
До загородок.
Лица в мухах.
Лежат в проходах
В полушубках.
И ждут билетов.
Нет билетов!
Посадки нету.
Манька, где ты?
Маманька, тута!
Кто с мешками,
Без пропусков,
С пропусками
И без мешков.
Смех и молодость
Нам защитою.
Ещё б с ними
Не уместиться!
Встречный ветер
В лицо раскрытое
Облохмачивает
Наши лица.
Звонко-кованый
Быстрый поезд.
Машет мельница
Вдалеке.
Мы уходим
В окно по пояс,
Прижимаясь
Щека к щеке.
Скоро станция.
Ходу сбавило.
– Отодвинься же.
Слышишь, милый?..
На полуслове
Вздрогнула Надя и руку мне боязно
Сжала. И я ей сжал.
С грохотом поезд наш вкопанно стал
Против товарного поезда.
Красные доски вагонов{27} измечены –
Нетто и брутто, осмотр и ремонт, –
Только окошки у них обрешечены
Да через двери – болт.
Красным закатным лучом озарённое,
Вровень над нами пришлось одно
Прутьями перекрещённое
Маленькое окно.
Лбы и глаза и небритые лица –
Сколько их сразу тянулось взглянуть! –
Кажется, там одному не вместиться
Воздуха воли глотнуть.
В грязном поту, в духоте, в изнуреньи,
Скулы до боли друг к другу притиснув,
Глянули злобно на наше цветенье –
Выругались завистно –
Грубо плеснули в лицо нам побранку
Липкой несмывчивой грязью! –
Наш отлощённый состав с полустанка
Тронул с негромким лязгом.
Тронул, но ты-ся-че-ле-тье волок он
Нас! нас! нас! –
Вдоль новых и новых закрещенных окон,
Под ненависть новых глаз.
Резко проёмы вагонные хлопали,
Вот уж мы вырвались, вот уж мы во поле!..
Сумерки. Отблики топки по шпалам.
Низко курилась туманцем елань.
…Но как проклятье в ушах звучала,
Но как пророчество не смолкала
Та арестантская брань.
«Нет, не тогда это началось…»
Нет, не тогда это началось, –
Раньше… гораздо раньше…
В детстве моём обозначилось,
В песнях, что пели мне, няньча, –
Крест перепутья
Трудного,
Скрещенных прутьев
Тень,
Ужаса безрассудного
Первый день.
Книг ещё в сумке я в школу не нашивал,
Буквы нетвёрдо писала рука, –
Мне повторяли преданья домашние,
Я уже слышал шуршание страшное –
Чёрные крылья ЧК.
В играх и в радостях детского мира
Слышал я шорох зловещих крыл.
…Где-то на хуторе, близ Армавира
Старый затравленный дед мой жил.
Первовесеньем, межою знакомою
Медленно с посохом вдоль экономии{28}
Шёл, где когда-то хозяином был.
Щурился в небо – солнце на лето.
Сев на завалинке, вынув газету,
Долго смоктал заграничный столбец:
В прошлом году не случилось, но в этом
Будет Советам
Конец.
Может быть, к лучшему умер отец
В год восемнадцатый смертью случайной:
С фронта вернувшийся офицер,
Кончил бы он в Чрезвычайной.
Наши метались из города в город,
С юга на север, с места на место.
Ставни и дверь заложив на запоры
И ощитивши их знаменьем крестным,
Ждали – ночами не спали – ареста.
Дядя уже побывал под расстрелом,
Тётя ходила его спасать;
Сильная духом, слабая телом,
Яркая речью, она умела
Мальчику рассказать.
В годы, когда десятивековая
Летопись русских была изорвана,
Тётя мне в ёмкое сердце вковала
Игоря-князя, Петра и Суворова.
Лозунги, песни, салюты не меркли:
«Красный Кантон!.. Всеобщая в Англии!» –
Тётя водила тогда меня в церковь
И толковала Евангелие.
«В бой за всемирный Октябрь!» – в восторге
Мы у костров пионерских кричали… –
В землю зарыт офицерский Георгий
Папин, и Анна с мечами.
Жарко-костровый, бледно-лампадный{29},
Рос я запутанный, трудный, двуправдный.
1.Закон суров, но это закон (лат.).
47 769,11 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
12+Litresda chiqarilgan sana:
25 may 2016Hajm:
541 Sahifa 3 illyustratsiayalarISBN:
978-5-9691-1357-2Noshir:
Mualliflik huquqi egasi:
ВЕБКНИГА18 seriyadagi kitob "Собрание сочинений в 30 томах"