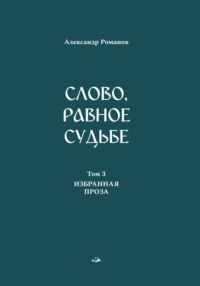Kitobni o'qish: «Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза», sahifa 2
Дионисий в Ферапонтове
«…И написаша чудно вельми»
(глас летописи XV века)
Дионисий! Уже более двадцати поколений русских людей прошло-протекло в тихой радости его икон и фресок. Благочестие обретало в них силу подвига, невежество отрешалось от смятения духа, а безверие задумывалось, изумлённое красотой христианской веры. И по сию пору в имени и творениях Дионисия светится эта чарующая неотразимость. Синодики не упоминают ни года, ни места его рождения и кончины, словно бы даруя ему изначальную вечность. Лишь древние летописи, да редкие иконы, да ещё стены собора Рождества Богородицы в Ферапонтове, чудом уцелевшие от погибели в большевистское безвременье, хранят деяния великого художника. Да в Кирилло-Белозерском художественном заповеднике есть ещё туманный синодик, из которого ясно лишь одно, что Дионисий был знатного происхождения.
У каждого человека, радеющего за Россию, своя встреча с Дионисием. Каждый волен представить и понять его по-своему. Я же впервые пришёл в Ферапонтово ранней весной лет тридцать назад, и храм открыл мне тяжёлым амбарным ключом инвалид Отечественной войны Валентин Иванович Вьюшин. Надо поклониться памяти этого сурового подвижника, жившего на нищенской зарплате, но спасшего храм от окончательного разора. В его смуглой худобе, в огненности тёмного взора, в стуке деревянной ноги по камням монастырского двора – во всём непреклонном облике Вьюшина просквозили для меня благородные мужицкие черты из времён Дионисиевых. И он открыл туда тяжёлые врата.
Лишь ступил я под своды, как храм объял меня со всех сторон такими живыми взорами, что я смутился от прямоты и близости их. И дивным показалось, что и опустошённый храм не был пуст: в нём длилось безмолвное таинство и моление скорбящего Духа. Вглядываясь в лики святых, я присмиревшей душой осознавал, что вот и я, пришелец из безбожного мира, не чужд им, и на меня нисходит их тихое благословение. И было необъяснимо радостно оттого, что в холодном этом храме от Дионисиевых росписей исходили золотистые веяния, ощущаемые мною как прикосновение тепла. Откуда же бралось это тепло, если стены – лишь тронь – были так студёны? Но эти чуть уловимые токи, возникавшие словно бы от незримых крыл, и впрямь касались моих надбровий, когда я вглядывался в проливной свет летевших надо мной ликов.
Я вскинул взгляд в надвратное пространство алтаря и замер на месте от пронзившего меня взора Богородицы. Огромные глаза, таившие счастье и муку материнства, казалось, вопрошали с высоты, понимаю ли я жертвенную благодать жизни? И неотступно ширясь передо мной и во мне, эти глаза видели всю мою потайную сущность, и я, может, впервые так тревожно оцепенел, стоя перед неотвратимым ясновидением. Право же, в тот миг я вовсе позабыл, что это – всего лишь огромная фреска, творение рук человеческих, а не развёрстые божественной силой небеса.
И белые блики, всё более и более сиявшие из глубины тёмных зрачков, и задумчивая молитвенность лица, обрамлённого лиловым хитоном и склонённого с живым участием ко мне, как и к любому, входящему в храм – вся озарённость Богоматери с младенцем Иисусом на руках была прямо-таки пронизана каким-то таинственным магнетизмом, который я ощущал как тёплые круги восходившей во мне радости. И давнее, первоначальное это видение Богоматери потом уже постоянно всплывало во мне в минуты горьких житейских неурядиц. И много раз возвращался я в Ферапонтово, чтобы прикоснуться к этой живописной тайне Дионисия.
Подобное же впечатление живой яви исходило на меня и от образа Николая Чудотворца. Я с детства помнил его, старичка с белой бородкой, затрапезно жившего у нас в кухонном уголку, на тусклой иконке. А здесь, в храме, он возник в золотистом нимбе и глянул в меня оберегающе, и повеяло в душу покоем, а белизна седин его коснулась ресниц моих ласковой святостью. И сразу вспомнилось мне своё детство, и увидел я там, как дед с бабушкой жарко крестятся перед кухонной иконкой и просят заступничества у него, святого Николая-угодника.
Моление на Руси – очистительное таинство человеческого духа. Оно не только испрошение помощи у Бога, покаяние перед ним или благодарение его, а первей всего собирание в себе личных сил, всей моготы своей перед трудным делом или опасной дорогой. Это и светлое напряжение собственного ума-разума, и беспощадное осуждение в себе дурных слабостей, и жаркое – в слезах – поименное поминание умерших или убиенных на войнах родных чуть ли не до третьего колена. Да, моление на Руси – это выявление в себе духовной жизнестойкости. Но народ наш не так-то прост, не зря же изрёк: «На бога надейся, да сам не плошай». Однако народом же и замечено, что даже самое тяжкое усилие всё же легче даётся верующему человеку, ибо оно, сопряжённое с молитвой, вдвойне и жарче, и плодотворней в своём свершении, нежели то же самое усилие для человека сугубо высокомерного, с выстуженным сознанием атеиста. Ведь атеизм – это наукообразный гололёд: редкие безумцы проходят по нему, не заморозив души или не свихнув головы. Но атеизм ещё и злобный оборотень: сживая со света православную религию, сам же и утверждается на место её как религия уже политических догм, а может, и ересей, сродственных с теми, какие яростно внедряла на Руси в XV веке тайная община еретиков во главе с неким Сахарием.
И Дионисию в ту пору была, конечно, ведома их пагуба, творимая в кругах Московского и Новгородского духовенства, их соблазны и искушения телесностью, питиём и златорадением при дворе царя Ивана III Великого и среди полоротых мирян. И не оттого ли он, Дионисий, самый именитый на Руси изограф, по первому же зову бывшего ростовского архиепископа Иосафа кинулся из развращённой Москвы в далёкую и безвестную Ферапонтову обитель, чтобы изукрасить в ней «чудно вельми» собор Рождества Богородицы. И укрепить душу и волю свою сокровенной близостью с теми старцами Кирилло-Белозерского монастыря, которые призывали мирян и братию к нравственному самоусовершенствованию и указывали им путь к нестяжательству и духовному самоочищению «через умное и сердечное делание».
Среди них мудрейшим был Нил Сорский. Он вталкивал в пошатнувшиеся от ересей умы, что «съсуди злати и сребрени и самые священные не подобает имети для алчбы, тако же и прочая украшениа излишня». И ушёл, непримиримый, из обогащавшегося землями и золотом монастыря, чтобы со своими единоверцами Гурием Тушиным и Вассианом Патрикеевым обустроить в двадцати верстах от Ферапонтовской обители на речке Соре свои «нестяжательские» скиты. Нил Сорский был терпеливым наставником людей в их слабостях и скорбях мирских. Он не видел греха в том, что если человеку не по силам указанный путь, то надо, как он советовал, «преложить помыслы на иную некую вещь Божественную или человеческую» и заключил: «но горе нам, яко не познаем душ наших, не уразумеем, в кое жительство звани быхом…»
Каким суровым упреком нам, и впрямь не разумеющим, «в какое жительство мы званы были», доносится из ХV века голос, увы, незнаемого нами по невежеству своему великого соотечественника. И неведомо нам, что когда-то на Руси жизнь людскую утверждали «через умное и сердечное делание». И не расписывали её по пятилеткам, а вседневно и всеучастливо вкладывали свои труды в неделимость времен и в будущее шли, как в подвиг. Вот Нил Сорский. Вот Дионисий… А мы-то, нынешние, до того испоганились, измельчали, предали своё великое прошлое, что ни о каком духовном самоусовершенствовании и думать не желаем. Лишь по рабской привычке опять надеемся, что жизнь на Руси наладится кем-то и без нашего «умного и сердечного делания»…
Вот пишу это и, право же, чувствую на себе чей-то пристально укоризненный взгляд, наплывающий издалека, из-за вологодских лесов, может, из времен Дионисьевых. И силюсь уловить и понять его, но исстаивает он, чтобы возникнуть заново с ещё большей тревогой. Уж не зов ли это в дорогу? Туда, опять туда, где Дионисий «со чадами», сыновьями Феодосием и Владимиром с 6 августа по 8 сентября 1502 года свершал главный свой подвиг – великопразднично расписал новый храм Рождества Богородицы. Он так озарил его своей кистью, привнес под каменные своды столько мягкого света, нежной лазури, ангельского простора, что новый храм в Ферапонтовской обители предстал перед прихожанами и монастырской братией воистину Собором Великого Материнства. И это деяние исполнено было за дивно короткий срок – всего за 34 вдохновенных дня. Вот взлёт гения!
И бродим мы здесь с художником Евгением Соколовым. Он здесь давножитель. В деревеньке Леушкино на Цыпиной горе гостеприимно гнездится в яблоневом саду дом его крепкий, старопрежний, а в доме холсты с зорями и закатами, с куполами и озёрами Ферапонтовской Руси. Он, кажется, первый из вологодских художников дерзнул испробовать Дионисиев опыт: писать местными красками. В его мастерской собрано тысячи камушек – и всяк со своим тоном и вызовом. Растирай да пробуй! Но дело это трудное, даётся не всякому. Евгений Соколов сумел его понять, освоить, и потому так свежо запечатлел на своих полотнах «Прощальная пора», «Бородаевское озеро», «Ферапонтово», «Ольгина роща» очарование тишиной и задумчивостью о минувшей жизни.
Николай Рубцов, любивший гостить у художников на Цыпиной горе, зримо и тонко выразил это духовное состояние природы.
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте…
Цыпина гора, исхоженная в XV веке великим Дионисием – ныне задушевное пристанище вологодских художников, их потайной Олимп, скрытый в лесах от чёрного сглаза. Там на самом солнечном взъёме, в деревеньке Гора, у столетнего дуба, рассечённого молнией, но воспрявшего уже двумя стволами ввысь, притих дом другого художника – Владислава Сергеева. Он известен как тончайший график, заставляющий всякую свою линию светиться и петь. Его знаменитые листы «Воспоминание о Ферапонтове», «Озеро», «На качелях» овеяны летучей красотой и неизъяснимым трепетом русской жизни. Право же, в них что-то от фресок Дионисия – вот эта округлость и стремительность линий, таящая в себе энергию чуда…
Но чу! Из-за Ильинского озера, из-за Бородаевского, с Ферапонтова холма плывёт по всей округе колокольный звон. Люди выбегают из домов и затихают в радостном изумлении. Леса, поля, холмы древние и воды тростниковые – вся земля окрест внимает этому торжественному благовесту, случившемуся впервые за последние глухих полвека. И мы торопимся туда, в Ферапонтово.
И узнаём, что на звоннице Собора Богоматери установлены колокола, отлитые в Воронеже кооперативом, и завершены приготовления к пуску старинных церковных часов, изготовленных русскими кузнецами в 1635 году. Они старше Кремле́вских курантов и древнее их в России ныне уже нет. Восстановил же их талантливый инженер из института ядерной физики Юрий Петрович Платонов. Приехал он однажды в Ферапонтово, увидел на часовне полюбившегося ему Дионисьева Собора разбитые древние часы и загорелся упорством восстановить их. И восстановил, и связал их механизм с колоколами – и всё это сделал совестливо и бескорыстно. Вот оно, «умное и сердечное делание»!
Звон новых колоколов и ход старинных часов – это ли не радость Ферапонтова! Но она горько омрачена нравственной глухотой властей, отказавшим наотрез здешней общине верующих молиться хоть в какой-нибудь из четырёх ферапонтовских церквей. Будто монастырь этот строился и созидался на протяжении веков не для духовных служб и нравственного оздоровления народа, а лишь для музейного поглядения. И любые резоны в защиту «чистой» культуры и отчуждения верующих от этого искони церковского места святотатственны и противонародны.
Вот тут, пожалуй, и задумаешься о том, что Дионисий – великий художник не столько нашего прошлого, сколько нашего будущего, ибо его божественная светоносность может оказаться необходимей, чем прежде, в предстоящие годы для одичавшего в безверии и погибающего в нравственных язвах русского народа.
1995
«Дионисий» Валерия Дементьева
Бродил я не раз по холмистым берегам Бородаевского озера, силясь своим воображением заглянуть в год 1501. И уже мерещилось мне, будто и впрямь вижу самого Дионисия, остановившегося в раздумье на озёрном приплёске – только вот лицо его затенено вскинутой ладонью. Вот-вот сейчас он опустит руку, и лицо увижу… Но на месте этом оказывалась ёлочка в тёмном монашеском одеянии…
В человеке неодолимо живут два устремления – заглянуть в своё глубокое прошлое и своё близкое будущее, чтобы твёрже пройти свой путь и обрести душевное равновесие. Но то и другое – запертые золотые ларцы. Тем упорнее и мучительнее бьётся человеческая мысль, чтобы отыскать ключи к этим золотым ларцам, и если не открыть, то хотя бы полуоткрыть их и раздвинуть над своей дорогой глухую стену времени.
И когда я впервые прочитал повесть «Утешение Дионисия», то сразу почувствовал, с каким упорством искал этот ключ Валерий Дементьев в летописях, в древних письменах и в свидетельствах знатоков иконной живописи. И ему, к счастью, удалось найти этот ключ и полуоткрыть глубину веков. Радостно это чувство – ощутить себя свидетелем, как бы очевидцем столь далёких уже событий и лиц, будто стоишь у деревянной, рубленной в лапу монастырской ограды весной 1501 года или бредёшь по ромашковой тропе возле Бородаевского озера, на приплёсках которого ищет Дионисий охристые, янтарные и голубые камни.
Весенним светом высвечено усталое, белобородое лицо знатного иконника, сухим блеском полны его глаза. Он весь – в думе, властно охватившей его, о своих чадах-сыновьях («как бы не иссякла, не растворилась в мелочах их сила взыскующая, духовная»), о жизни («справедливости, благолепия и мира жаждут люди»), о ремесле своём («дабы потомки не променяли простых речей на краснейшие»). Не краски он клал на влажные стены собора – душу свою положил, думу долгую и мучительную, потому и горение такое в храме. И всё это не на византийский манер, а на свой, русский.
Крупно, зримо рисует Валерий Дементьев жизнь Ферапонтова монастыря в его драматическом моменте. Сталкиваются две разные силы: кликушество в образе юродивого Галактиона, усмотревшего в радостных фресках великого старца смешение божественного с мирским, и сам Дионисий «со чадами Феодосием и Владимиром», выражавшими в иконописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Это извечное борение, мучительное и тяжкое, не минуло и Дионисия. Лишь одним утешением ему служила мысль о своей пользе для Руси.
В горькие минуты он обращался только к Ней… «Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих – князей в златотканых одеждах, святителей в бархатных саккосах, служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых мужиков в сермягах да жёнок их в холстинковых сарафанах. Многолюдна ты, матушка – Русь!»

Дионисий в Ферапонтове. Грав. Г. и Н. Бурмагиных
Определённо можно сказать, что в нашей исторической литературе пока нет более значительного художественного изображения Дионисия и его времени, чем эта повесть Валерия Дементьева. А образ самого Дионисия в двух поворотах, созданный гениальным пером и резцом Генриетты и Николая Бурмагиных, – это истинное чудо.
1995
«В минуте грозы – на столетье беды…»
Поэт Алексей Ганин и его лучшее творение «Былинное поле»
Эта поэма вскипела первыми строками, словно горячими бороздами, в 1917 году, когда по мятежной Руси прокатился наконец-то Декрет: «Земля – крестьянам!».
Алексей Ганин в ту пору только что вернулся из-под Питера, из прифронтового лазарета, в родное Присухонье. Он взахлёб дышал суровой мужицкой волей. И небывалые события, казалось, уже невозможно было выразить речью обыденной, что дедовская стружка – она хоть и запашиста, а выше верстака не вьётся. Требовалась речь прямо-таки поднебесная, озвученная эхом древнеславянских времён, когда Микула Селянинович впервые расчищал нашу землю своей богатырской сошкой. Вот так высоко Алексей Ганин ухватился за Декрет о земле! И в огромное поле своей поэзии гулко вывел внука Микулова для великого праздника – для свободного хлебопашества.
…А в думе у парня:
«Вспахать бы всё поле,
Вспахать бы все горы,
Доехать до края земли,
Где синие рощи в туман
прилегли,
Где вольная воля
И Лады кольцо золотое…»
Это вековечная дума не одного Микулова внука, а и самой Земли, уставшей от людских междоусобиц. Именно поэтому «Былинное поле» так широко распахнуто в космос, так яростно гудит противоборством вселенских сил добра и зла. Но Алексей Ганин, в отличие от пролетарских поэтов двадцатых годов, вздымавших молоты и маузеры до звёзд, свой космизм «выпахал» в поле русской мифологии, в том поле народных верований, по которому впереди него шли Сергей Есенин, Николай Клюев и Сергей Клычков.

Казалось бы, в образе былинного пахаря уже не таилось поэтической свежести, однако Алексей Ганин нашел её: он живописует не лик, а движение Микулова правнука. Под горизонтом, как под сводом времён, вырастает пахарь из земли. И всё ближе, всё крупнее, всё громогласнее движется к нам, сегодняшним. А сама поступь богатыря крупнит и всю сопутствующую ему жизнь. Вот откуда исходит свет поэзии – из трагизма движения. Может, потому и много в России поэзии, что горя в ней, терпеливой, много! Но разве в этом наша судьба?
Вот и правнук Микулы окликает с холмов захудавшее крестьянство:
…Где вы, соседи, запечные люди,
Древнюю ширь не пора ль расчищать?..
Гей, одевайте рубахи багряные,
Неба синей одевайте порты!..
Сварба сегодня великая будет…
Сварба – значит свадьба, но у Ганина это слово искромётнее звучит именно в вологодском произношении. Сварба – красование любви на миру. Сварба – хмельное эхо счастья. Сварба – порыв к совместному труду жизни. Но кто же невеста у правнука Микулы? А невеста у него – Лада-Заря! Образ, понятно, символический, вроде бы в духе двадцатых годов, когда Россия, «кровью умытая», на каждом перекрёстке бинтовалась красной символикой. Но Алексей Ганин знал, что новая символика, яростно низвергавшая христианский крест, зажигала в себе тайные знаки, заимствованные в других землях. И в противовес остроугольности этих символов Ганин в своей поэме широко распахнул красоту русской поэтической традиции.
Верят простодушные мужики в скорую сварбу Микулова правнука и Лады-Зари, как в новую жизнь.
…Сошками в земле ковыряются,
Ладу на поля дожидаются,
Чтобы высватать красоту за лапотника,
А небо и землю взять в приданое…
Взять в приданое небо и землю – такой помысел мог возникнуть лишь в людях работных и мирных, не склонных к захребетной наживе, – ведь в думах у них не сундуки с золотом, а именно земля – для просторного труда, а небо – для высокого благовеста.
…Кипит говорливая пахота
Не от той ли силы немеренной,
Что оставили деды на пахоте
До поры, до урочного времени…
И продлись такое обнимание с землей, Россия, нищая от войн и революций, скоро обрела бы спасительный взъём жизни. Но вот тут-то на мужицкую волю и навалилась тайная воля тех, кто думал о России всего лишь как о запале для мировой революции.
Мужики ещё не видят, не чуют, что над мокрыми их вихрами уже запокачивались тучи ненависти.
…Набежали из-за моря чёрные,
Завели хороводы по заполю,
Карманы с громами повыворотили,
Нависли над сёлами – тяжельше гор,
Гаркнули голосом во все стороны:
– Гей вы, други-вихори, ветры буйные,
С каких это пор
Лапотники тучам не молятся?
Али каждый лапоть боярином стал?
Али пых из вас, выхори, выдохся?
Вскиньте поле, как скатерть немытую
Мужичье тут и само рассыплется,
Будто крохи от хлеба вчерашнего…
Вот она, мстительная директива на погромы крестьянства! «Былинное поле» Алексея Ганина – трагическое прозрение великого обмана. Поэт недолго радовался Декрету о земле: тяжкие стоны присухонских деревень, обложенных непосильной продразверсткой, и волчьи налёты на них продотрядов вологодского губернского комиссара Элиавы, этих баскаков нового ига, – всё то, происходившее на глазах поэта, настолько обострило его видение, что за разорением крестьянства открывалась ему и более глубокая подноготная: лишение русского народа национальной самобытности и будущности.
Именно ради этой давно вожделенной цели сперва была пущена в ход теоретическая мысль об извечной мелкобуржуазности крестьянства, а затем спущена и директива о физическом уничтожении под видом «кулачества» его самых лучших, самых производительных слоев. Ни одно государство в мире при любых превратностях судьбы не уничтожало своего кормильца – крестьянство. Это сделано лишь в России для её самоуничтожения.
Но многие люди и поныне не догадываются об этом – вот насколько мы отупели умом и оскудели предчувствием, что даже вблизи не различаем того, что Алексей Ганин видел и понимал уже в 1917–1923 годах.
Но ведь не зря говорят, глупые в работе трижды святы. Ещё не ведают мужики, что Декрет – обман, что власть пролетарская – гибель крестьянская, ещё горят их руки от сошек, однако вокруг уже что-то переменилось.
Поле древнее вдруг призадумалось
По буграм, по морщинистой пахоте
Прокатились, под горками замерли
Думы грустные – тени широкие.
Какой всеохватный образ! Это уже озноб беды. Уже рывок к схватке. И пахари дерзко ответствуют тучам: уж не захмелели ли они от кровавой испарины, уж не от пота ли мужичьего их распучило? Ох, русые головы, ещё верят, что вот-вот встретят свою надежду – Ладу-Зарю. И исполнится их мечтание о счастье.
Вот ещё когда – с самых первых лет революции – огромная страна, в основном деревенская, уже была опалена скрытой ненавистью к её верованиям и её народу. Так и не дали народу прийти к «трудолюбному завтрию», так и не сумели мы по сию пору наладить жизнь, «чтобы наши дороги не хлябали». Удивительно: каким предчувствием будущего обладал молодой поэт Алексей Ганин!
Так и не смогли пахари устоять на своей простодушной правде: тучи «выпили свет», заслонили им солнышко. Но страшней всего то, что тучи заточили их мечтание о счастье – Ладу-Зарю – в тёмную клетку (догадывайся: в тюремную!), а вокруг неё поставили чёрных свах да глазастых сов.
И небо поэмы озаряется воображаемой сказкой: вот Месяц на серебряном лосе, вот тучи – свахи с кринками золота и терем ночи, в котором Лада-Заря прядёт взаперти лучистый лён и тоскует о своём суженом. А вот и сам правнук Микулы летит на своём Сивке-Бурке к Солнцу-прадеду на поклон, чтобы вызволить Ладу-Зарю из полона. И песня его о сварбе, как о всеземельном празднике, раскатится в небе поэмы:
…Сварбу мы справили у синего бора,
Косы твои – золотые озёра
Я – а не ветер – тебе заплету,
Дам тебе ленты – межи в цвету.
Дам тебе реки – звенящий бурнус,
Чтоб в красном веселье воспрянула Русь…
И вдруг – обрыв всему: и песне Микулыча, и сказке неба! Разверзлась пропасть обмана, и ухнула в неё крестьянская вера. Злодейство выползло поперёк всех мужицких надежд. Россия почернела.
…Ой, да не тучи, только тучами
Нечисть хапучая прикинулась,
К древнему полю надвинулась…
Теснится с востока, теснится с заката,
За правнуком Микулы гоняется,
Огненные плети раскидывает…
Страшен образ врага, явленный Алексеем Ганиным! Поэт разглядел ещё в зародыше то, чего не сумели понять многие и по сию пору. Зоркость прямо-таки провидческая, а мужество – отчаянное!
…Тут разбойные вихри присвистнули,
Кинулись к пахарям в запыхе злом:
Гей, сиволапые, шапки долой!
Кинулись к Микулычу:
Гей, берегись!
Много задумал – не рано ли?
Кости да погосты – приданое
Будет тебе с этими харями…
Вот вам, мужики, и Декрет о земле… Кладбищенской! Поэма раскаляется от чёрных сил. Подзуживается ими, выползла и вся нежить лесная, рогатая, подводная, болотная, сухорукая, что от века завистью давилась, а теперь эта неработь красной морокой заплавала.
А вот и второй секрет, как овладеть крестьянской силой: сперва потрафить простодушию и думе о мирском счастье, а потом скрутить в бараний рог. Даже по прошествии более шестидесяти лет, как написана поэма, даже при нашей уже затяжной бесчувственности и поныне стужей чудовищной демагогии дует от такого Декрета.
…В думах мужичьих просторно, как в поле:
Гуляй, кому надо, что хочешь топчи,
Только про счастье мужичье шепчи
Да жалобней вякай про горькую долю,
Будут покорны тогда силачи.
Красные речи замажутся сажей,
Сами друг другу могилу укажут,
Сами себе панихиду споют…
Вообще, даже безотносительно к ганинской поэме, лишь поглубже задумаешься о доле нашего крестьянства, то, ей-богу, можешь свихнуться от сатанинской толчеи и несуразности, при которых в страшном притеснении и разграблении пребывала у нас именно эта сила, кормящая державу. За какой аграрный факт ни ухватись – всякий щетинится против крестьянства! И Декрет о земле всего через год уже заменился декретом о её социализации.
Голая политика так ознобила нашу жизнь, что не только закоченела вся мудрость хозяйствования, но и Россия уже перестала существовать как государство. И нас называют всего лишь русским населением, а не народом.
Алексей Ганин и раскрыл в своём «Былинном поле» именно эту зловещую «премудрость» раскрестьянивания. Вот и затянули мужиков в хомуты красных речей. И погасили в них думы о сварбе великой Микулича с Ладой-Зарей, как пустую сказку. В том и состоит третий секрет такой политики.
Думы погаснут – бессилен Микулич,
Ладу забудут – погибнет и конь.
А в покорности дальше своего шага не видно:
…Загукал пенёк о пенёк:
«Эй, паренёк,
Кумачовый умок,
Где ж твоя Лада,
Ситцы и сахар?»
Сами без хлеба, сохи скрипят,
Потом промокло всё поле —
Вот вам и красная воля!..
Безбоязненность поэта поразительна. Предчувствие борьбы безошибочно. Поэтому и вспыхивает в поэме, как афоризм, пророческое двустишие:
Грозу да напасть
не столетьем считать,
Да в минуте грозы —
на столетье беды.
Искрами сыплются эти слова в прожитые нами годовщины. Да, уж к веку подбивает, как борозды наши ползут вкривь да вкось, как спутался с толку народ, как злобой да ленью загажено Древнее поле.
…Да, скоро запрягали, да не туда правили! Теперь-то это хорошо видно, но как из 1923 года ещё не сбывшееся можно было увидеть? И не ошибиться в предсказаниях? И не устрашиться за себя от такой отваги? Вот что значительно для нас в поэте Алексее Ганине!