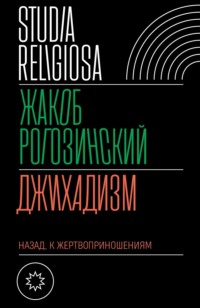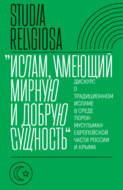Kitobni o'qish: «Джихадизм: назад к жертвоприношениям»
Хочу поблагодарить моего друга Бенуа Шантра, который вдохновил меня на написание этой книги, а также поддерживал и помогал советом все то время, пока шла работа над ней.
Введение
Наш враг – кто он?
Мы, столь долго живущие за горизонтом войны, уже успели забыть, что такое враг. Только когда от пуль убийц стали погибать еврейские школьники и учителя, солдаты, затем журналисты, полицейские и снова евреи в числе многих других – прямо на террасах кафе, в концертных залах, на улицах и в церквях, – мы снова вспомнили значение этого слова. На смену ужасу и оцепенению приходит желание знать: кто этот враг и с чего он так свирепо взялся за нас? За что он нас возненавидел? Всегда трудно отследить «источник» ненависти. Даже появись она без особой причины, ей все равно нужен повод, чтобы развязать себе руки – возненавидеть того, кого она уже ненавидит. Гнушаться мотивами врагов под предлогом того, что они – варвары, нигилисты и сумасшедшие, слишком уж просто. Да и руководит ли ими одна только ненависть? Возможно, ее питают и другие чувства – жажда мести, возмущение, надежда? Пытаясь понять, что движет преступником, мы рискуем простить его – так нам иногда кажется. И тем не менее невозможно бороться с врагом, не принуждая себя узнавать его; тут нет ничего общего с оправданием.
Мы не ошибемся, если скажем, что враг – это «фигура нашего собственного вопрошания»1. Размышляя о новом враге, мы ставим под вопрос «самих себя» как представителей демократических западных обществ. Дело не в том, чтобы ощутить ответственность за ненависть, чьей целью мы стали, или вину за несчастья, на нас повалившиеся: нужно определиться, кем являемся мы сами. Ведь напал на нас отнюдь не чужестранец из далеких земель. Большинство зачинщиков недавних атак в Тулузе, Париже, Брюсселе и Лондоне родились или выросли в Европе. Они живут среди нас – соседи, близкие, братья. Что могло заставить французских граждан ополчиться на собственную страну? Отчего мужчины и женщины, дети мигрантов и так называемые коренные французы, зачастую маргиналы и мелкие правонарушители, но также и студенты, санитары и воспитатели, которые «успешно интегрировались» в общество, вдруг вознамерились истреблять своих сограждан? Что за антагонизмы, упадок и подпольные очаги напряженности объясняют их стремление биться не на жизнь, а на смерть? Противостоять такому врагу невозможно, если мы откажемся разбираться в этом.
И все-таки: кто наш враг? Все ли дело в «исламистском терроризме»? Следует ли винить во всем эту странную напасть – «радикализацию»? Эти расхожие термины лишь сбивают с толку, и нужно время, чтобы они от нас отвязались. Но дело не в том, чтобы просто заменить их другими, а в том, чтобы не попасться на крючок фетишей всеобщего дискурса: придется заставить себя думать иначе, избегая ошибок и путаницы, которые они тиражируют. Такие движения, как «Аль-Каида» и ИГИЛ2, позиционируют себя как последователей экстремистской и фанатичной версии ислама, которую можно, за неимением лучшего, назвать «джихадизмом». Они убеждены, что участвуют в священной войне, «глобальном джихаде», направленном в первую очередь против безбожного, прогнившего Запада с целью его ослабить, дестабилизировать и в конце концов уничтожить. Как можно понять феномен джихадизма – с его внезапным появлением в нашу «просвещенную» эпоху, когда религиозный фанатизм, казалось бы, остался в далеком прошлом? Знаменует ли это «возвращение религии»? Или, скорее, возвращение через религию архаического насилия и жестокости?
Причудливая новизна джихадизма вносит немало путаницы и создает впечатление, что тот принадлежит к историческим феноменам, в которых мы вроде бы неплохо разбираемся. Мы ритуально осуждаем «исламофашизм» или «исламский тоталитаризм», как будто эти определения что-то объясняют. Однако давайте признаем, что предстающее в облике «Исламского государства» нечто остается для нас глубоко загадочным. В чем заключается его государственность? От имени какого ислама оно зовет себя исламским? Одновременно политическое, военное и религиозное, транснациональное и привязанное к территории, архаическое в одних аспектах и современное во многих других, это движение не умещается ни в какие категории. Что до его стратегии и целей, то они ускользают от нашего понимания. Оно сумело быстро захватить обширные земли и несколько крупных городов в Сирии и Ираке, установив там диктаторский режим в соответствии с законами шариата. И вот, вместо того чтобы защищать свою территорию и укреплять «государство», оно бросается в беспощадную битву со всеми представленными в регионе силами и почти сразу же начинает готовить серию нападений на Западе. Столкнувшись с необходимостью противостоять международной коалиции, чьи силы на порядок превосходили его собственные, ему не оставалось ничего иного, кроме как ускорить свое падение. Эта стратегия кажется нам иррациональной и самоубийственной, но что-то же ее направляло? Есть ли здесь связь с излюбленным методом борьбы ИГ – атаками террористов-смертников?
Что смущает в этом движении больше всего, – так это его способность очаровывать тех, кто готов убивать и гибнуть ради него. За несколько месяцев десятки тысяч боевиков съехались со всего мира, чтобы пополнить его ряды, иногда с женами и детьми. Можно ли объяснить это ответом на призыв защищать «угнетенных мусульман» и новообразованный «халифат», и всё? С момента зарождения отличительной чертой ИГИЛ была нарочитая жестокость. А точнее, то, насколько методично они выставляют ее напоказ: не счесть всех пыток, перерезанных глоток и отрубленных голов, сцены с которыми были тщательно срежиссированы и распространены потом в интернете. Что думать об этих отвратительных спектаклях? Симптомом или проявлением чего они являются?
Да, опасность вроде бы миновала: самопровозглашенное «Исламское государство» отступило по всем фронтам, а те, кто к нему присоединялся, мало-помалу возвращаются в свои родные страны. Но есть ли уверенность, что новых нападений не будет? Кто может поручиться, что, когда эта организация будет побеждена, не появится другая – подобно предыдущей, из-под обломков «Аль-Каиды»? Кто гарантирует, что новые очаги джихадизма не возникнут в Египте, странах Магриба или где бы то ни было еще? Даже после военного поражения крах джихадизма еще не окончателен, пока тот сохраняет свою притягательность. И сколько будут сохраняться те условия, что дали ему жизнь, столько долго останется плодоносным чрево, породившее ИГИЛ.
Зачем, скажете вы, писать об этом еще одну книгу? Ведь много уже было написано специалистами в области ислама и «исламизма», выдающимися экспертами по «радикализации», политологами, социологами, психиатрами и психоаналитиками… Констатируем все же, что до нынешнего момента эту тему обстоятельно не рассматривал ни один философ. Какие философские теории помогут нам разобраться в феномене джихадизма? Не довольствуясь бесконечным комментированием собственной истории, философия берется провести диагностику эпохи, выяснить, кто мы такие и что с нами творится. Ломая интеллектуальные барьеры, она хочет избежать близорукости специалистов, запертых в рамках своей дисциплины. В отличие от науки, философия не пытается объяснить феномены, находя им причины, но сосредотачивается на понимании их сути посредством концептов. Для этого она ставит под вопрос обволакивающие их предубеждения и наивные представления, описывая в незамутненном, изначальном виде. Возможно, философский подход позволит нам продвинуться в понимании того, кто наш враг и каковы мотивы его ненависти. Так или иначе, это позволит взглянуть на проблему под другим углом и отбросить дуалистическое видение, столь распространенное у широкой публики и в СМИ.
Для тех, кто во всем хочет видеть лишь бинарные оппозиции, ислам противостоит Западу как варварство – цивилизации, деспотизм – демократии или религиозный фанатизм – просвещенной современности. Назовем эту позицию антимусульманской (нам бы подошел и термин «исламофобия», если бы фундаменталисты не присвоили его себе раньше для стигматизации соперников). Ее предпосылки крайне сомнительны. В первую очередь она считает «ислам» чем-то монолитным и самотождественным, что равнозначно эссенциализму, и не принимает во внимание всего разнообразия сообществ, политических режимов, жизненных укладов и убеждений, которые к нему относятся. И в то же время забывает о гражданской войне внутри ислама, даже нескольких таких войнах (между суннитами и шиитами, джихадистами и другими направлениями ислама…), жертвы которых – по большей части сами мусульмане.
Антимусульманская позиция предполагает, что некая сущность под названием «ислам» радикально чужда и враждебна другой монолитной сущности под названием «Запад». В реальности речь идет не о «столкновении» между двумя чуждыми друг другу цивилизациями, но о линии разлома, которая идет по исламу, да и по Западу – конечно, если мы используем эти термины в широком, а не урезанном смысле, как это часто делают. Рожденный из иудейского и христианского монотеизма при посредничестве греческой философии, ислам неотделим от Запада. Веками играли они в запутанную игру, полную восторгов и взаимного обогащения, но также и кровавых противостояний, завоеваний, крестовых походов и колониальных войн. Одновременно конфликтуя и питая друг друга, они образовали два полюса единой исламо-западной цивилизации с центром в Средиземноморье.
Однако приверженцы антимусульманских воззрений стремятся забыть не столько общую историю, сколько то, что Запад задолжал исламу. Конечно, Европа, как писал Пьер Манан, это «христианский бренд» – к слову, еврейского происхождения, – но в той же степени она имеет и другой источник, Грецию, что подарила ей имя, историческую общность и категории, позволившие осмыслить мир и себя самоё. И ей бы не удалось обратиться к этому наследию без ислама, который внес значительный вклад в его сохранение. Средневековые исламские мыслители переводили и комментировали важнейшие произведения греческой философии и тем самым помогли Европе вернуться к своим корням и открыть свою историю заново. Если ислам – это «другой» Запада, то речь идет о внутреннем другом, знакомом незнакомце, который давно живет с нами и даже в определенном смысле внутри нас.
Сторонники антимусульманской риторики иногда ссылаются на другие религии, якобы более мирные, толерантные и открытые современному миру, чем ислам. Но чаще случается наоборот, и враждебность к нему сопровождается неприятием религии вообще. Реакционный фанатизм, который они вменяют исламу, по их словам – не что иное, как радикальное проявление «обскурантизма», ненависти к Просвещению, культу разума и современной демократии, что в разной степени свойственно всем религиям. Бывает, что под наибольший удар попадают монотеистические религии, основанные на исключительном почитании единственного Бога – что и делает их особенно тираничными и нетерпимыми. Нужно признать, что зверства джихадистов, совершенные во имя Аллаха, заново ставят вопрос о связи религии и насилия. Является ли жестокость неотъемлемой чертой религий, или, напротив, они созданы для борьбы с первобытным насилием, его нейтрализации и сдерживания посредством определенных ритуалов?
Тревога, провоцируемая джихадистской угрозой, вернула французам их былую страсть – а именно враждебность к религии, которая от левой до крайне правой части своего спектра выражается в отсылках к дурно понятой «светскости». Такая враждебность сопровождается удивительной близорукостью: отвергают ли они религию как таковую или только некоторые из них, боятся ли гипотетического «возвращения религии» или безапелляционно утверждают, что гуманизм возвещает «конец религии», – в любом случае, с природой религии они уже разобрались: мистификация, отчуждение, идеология и невроз. Попросту говоря, она несет в себе ложь, одновременно иллюзорную и токсичную. Они не сомневаются в существовании абстрактной «религии» и не задумываются о разнообразии ее проявлений – отношениях с божественным, истиной, политической властью, рационализмом и современностью, которые могут быть очень разными. Однако же именно это ее ключевые свойства, и в них мы постараемся разобраться далее. Являются ли религии «опиумом народа», идеологией на службе угнетателей, или, напротив, они способны поддержать протест угнетенных, сообщая ему смысл и горизонт борьбы? Сводятся ли религии к простым иллюзиям, или же стоит признать за ними некую истину?
Отказавшись задавать себе такого рода вопросы, мы так и не разберемся, что происходит сегодня в мире ислама. Мы говорим, что убийцы – «нигилисты», то есть люди, которые ни во что не верят, но они-то считают себя верующими, правоверными. Они действуют от имени ислама, а ссылки на тексты Корана и хадисов (рассказов о речениях и деяниях, которые традиция приписывает Пророку) считают достаточным оправданием для своих преступлений. Если они сами представляются «бойцами исламского государства» и заявляют, как братья Куаши3, что хотят отомстить за Пророка – почему бы нам не принять это всерьез? Зачем приписывать им другие мотивы, не имеющие ничего общего с религией? Даже если их мотивы коренятся в личных несчастьях и социальных проблемах, нельзя игнорировать тот факт, что проявились они именно в поле религии, что им пришлось исламизироваться, прежде чем воплотиться в жизнь. «Исламизация» гнева, протеста и ненависти – эффект не случайный. В исламе должны быть определенные черты, способные запустить диспозитив джихадизма и позволяющие вербовать адептов.
Иногда мы говорим, что джихадизм – следствие колониализма. Сложно найти более наивное «объяснение». Жестокость и высокомерие европейских колонизаторов испытали на себе все народы Америки, Африки, Сибири; некоторые добились независимости путем вооруженной борьбы. И только в исламском мире из всего этого вырос диспозитив террора, поставивший себе целью уничтожение Запада. Просто так это случиться не могло. Очевидно, что диспозитив террора не чужд исламу – он объясняет себя через него, заимствует его язык и содержание. Джихадизм всецело принадлежит исламу, хотя и не составляет его подлинную суть. Такова одна из его сторон – определенно малопривлекательная – наряду с прекрасной духовностью суфиев и рационализмом Аверроэса. Но, как мы увидим в дальнейшем, это отнюдь не значит, что она столь же легитимна, как другие течения в исламе.
Многие по-прежнему отказываются признавать какую-либо связь джихадизма и ислама. То есть на антимусульманскую позицию находится ответная, не менее распространенная. С каждым новым нападением, с каждым новым преступлением джихадизма ее приверженцы все глубже убеждаются, что у него «нет ничего общего с исламом». И можно понять, когда это мусульмане, искренне осуждающие террор: в них говорит желание отстраниться и отвергнуть то, что представляется жуткой карикатурой на их религию4. Но когда такую позицию продвигают ответственные политики или интеллектуалы, этого понять нельзя. Тогда она не выражает ничего, кроме отрицания, настойчивого отказа узнать или хотя бы назвать своего врага по имени.
Подобное отрицание опирается на странный, выдуманный западными экспертами и для Запада термин «исламизм». Крохотный «-изм» будто бы позволяет отделить зерна от плевел и развести ислам, религию «мира и терпимости», и этот жуткий исламизм, повинный во всех наших бедах. Увы, в мусульманском мире такое разграничение едва ли применимо – в первую очередь по той причине, что арабский язык не отличает «исламистского» от общепринятого «исламского». Само понятие «исламизм» – попросту жупел, избавляющий нас от необходимости искать связь между джихадизмом и мусульманской религией. Поэтому для обозначения тех мусульман, которые претендуют на возвращение к основам ислама, я предпочитаю термин «исламский фундаментализм». Это выражение отсылает к самым разным его течениям от ваххабизма в Саудовской Аравии и «Братьев-мусульман»5 до наиболее фанатичных джихадистов и различных направлений салафизма. По крайней мере, оно не отрицает их общую принадлежность к исламу: так же как индуистский фундаментализм остается внутри индуизма, мусульманский не перестает быть частью ислама. Почему нам так сложно это признать?
На следующий день после нападения в январе 2015-го6 наш президент торжественно объявил, что нужно «избегать обобщений» и что эти акты «не имеют ничего общего с мусульманской религией». Несколько месяцев спустя Ален Бадью, пытаясь «осмыслить убийства 13 ноября»7, также заявил, что «было бы неразумно сваливать всю ответственность на ислам». В своей книге «Наша боль уходит глубже»8 он называет убийц обычными бандитами-неудачниками, одержимыми «западными желаниями» – «красивой жизнью», «красивыми тачками, бабками, девицами». В состоянии фрустрации это желание превращается в «фашистскую субъектность» и нигилизм убийцы. Будто он не слышал, что взорваться – отнюдь не лучший способ обзавестись машиной и деньгами… Вместо того чтобы смешивать их с гангстерами и фашистами, лучше задаться вопросом, насколько близок «жертвенный героизм» джихадистов тому, что породило, хоть и на иной лад, революционные ополчения и отряды хунвейбинов. Как бы то ни было, для Бадью все предельно ясно: для джихадистов, утверждает он, «религия – не более чем фасад», «предлог и риторическая фигура, манипулирующая и манипулируемая» какими-то другими интересами. Старая марксистская пластинка: религия – это идеологическая надстройка, отражающая классовые интересы и их же маскирующая. Его не волнует, что она может являться чем-то больше маски и симулякра, питать восстания и говорить об истине и преданности этой истине.
Представляется, что тезис об отсутствии всякой связи между джихадизмом и исламом прямо противоположен антимусульманской риторике. Но мы покажем, что рождает их одно и то же недоразумение. Неважно, хотим ли мы обвинить ислам во всех бедах или, наоборот, оправдать, их изначальное предположение заключается в том, что в религии нет ни капли истины, лишь иллюзии – опасные, но на деле пустые. Это недоразумение пришло из эпохи Просвещения. Начиная с XVIII века европейские интеллектуалы берут за привычку считать религию обманом или в лучшем случае заблуждением. Не придавая ей никакой внутренней значимости, религию всегда объясняли внешними причинами: отчуждением, экономическим базисом, волей к власти, коллективным бессознательным… Будучи иллюзией, религия была обречена на исчезновение, и научный прогресс должен был вскоре рассеять этот пустой фантом.
Но ведь и наивная убежденность, что мы избавимся от иллюзий, покончим с верой и закроем вопрос о религии, – тоже иллюзия. Фрейд, бесспорно, был человеком Просвещения. Он считал себя атеистом и настаивал, что религия – это «коллективный невроз», инфантильная, лишенная будущего иллюзия. Однако у него это не значило, что она является простой ошибкой, поскольку источник этой иллюзии он находил в подавляемых желаниях или потаенных воспоминаниях. Как в неврозах и психозах, в иллюзии религии присутствует «зерно истины»: она свидетельствует об изначальном событии, травматическом воспоминании об учредительном убийстве. Вместо того чтобы навсегда заклеймить религию как ложь, Фрейд предлагает осмыслять ее проявления в некоем единстве истины и иллюзии, где вторая меняет и прячет первую. Изменение играет ключевую роль: я бы сказал даже, что оно – своего рода антитезис изначальной истины, через которую последняя выражает себя. Так, существует истина ислама, христианства и других религий. Это не значит, что всё написанное в Коране, Библии и Ведах является правдой в буквальном смысле: проявляя себя, их истина всегда преломляется и требует интерпретации.
Здесь встают очень непростые вопросы. Если в религиозных представлениях есть доля истины, применимо ли это и к такому направлению ислама, как джихадизм? Мне видится нечто противоположное, а именно – обезображивание истины. Но как это доказать? Как различать в религии истину и искажающий ее антитезис? Ведь джихадизм претендует на звание истинного ислама, единственного наследника изначальной веры, а всех остальных мусульман считает заслуживающими смерти «отступниками». Как нам это опровергнуть? Как разграничить настоящий ислам и тот смертоносный фанатизм, что действует от его лица? На этот вопрос предстоит ответить прежде всего самим мусульманам. И все-таки мы можем сопровождать их на этом пути и вместе с ними задуматься об истине их веры. Цель настоящего исследования – помочь нам, немусульманам, лучше понять ислам и разобраться в том, как отделить его от его же антитезиса. Возможно, оно также позволит мусульманам обнаружить утраченные сокровища собственной традиции – наследие, способное поддержать их в противостоянии чудовищной притягательности джихадизма.