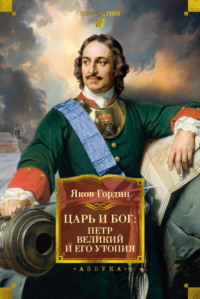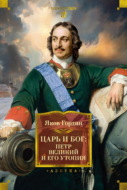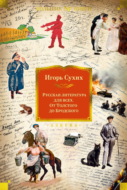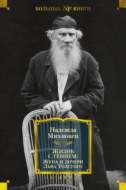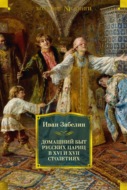Kitobni o'qish: «Царь и Бог. Петр Великий и его утопия», sahifa 7
Для устрашения возможных беглецов или бунтовщиков в рядах армии были предусмотрены самые изощренные наказания.
Исследователь, специально занимавшийся этой проблематикой, писал:
Наиболее эффективной мерой наказания в тех условиях, по мнению Петра, являлась смертная казнь, которая делилась на обыкновенную и квалифицированную. К первой относились: отсечение головы, повешение, расстрел (аркебузирование), которые применялись исключительно к военным преступникам. К квалифицированным видам смертной казни, применявшейся за наиболее серьезные преступления, относились: четвертование, колесование, сожжение, посажение на кол, залитие горла расплавленным металлом.
Значительное распространение имели калечащие наказания. К болезненным наказаниям относились: битье кнутом, батогами, плетьми и розгами. Число ударов законом не определялось, и потому смертельный исход был делом обычным. По существу, это было замаскированным видом смертной казни. Впервые в уголовном праве появилось наказание шпицрутенами 〈…〉. Демонстративные действия устрашающего характера были довольно распространенной воспитательной мерой. Особенно часто они применялись, когда тяжелые условия похода приводили к снижению дисциплины. Так, по возвращении из Прутского похода, по приказу Петра на каждом ночлежном пункте строились виселицы как предупреждение о немедленной казни без суда за попытку побега59.
Но и эти беспощадные меры не обеспечивали полной надежности армии.
Во время сражений солдаты и офицеры дрались, как правило, самоотверженно, когда ими профессионально командовали, но на рутинную службу и на условия таковой смотрели как на тяжкий крест. Дезертирство, несмотря на все меры устрашения, было подлинным бичом армии.
24 декабря 1708 года (армия Карла XII уже на Украине) Чарльз Уитворт доносит в Лондон:
«17 декабря я имел честь сообщить о чрезвычайной деятельности царя по приведению в порядок дел в Москве: советы собирались ежедневно, без перерыва, военные распоряжения для предстоящей кампании закончены, между прочим сделано распоряжение об организации дополнительного двадцатитысячного войска и пополнения армии тридцатью тысячами новобранцев. Так как прошлого года военных действий происходило мало или, можно сказать, вообще не происходило, можно было бы удивляться, каким образом в полках могла оказаться такая убыль людей, если бы не слухи о беспорядочном ведении дела кавалерийскими офицерами в Великой Польше. Драгун осталось около 16 тысяч из 30 тысяч: рекруты набирались силою, поэтому множество солдат бежало; например, из одного драгунского полка, недавно отправленного отсюда в Петербург, убежало 700 человек; из одиннадцати пехотных полков, расположенных здесь, разве найдется один, который потерял бы менее 200 человек, хотя еще два месяца назад они были доведены до полного комплекта».
Уитворт был вполне лоялен по отношению к Петру и России вообще и не был заинтересован сгущать краски. Его конфиденты снабжали его вполне достоверной информацией.
К 1714 году ситуация стала еще напряженнее, ибо накопилась усталость от многолетней войны, которой не видно было конца и смысл которой не был ясен не только рядовым, но и многим дворянам-офицерам. Великие замыслы неутомимого царя их не увлекали.
6
В январе 1715 года Петр издал уже упомянутый нами указ, который переориентировал внимание охранителей с «похищения государственного интереса», которое он еще недавно классифицировал как государственную измену, на явную государственную измену, на обнаружение прежде всего не воровства, а заговора.
Разумеется, пристальное внимание к малейшим признакам заговора в любой общественной группе отнюдь не было новостью. Но, как свидетельствовал указ, теперь этот сюжет стал особенно актуален.
Понеже многие являются подметные письма, в которых большая часть воровских и раскольничьих вымышлений, которыми под видом добродетели яд свой изливают, того ради повелеваем всем: кто какое письмо поднимет, тот бы отнюдь не доносил об нем, ниже чел, не распечатывал, но, объявя посторонним свидетелям, жгли на том месте, где поднимет; ибо недавно некто подкинул письмо якобы о нужном деле, в котором пишет, ежели угодно, то он явится; почему не только позволено оному явиться, но и денег в фонаре 500 рублей поставлено, и более недели стояли, а никто не явился. Ежели кто сумнился о том, что ежели явится, то бедствовать будет, то неистинно, ибо не может никто доказать, которому бы доносителю какое наказание или озлобление было, а милость многим явно показана, а именно: Лариону Елизарьеву, Григорью Силину за донос на 〈И. Е.〉 Цыклера и 〈А. П.〉 Соковнина, також и Михайлу Фектистову, Дмитрию Мельнову за донос на Щагловитого и прочим им подобным, которые доносили сами, какая великая милость показана, о том всем ведомо, к тому же могут на всяк час видеть, как учинены фискалы, которые непрестанно доносят не точию на подлых, но и на самыя знатныя лица, без всякой боязни, за что получают награждение и тако всякому уже довольно видно, что нет в доношениях никакой опасности, того для, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, тот без всякого сумнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому государю или пришед к двору Е〈го〉 ц〈арского〉 в〈еличества〉 объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующем:
1. О каком злом умысле против персоны Е〈го〉 в〈еличества〉 или измены.
2. Возмущение или бунт.
3. О похищении казны, а о прочих делах доносить, кому те дела вручены и как свидетельствует публикованный указ, а писем не подметывать.
Петр
Печатано в Санкт Питербурхе 1715, генваря 25 дня.
Сии указы в Сенате объявил секретарь Алексей Макаров генваря 26, 1715. Таковы ж выставлены в пристойных местах того ж числа.
Это много говорящий документ. Очень характерный для Петра. Вплоть до забавного противоречия в самом начале: если не распечатывать и не читать найденное письмо, то как узнать – важные там сведения или же «воровские вымышления»?
Главное же утверждение, что доносителю в любом случае – подтвердится донос или нет – не грозит никакое «озлобление или наказание», никого не могло ввести в заблуждение. Все прекрасно понимали, что в случае любых сомнений и тот, кто доносит, и тот, на кого доносят, будут отправлены на дыбу под кнут, чтобы выяснить правду.
К этому обману Петр прибегал неоднократно. Астраханским мятежникам было объявлено прощение, их делегацию приняли в Москве, но, как только восстание было окончательно ликвидировано, начались пытки и казни.
Пункт «о похищении казны», который в конце 1714 года выдвинулся было на первый план, оказался вытесненным двумя первыми не только потому, что Петр ощутил реальную опасность. Презрительное недоверие к соратникам, слухи о возможных мятежах (уже не на окраинах), несомненно до него доходившие, свою роль играли. Он, менее всего заботившийся о благосостоянии черного народа, публично стал говорить о том, что из-за грабительства сильных персон терпение народное может закончиться, – это было нечто новое. Все это заставляло его прежде всего задуматься о собственной и государственной безопасности. Не будем забывать о сообщении Маккензи о двух письмах, в которых царя прямо предупреждали об опасности дальнейшего разворачивания репрессий против первых сановников. Маловероятно, чтобы Маккензи это выдумал.
Воздвигнутый эшафот не был использован по назначению, потому что царь начал догадываться о сути происходящего. А суть была в том, что он не смог увлечь своих соратников той великой идеей, ради которой жил. Он, с его живым и безжалостным умом, должен был догадаться, что создаваемая им система только так и может функционировать. Он должен был покупать их лояльность. Уже перед самой смертью, больной, одинокий и озлобленный, он ответит на вопрос генерал-фискала полковника Мякинина: «Обрубать ли только сучья или положить топор на самые корни?» – «Руби всё дотла». Ему уже нечего было терять.
В 1715 году он не мог на это решиться.
Хорошо осведомленный о происходящем вокруг, он понимал, что эти люди, которых он называл предателями и мошенниками, не являют для него смертельной угрозы, пока они враждуют между собой и пока их многообразные интересы не пересекутся на другом носителе легитимных прав.
Он обладал острым чутьем деспота и вряд ли доверял полностью даже тем немногим, которым, казалось бы, верил.
Очень близкий к нему в последние годы Ягужинский, генерал-прокурор Сената, один из столпов режима, в 1730 году просил «верховника» князя Василия Лукича Долгорукого: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли! Теперь такое время, чтобы самодержавию не быть. Довольно, чтоб нам головы секли!» Такова была его реакция на петровскую систему, в которой он занимал один из ключевых постов.
Исследователь, постаравшийся охватить, хотя и конспективно, картину в целом, писал:
«Источники хорошо показывают теневую сторону деятельности коррумпированной администрации, объединяющей влиятельных олигархов и незначительных чиновников. Коррупция была той формой, в которой лучше всего выразилось корпоративное единство бюрократии перед лицом правового контроля. Борьба Петра с коррупцией напоминает при этом сражение с многоголовой гидрой, когда на месте одной отрубленной головы тут же вырастает несколько новых»60.
Особость ситуации состояла в том, что эту «гидру» вырастил сам Петр. Она была органичным нравственно-психологическим порождением его революции. И бороться с ней, не отказываясь от фундаментальных принципов военно-бюрократической утопии, было бесполезно. Но несгибаемо-утопическое сознание Петра не принимало другого пути.
7
В критические месяцы 1698 года, когда вернувшийся из Европы Петр приступил к искоренению стрелецкой крамолы и готовился отправить в монастырь царицу Евдокию, его яростная неприязнь к ней никак не распространялась на сына.
Иоганн Георг Корб, секретарь посольства императора Священной Римской империи, находившийся в это время в Москве, занес в дневник:
«Под покровом ночной тишины царь с очень немногими из самых верных приближенных поехал в Кремль, где дал волю своим отцовским чувствам по отношению к сыну царевичу, очень милому ребенку, трижды поцеловал его и осыпал другими доказательствами своей отцовской любви, после чего вернулся в свой черепичный дворец в Преображенском, избегая видеться с царицей, своей супругой».
Однако по ходу жестокого следствия стали выясняться подробности замыслов мятежников. Поскольку все показания были добыты под пытками, полностью доверять им не следует. Нам в данном случае важна не истинность этих показаний, а то, что хотел Петр получить от истязуемых и что получил.
Имя малолетнего царевича как кандидата на престол в случае победы мятежников постоянно встречается в показаниях наравне с именем царевны Софьи.
Кроме того, появился и зловещий мотив: «У нас на Верху позамялось: хотели было бояре царевича удушить; хорошо, если б и стрельцы подошли». Стрельцы мыслились избавителями царевича от покушения бояр.
Этот мотив повторялся и позже. И до Азова дошли слухи, что «государь покинул царство, уехал за море». О царевиче отзывались почтительно и утверждали, что он во власти бояр, которые хотят его извести. А стрельцы и донские казаки намерены идти на Москву.
В 1698 году монах Дий, вернувшийся из Черкасска в Азов, сообщил дошедшие из Москвы слухи. В следственном деле это отложилось так: «Он, Дий, говорил за трапезою при братье и служебниках, вслух кричал: на Москве-де четыре полка стрельцов и солдаты Преображенского и Семеновского полков, которые посланы были против стрельцов и с ними не бились, порубили всех (начальников. – Я. Г.), а великий государь благородный царевич и великий князь Алексей Петрович окопался на Бутырках».
Позже, в первые годы Северной войны, когда Алексей был уже юношей и отношения отца и сына казались вполне благополучными, в народе стала бытовать легенда о царевиче-«избавителе».
Во время одного из уголовных следствий в 1705 году выяснилось, что среди каторжан ходят слухи, что царь задумал извести своего сына. И в последующие годы в центральных губерниях России гуляла легенда о царевиче-народолюбце.
Известный исследователь народной психологии Кирилл Васильевич Чистов пишет:
«Характерно, что они (рассказы о царевиче Алексее. – Я. Г.) связывают царевича Алексея с булавинцами. Так, в Тамбовском уезде, где крестьяне сочувствовали и даже помогали булавинцам, было распространено мнение, что царевич любит казаков. В 1708 году приказчик подмосковного помещика Ивинского сообщил в Преображенский приказ, что крестьянин Сергей Портной собирает крестьян и рассказывает им, будто в Москве царевич, окруженный донскими казаками, ходит по улицам и приказывает кидать в ров встречающихся ему бояр, а царь ненастоящий, и он не признаёт его царем»61.
В этом варианте легенды Алексей уже прямо противостоит отцу: «не признаёт его царем».
Этот сюжет не случайно отнесен к Москве: в 1707 году, в преддверии вторжения шведов, которые, по имеющимся сведениям, намеревались идти на Москву, Алексей по поручению Петра деятельно занимался укреплением столицы.
По мере приближения и развития кризиса в отношениях отца и сына легенда стала принимать несколько иные и опасные очертания.
В 1712 году в нижегородской вотчине имеретинского царевича Арчила, в доме крестьянина Савельева, появился человек, который сообщил, что он царевич Алексей, скрывающийся от гнева отца. Он пришел ночью и показал на теле некий «особый знак» (вспомним появление Пугачева у яицких казаков с «царскими знаками» на теле). Его арестовали как беглого солдата, но потом выпустили, поскольку крестьяне не сообщили о его самозванстве. Слух о том, что Алексей скрывается от отца, распространился из Нижегородского уезда в Казанский. Крестьяне, сильно рискуя, прятали беглого «царского сына» три года, пока в 1715 году его не выдал священник. Он оказался рейтарским сыном Андреем Крекшиным, был бит кнутом и приговорен к 15 годам каторги.
Историк Николай Иванович Костомаров, автор специальной работы о царевиче Алексее, обнаружил, что после его бегства в народе ходили слухи, что Алексей скрывается «в цесарских землях» и намерен приехать к своей заключенной матери; что солдаты, воюющие в немецких землях, взбунтовались, царя убили; а дворяне, то есть офицеры, хотят привезти царицу Екатерину с детьми из-за границы в Россию и заключить в монастырь вместо царицы Евдокии, после чего на престол взойдет царевич Алексей. Народ радостно повторял эти слухи…62
Разумеется, при том, как был к этому времени поставлен в России сыск и распространены доносы, Петр все это знал.
Есть все основания предполагать – именно в 1715 году Петр мог ясно представить себе, что «предатели и мошенники» в атмосфере массового недовольства и усталости, объединившись вокруг законного наследника престола и обладая финансовыми ресурсами, сравнимыми с государственным бюджетом, представляют реальную опасность.
«Воинский артикул», оформленный в этом году, как мы видели, свидетельствовал о далеко не полной уверенности в надежности армии.
Именно в этот период, как вскоре выявило следствие, самые влиятельные для общественного сознания фигуры (князь Яков Федорович Долгорукий, фактический глава Сената и старейшина мощного родового клана, и глубоко почитаемый в армии и в среде еще достаточно влиятельной родовой знати фельдмаршал Шереметев), человечески и политически симпатизировавшие наследнику, стали тщательно конспирировать свои контакты с ним. Они понимали, что все, кто так или иначе связан с Алексеем, находятся под пристальным наблюдением.
Мы знаем, что нет оснований говорить о существовании реального заговора. Но попытаемся поставить себя на место Петра и взглянуть на зловещую картину его глазами.
«Не знаю, кому теперь верить, всё задумано, чтобы меня погубить, кругом одни предатели».
На этом фоне и появилось роковое письмо отца сыну в октябре 1715 года.
Личность и стиль жизни Алексея, характер взаимоотношений отца с сыном – вся мрачная картина, нарисованная в письме, не выдерживает проверки конкретным фактическим материалом, в первую очередь сохранившейся деловой перепиской (многие десятки писем!) Алексея и Петра, равно как и полным отсутствием соответствующих свидетельств осведомленных современников, главным образом иностранных дипломатов, внимательно наблюдавших за ситуацией в российских верхах.
Сочиненный Петром исторический документ, заложивший основы бытующего по сей день мифа, есть, собственно, грозное предписание самодержца современникам и потомкам: как до`лжно трактовать причины предопределенной трагедии.
Это удивительный документ, обращенный не столько к непосредственному адресату, сколько к городу и миру.
Роковое письмо – не что иное, как продуманное оправдание уже решенной расправы с «непотребным сыном», законным наследником, единственным, кого «предатели и мошенники» могли в кризисный момент – военных неудач или внутренних неурядиц – противопоставить ему, носителю абсолютной власти.
Этот фантастический документ свидетельствует, что в октябре 1715 года судьба Алексея была уже решена.
Глава 2
Миф о «непотребном сыне» и реальная жизнь царевича Алексея Петровича
1
27 октября 1715 года на похоронах кронпринцессы Шарлотты, жены наследника российского престола царевича Алексея Петровича, царь Петр публично вручил царевичу документ под названием «Объявление сыну моему», датированный 11 октября того же года.
Прошу внимательно прочитать этот текст, потому что в дальнейшем нам придется вспоминать его основные утверждения.
Понеже всем известно есть, что пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от Шведов, которые не толико ограбили толь нужными отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (которому делу един Бог руководцем был и есть), о коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей, ради нашего неискусства в войне, претерпели, и с какою горестию и терпением сию школу прошли, дондеже достойной степени вышереченнаго руководца помощью дошли! И тако сподобилися видеть, что оный неприятель, от котораго трепетали, едва не вящее от нас ныне трепещет. Что все, помогающу Вышнему, моими бедными и прочих истинных сынов Российских равноревностных трудами достижено. Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость разсмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследника весьма на правление дел государственных непотребнаго (ибо Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законный причины, но любить сие дело всею возможностию снабдевать и учить: ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию равноверных нам Греков: не от сего ли пропали, что оружие оставили, и единым миролюбием побеждены, и желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемую работу тираном отдал? Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять; но сие воистину не есть резон: ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть: ибо в дни владения брата моего, не все ли паче прочаго любили платье и лошадей, и ныне оружие? Хотя кому до обоих дела нет, и до чего охотник начальствуяй, до того и все; а от чего отвращается, от того и все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, колми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят!
К тому же, не имея охоты, ни в чем [не] обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можеши и как доброму добро воздать и нерадиваго наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон: ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые помнят вышеупомянутаго брата моего, который тебя несравненно болезненнее был и не мог ездить на досужих лошадях, но, имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и перед очами имел; чего для никогда бывало, ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь, не все трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который немного на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славныя дела показал на войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил. Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощию Вышняго насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что Бог дал, бросил)! Еще же и сие воспомяну, какова злаго нрава и упрямаго ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и бивал, к тому ж сколько лет, почитай, не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однакож всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церьковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству. Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный.
В 11 д. октября 1715.
При Санкпетербурхе
Петр
Это удивительное сочинение. Оно кажется возбужденным и хаотичным, но на самом деле все подчинено одной насущной для Петра в тот момент задаче – убедить современников и потомков увидеть сложившуюся ситуацию его глазами и оправдать свои прошлые и будущие деяния.
Он начинает с сюжета, который явно не имеет отношения к поведению царевича, – с изнурительной войны, которую он начал и конца которой не видно.
Шведы «разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли».
Но каким же образом при этом железном «завесе» оказалась в Московском государстве масса иностранных специалистов, особенно военных, еще до воцарения Петра? Как удалось Петру отправиться в Европу с огромным посольством – более 250 человек – и странствовать там, где он считал нужным, вербуя разного рода мастеров, закупая корабли?
Да, страна была отрезана от Балтики, а торговля через Архангельск, весьма активная и прибыльная, не могла удовлетворить потребности растущего государства. Проблема выхода на Балтику, в том числе и с помощью оружия, действительно существовала. Но ни о каком железном «завесе» речи не было. Однако этот миф с тяжелой руки Петра стал общим местом у значительной части русских историков и господствует по сию пору.
Понятно, зачем Петру понадобилась эта предыстория. Именно война была главным содержанием петровской политики, начиная с Азовских походов. Именно война определила темп и характер реформ. Война превратила Московское государство в Российскую военную империю. И Петр, ставший высоким военным профессионалом, переигравший самого прославленного полководца Европы, не представлял себе, чтобы во главе государства не стоял царь-воин.
Алексей явно не годился на эту роль.
Но европейские монархи в этот исторический момент – кроме Карла XII – не были полководцами и доверяли эту роль профессиональным военным.
Когда союзник Петра Август II Саксонский, польский король, пытался эту роль играть, то ничего хорошего не получалось. И другой союзник – Фредерик IV Датский – своей армией не командовал.
Не командовал армиями и австрийский император, дружбы с которым добивался Петр. Никто из английских августейших особ, кроме Вильгельма Оранского, не претендовал на военные лавры.
Пример Людовика XIV, единственного, кого смог Петр предложить Алексею в качестве образца, был примером сомнительным. Сам Людовик ничем не отличился на полях сражений. Длительное время стратегические решения принимал кардинал Мазарини, а непосредственное командование осуществляли блестящие полководцы, среди которых были такие великие мастера войны, как Тюренн, Конде, Вобан, Вандом. Но король действительно превратил Францию в мощную военную державу.
Однако, по сути дела, пример был неудачен. Непрерывные войны, две из которых – война за Пфальц и Война за испанское наследство – были особенно длительными и тяжелыми, разорили Францию и в конце концов не принесли желаемого результата.
Через семьдесят четыре года Французское королевство рухнуло в крови и пламени. И это было не в последнюю очередь отдаленным, но несомненным следствием царствования «короля-солнце» – разбалансированная экономика, непомерно высокие налоги, военные амбиции, бесконтрольность власти.
При Людовике XV попытка следовать агрессивной политике «короля-солнце» окончилась тяжелым поражением Франции и потерей главных колоний и престижа.
Окончательный итог подвела революция.
Но то, что Петр выбрал для неотразимого, на его взгляд, примера именно Людовика XIV – мощная личная власть, огромная армия, постоянные войны, – весьма знаменательно.
Петр наверняка понимал: утверждение, что монарх обязательно должен быть воителем, а генералам следует быть исполнителями его стратегической воли, абсолютно неубедительно. Это был лишь один, и не самый главный, посыл «Объявления».
Главным было другое: создать волевым усилием в глазах современников и потомков образ никчемного, ленивого, непослушного царевича, неспособного продолжить великое дело, ради которого было принесено столько жертв, злонамеренного выученика ретроградов.
И этот замысел вполне удался.
Петровская элита – военная, статская, духовная, которую царь связал круговой порукой, заставив приговорить наследника к смерти, как некогда заставлял свое окружение с той же целью рубить головы стрельцам, – вынуждена была принять этот миф как оправдание расправы.
Более того, декларированное царем представление о никчемном наследнике довольно успешно культивировалось в Европе.
В Тайном государственном архиве прусского культурного наследия хранится весьма любопытный документ под названием «Мемория о царевиче Алексее Петровиче», датированный 1727 годом.
Этот документ отложился вместе с известными «Записками» Манштейна в комплексе, предназначенном для кронпринца Генриха Прусского, младшего брата короля Фридриха II Великого. Он интересовался Россией и, скорее всего, был более доброжелательно к ней настроен, чем старший брат.
Неизвестный автор, вероятно, не был в России и зафиксировал те сведения, которыми его снабдили как официальная пропаганда, так и ходившие в обществе слухи.
Здесь воспроизводим в переводе с немецкого фрагмент этого документа:
Царевич Алексей Петрович, сын царя Петра I и первой его супруги Евдокии Лопухиной, родился в Москве в 1690 году. От рождения он унаследовал все главные и худшие черты своего отца, его характерные гримасы и прочие дурные свойства, исключая только уменье все это хорошо скрывать. Постоянные ссоры родителей стали источником всех несчастий сына.
Ненависть ко всему, что имеет отношение к женщинам, побудила Петра полностью снять с себя заботы об образовании сына, а русская знать, которую возмущали связи царя с иностранцами, а также низкого происхождения соотечественниками и которая тешилась мыслью, что разгульный образ жизни царя в скором времени сведет его в могилу, стала внушать молодому царевичу взгляды, противоположные взглядам его родителя и только укреплявшиеся благодаря несправедливому и унизительному обращению царя с женой на глазах у сына. Когда же Петр со временем назначил для царевича учителей по истории, политике, математике и языкам, у Алексея выработалось такое стойкое предубеждение против всего иноземного, что его не смогли обучить даже началам естественных наук и только силой вынудили освоить немецкий язык.
Более всего царевича возмущало то, что в воспитатели ему был выбран князь Меншиков, которого русская знать ненавидела – как по причине его низкого происхождения, которое не могло не шокировать гордившихся своею благородной кровью родовитых русских, так и в связи с неблаговидными поступками, благодаря которым он смог так высоко подняться. Стремясь сломить гордый дух сына, Петр нанес ему очередное оскорбление, когда приказал ему – офицеру Преображенского полка – встать в караул перед дворцом Меншикова. Все это только подлило масла в огонь, и царевич, судя по его собственным позднейшим признаниям, яростно возненавидел своего отца.
Частые отъезды Петра из Москвы, вызванные войной со Швецией, отвлекли его от участия в событиях, происходивших в его семье, и не позволяли понять причины этих событий.
Почему-то Петр решил, что наилучшим способом «исправить» царевича и излечить его от неприятия всего иностранного может стать брак с какой-нибудь немецкой принцессой, и с этой целью в 1711 году он заставил Алексея жениться на принцессе Брауншвейг-Бранденбургской63, сестре императрицы, обладательнице весьма высоких достоинств. Но царевич к этому времени так закоснел в своих привычках, что не внимал порывам супруги и не желал отвечать на ее ласки, а попытался перевоспитать ее на русский лад и обрек на бесконечные унижения, подробное описание коих может только ужаснуть. Возвращаясь с шумных пирушек, он всякий раз приглашал в супружескую спальню всех своих собутыльников, от которых разило чесноком, и, несмотря на поздний час, поднимал принцессу с постели, заставляя ее приветствовать бесцеремонных гостей и подносить им по русскому обычаю по стакану водки.
Bepul matn qismi tugad.