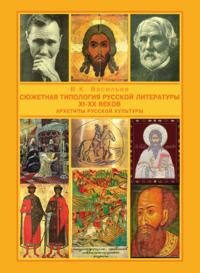Kitobni o'qish: «Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской культуры). От Средневековья к Новому времени»
Посвящается моей бабушке Яновой Кристине (Хрестинии) Семеновне
Введение
Отправной точкой для построения сюжетной типологии в данной работе послужили сюжеты русской агиографии. И это далеко не случайно. Неизменно на протяжении веков в центре внимания авторов разного типа житий находился «внутренний человек», его судьба от рождения и до смерти, душа в высших ее проявлениях (святости), равно как и в самой бездне падения. В этом отношении жития уникальны, опыт постижения человека, содержащийся в них, бесценен. К тому же выясняется, что «агиографическое», «житийное» пространство древнерусской литературы гораздо шире, чем могло представляться до сих пор, равно как объем и глубина наследования житийных образов и сюжетов новой литературой имеет неожиданные масштабы. Они таковы, что их довольно сложно ограничить, вероятен вывод об их абсолютности. То есть агиографическое жизнеописание в буквальном смысле – основа сориентированных на христианскую традицию бесчисленных сюжетов-жизнеописаний (биографий) в новой литературе. (С учетом всех влияний, прежде всего западных литератур, кстати, возросших на той же христианской почве.) О. Э. Мандельштам писал: «Мера романа – человеческая биография или система биографий»1; «Отличие романа от повести, хроники, мемуаров или другой прозаической формы заключается в том, что роман – композиционное, замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц. Жития святых, при всей разработанности фабулы, не были романами, потому что в них отсутствовал светский интерес к судьбе персонажей, а иллюстрировалась общая идея»2. Выясняется, что и роман, и повесть, и рассказ, и драма, – и стихи и проза в «повествовании о судьбе одного лица или целой группы лиц» в «системе биографий» наследуют «общую идею» жития. Установление этой наследственности вполне обнаружимо.
Житийная литература представляется нам недооцененной во многих отношениях, в том числе и как важнейший исторический источник по исследованию ментальной, духовной истории нации.
Попыткой практического разрешения означенных вопросов и является настоящая работа. И если ее название может показаться неожиданным, то объяснимся: оно вытекает из проблем, представляющимися весьма актуальными и существенными для современной гуманитарной науки.
Отсчет научной традиции изучения жанра жития принято вести со времени выхода в свет работ И. С. Некрасова, В. О. Ключевского, И. А. Яхонтова, а это вторая половина 60-х – начало 80-х годов ХIХ века.
И. С. Некрасов в статье «Древнерусский литератор» поставил задачу реконструировать образ «писателя»-агиографа, видя в нем «в полном смысле реалиста», положившего «начало натуральной школе»3. Следующий свой труд он посвятил разрешению задачи выявления и описания «народных редакций» (составленных авторами, «неопытными самоучками») северорусских житий ХV–ХVII веков, полагая найти в них отражение действительности в незатемненном и непреукрашенном виде4. Работы И. С. Некрасова и сегодня оказываются в определенной степени информативными, однако для темы данного исследования их содержание имеет самое косвенное значение5.
Большое влияние на последующее изучение агиографии оказал труд В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871). Молодого ученого подвигло взяться за исследование широко распространенное в научной среде мнение, что жития, находящиеся в сфере внимания церковных авторов, должны быть введены и в научный оборот как новый и ценный источник достоверных исторических сведений6. Результаты, к которым привела попытка В. О. Ключевского подтвердить особое значение житийной северорусской традиции ХII–ХVII веков для исторического источниковедения, оказались неутешительными. «По существу противоречие между названием и содержанием книги парадоксально. Жития святых, выступающие в названии книги как исторический источник, развенчиваются автором как источник в высшей степени недостоверный. Этот парадокс максимально усилен Ключевским…»7. «…Книга Ключевского может быть воспринята как пример поучительной неудачи, неизбежной при неверной научной постановке вопроса»8. Впрочем, авторы цитируемого «Послесловия» говорят и о возможности поворота исследования в другом направлении. «Есть основания полагать, что “Жития” должны были стать книгой об истории “умственного развития”, но выстрел Каракозова (1866 г.) и общее изменение тона журнальных статей представили многие вещи в ином свете и, видимо, побудили ученого оставить свое намерение»9.
Перу Г. П. Федотова принадлежит очерк «Россия Ключевского», в котором содержится много тонких и точных психологических наблюдений над портретом автора «Древнерусских житий…» и классического труда по русской истории. В В. О. Ключевском автор видит сына бедного сельского священника, вышедшего из семинарии до окончания курса, человека, жизненные впечатления и социальные идеи которого были почерпнуты в основном из 1860-х годов. Оттуда же и понимание им «реализма». «Ключев-ский реалист: он враг в истории “созерцательного богословского ведения” и “философских откровений”. <…> Ключевский, с его развенчиванием героев, с его едкой усмешкой, многим приводил на память нигилиста. Правда, делали это сближение лишь для того, чтобы сейчас же его отбросить. Ключевский не нигилист: он слишком широк для этого, слишком верит в “нравственный капитал”. Но метка нигилизма на нем недаром. Через нигилизм он прошел. Вчерашний семинарист, молодой московский студент (1862–1865) с жадностью набрасывается на передовые журналы, увлекается Добролюбовым, Чернышевским, гордится ими как “нашими”, поповичами. <…> Ключевский скоро переболел эту детскую болезнь, но следы ее остались»10. «Он дал в своем курсе целостное построение русского исторического процесса и во вступительных лекциях к нему – основы своей исторической философии. В этом курсе самое поразительное – исключение всей духовной культуры, при стремлении к законченному объяснению “процесса”»11. «…Он не знает сам, что делать с личностью и особенно творимой ею духовной культурой»12. «Марксизм был политическим и радикальным выражением той тенденции интеллигентской мысли, которая в границах научного историзма удовлетворялась школой Ключевского»13. «Образованный читатель <…> в школе Ключевского <…> не узнает, чем была жива Россия и для чего она жила»14.
Показательно название статьи Даниэля Бона, сопоставляющего подход к житиям В. О. Ключевского и Г. П. Федотова: «Житийная литература как исторический источник (Две точки зрения: В. О. Ключевского и Г. П. Федотова)». Итог размышлений автора статьи выражен в следующем заключении: «…труды Ключевского, посвященные русским житиям, явились первым этапом в их изучении – и надо его благодарить за это. Но он остался слепым к внутренней их ценности, определяемой их духовным содержанием. Федотов пошел дальше, открыв ценность житий как источника для изучения русской религиозности. Этим он вписал русскую агиографию в большую историю религиозного менталитета»15.
Негативное отношение к житиям со стороны историков после выхода работы В. О. Ключевского сохранялось очень долго. Спустя почти столетие И. У. Будовниц писал, что «пришла пора реабилитировать “жития святых” в качестве исторического источника и пересмотреть установившийся в историографической практике взгляд В. О. Ключевского на “жития” как на литературные произведения, бедные по содержанию»16. Свидетельством реабилитации темы в науке явились многочисленные публикации, в которых жития рассматриваются как источник исторических сведений.
При обращении к труду В. О. Ключевского обнаруживаются и другие аспекты. И. У. Будовниц внес вполне верное уточнение в его характеристику. «В ходе работы над “житиями” В. О. Ключевский должен был изменить план своего исследования, написав вместо работы по колонизации Северо-Восточной Руси источниковедческий, точнее литературоведческий труд, главным содержанием которого является литературная история каждого “жития”»17. О. В. Творогов справедливо видит заслугу В. О. Ключевского, проанализировавшего 160 русских житий, в попытке «заложить основы подлинно текстологического исследования древнерусской агиографии»18. «И хотя труд Ключевского не потерял своей значимости и до наших дней, приходится признать, что ученый, естественно, не смог один и по существу впервые представить цельную картину жанра, реализованного в сотнях памятников и в тысячах списков. <…> вне поля его зрения остались ценнейшие и богатейшие рукописные собрания»19. «…Если сравнить выводы такого авторитетного исследователя агиографии, каким был В. О. Ключевский, и наши современные представления об упомянутых в его книге житиях, то нетрудно заметить, что не столько совершенство методов современной текстологии, сколько расширение археографической базы разысканий привело к тому, что большинство текстологических представлений ученого полуторастолетней давности в настоящее время либо отвергнуто, либо существенно скорректировано»20.
Книга И. Яхонтова «Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник» появилась десятилетие спустя после выхода труда В. О. Ключевского и по замыслу стала его продолжением. Автор обратился к детальному разбору агиографических текстов, которые в работе предшественника были удостоены беглого обзора21.
Для нас работы названных авторов ценны некоторыми конкретными наблюдениями и выводами. В. О. Ключевский писал, что «древнерусский биограф своим историческим взглядом смелее и шире летописца обнимал русскую жизнь», «для жития дорогá не живая цельность характера с его индивидуальными особенностями <…>, а лишь та сторона, которая подходит под известную норму, отражает на себе известный идеал», «изображения дают лишь “образы без лиц”. И в древнейших и в позднейших житиях неизменно повторяется один и тот же строго определенный агиобиографический тип»22. Ученый рассматривает и составляющие элементы жизнеописания святого23. И. Яхонтов отмечал, что «севернорусские поморские жития написаны по прежним образцам, создавая ряд повторяющихся сюжетов», и дают материал «только разве для изучения идеальных взглядов на подвижничество». Таким образом, оба автора, говоря современным научным языком, подчеркивали «этикетную», каноническую, инвариантную основу жития – единство типа и сюжета, обнаруживая при этом их повторяемость.
В 1902 году появляется труд А. Кадлубовского «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых» (Варшава, 1902). Предметом исследования автор избрал преподобнические и святительские жития Московской Руси ХV–ХVI веков. Он поставил задачу – рассмотрение «житийных легендарных мотивов» и «религиозно-нравственного мировоззрения», которое они выражают24. В качестве важной проблемы А. Кадлубовский называет изучение сходства и различия текстов, генетических основ легендарных фрагментов житийного повествования. К рассмотрению еще одной жанровой разновидности позже обратился Н. И. Серебрянский в книге «Древнерусские княжеские жития» (М., 1915).
Названными трудами в основном исчерпывается дореволюционная научная традиция изучения оригинальной житийной литературы.
В советский период главным препятствием для исследования агиографических текстов явились общественные идеологические установки. Первая литературоведческая монография, посвященная житиям, вышла только в 1970-е годы – это книга Л. А. Дмитриева «Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХIII–ХVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний» (Л., 1973). Автор обращается к «наиболее интересным в литературном отношении новгородским и севернорусским житиям». «Задача книги – исследование житий как памятников литературных. Поэтому особенно много внимания уделяется выявлению сюжетных сторон всех эпизодов жития, определению фольклорных мотивов, отразившихся в житии, установлению устной легендарной основы житийных эпизодов»25. Для наших разысканий эта и другие работы26 Л. А. Дмитриева интересны именно обращением к изучению житийного сюжета и его составляющих. С данной позиции в стороне от темы нашего исследования стоят работы: В. А. Грихин «Проблемы стиля древнерусской агиографии ХIV–ХV вв.» (М., 1974); А. М. Панченко «Смех как зрелище»27; Б. И. Берман «Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его восприятия)»28.
В советский период была проделана огромная работа по изучению отдельных агиографических произведений. Были опубликованы и с разной степенью полноты изучены практически все известные и малоизвестные произведения русской житийной традиции, что заложило основу для типологического изучения агиографических текстов.
С устранением прежних препятствий интерес к изучению агиографии весьма заметно вырос. Сегодня количество публикаций, посвященных опять же в первую очередь отдельным житиям, просто необозримо. Тем не менее в целом текстологическое изучение агиографических памятников далеко от состояния, соответствующего сегодняшним уровню, требованиям и возможностям науки. «Обратившись к древнерусской агиографии, мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: этот жанр, имевший огромное значение для формирования христианского мировоззрения, жанр, один из самых чтимых и самых распространенных в древнерусской книжности, жанр, представленный в литературе нового времени десятками публикаций и сотнями исследовательских статей, в то же время оказывается наименее, сравнительно, допустим, с повестями или летописями, изученным текстологически»29, – пишет О. В. Творогов. В перспективе – необходимость «составления “Свода древнерусских житий” – публикации их текстов по современным текстологическим правилам и с сопровождающими их текстологическими и историко-литературными исследованиями». На начальном этапе следует проделать работу по созданию «“нового Барсукова”30 – каталога списков житий и других памятников, входивших в агиографические циклы»31. «Непременными требованиями к Своду должны стать предшествующее выявление и изучение максимально доступного числа списков (с четким указанием, из каких собраний и фондов произведена выборка), текстологическое и историко-литературное исследование и критическое издание всех основных редакций жития, а также других памятников, входящих в агиографический цикл: похвальных слов, сказаний о чудесах и т. д. В Своде должен быть в конечном счете представлен возможно полный корпус житий русских святых XI–XVII вв.»32. Новый каталог «окажется достаточно репрезентативным, так как охватит, вероятно, около 90–95 % всего рукописного наследия России»33.
Совершенно иная ситуация наблюдается в области типологического изучения агиографических текстов. Типологически жанр жития не изучался очень долго. В 1980 году В. В. Кусков писал, что литературоведами «не проанализированы жанровые разновидности древнерусской агиографии и их эволюция»34. Эти слова оставались актуальными и два десятилетия спустя. Ситуация начала меняться лишь в последние годы. И в этом отношении для нас интересны работы Т. Р. Руди и О. В. Панченко. Из них мы, прежде всего, выделили бы статьи Т. Р. Руди «Топика русских житий (вопросы типологии)»35 и «О композиции и топике житий преподобных»36 (в них обобщены и предшествующие поиски исследовательницы)37 и О. В. Панченко «Поэтика уподоблений (к вопросу о “типологическом” методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии)»38.
Одним из основных понятий, с которым работает Т. Р. Руди, является «топика» («топос»). «Топосом может быть повторяющийся элемент текста, закрепленный за определенным местом сюжетной схемы, – будь то устойчивая литературная формула, цитата, образ, мотив, сюжет или идея. Таким образом, я понимаю термин “топос” как обобщающее, родовое понятие, включающее в себя все те терминологические варианты, которые использовались в науке для обозначения родственных явлений до него: “типические черты”, “общие места”, клише, повторяющиеся мотивы, устойчивые (трафаретные) литературные формулы и т. д.»39. Ср.: «Топос является одним из важнейших способов воспроизведения (и узнавания при восприятии) текста-образца. Одновременно он выступает как элемент содержательного и формального каркаса текста, проявление dispositio. Топос также представляет собой микротекст, образованный рядом словесных формул, в пределах которых было возможно варьирование. <…> Топос агиографический (рождение святого, быстрое обучение грамоте, отчуждение от сверстников, раннее решение оставить мир, пострижение, преодоление искушений и др.) представлял в сжатом виде уже отмеченные особенности жанра при сохранении своей стабилизирующей функции…»40. На наш взгляд, такое понимание топики очень продуктивно и в первую очередь потому, что оно задает четкий типологический подход к предмету. При этом сущность того, что такое «повторяющийся мотив/образ», «типическая черта», «клише», «литературная формула», «общее место» и т.п., возможно определить, только обратившись к текстам. И в идеале новые тексты должны вовлекаться в исследование до той поры, пока каждый топос не будет описан исчерпывающе, то есть вновь привлеченные тексты уже не будут давать новой информации. Можно вспомнить слова автора первого классического отечественного труда по структурно-типологическому анализу текста В. Я. Проппа. Анализируя сюжетную композицию «волшебной сказки», он писал: «На первый взгляд кажется, что необходимо привлечь весь существующий материал. На самом деле в этом нет необходимости. Так как мы изучаем сказки по функциям действующих лиц, то привлечение материала может быть приостановлено в тот момент, когда обнаружится, что новые сказки не дают никаких новых функций»41. «Функция» у В. Я. Проппа – сущностный элемент «сюжета», элементарный топос топоса более сложного. Правило, сформулированное ученым, представляется универсальным. Только вот пространство агиографической литературы несопоставимо по масштабу с пространством «волшебной сказки», и это существенная проблема.
Топос как некое пространство текста – пространство, меняющееся, расширяющееся в своих границах. Начав с мотива или микротекста, мы неизбежно перейдем к структурному изучению пространства эпизода, сцены, далее – сюжета. Каждый топос при таком описании (рано или поздно) необходимо будет объяснить генетически, равно как и проследить его функционирование в историко-культурном процессе, в межсистемных связях. Идея не нова (она неоднократно описана в данных и в других терминах), в применении же к агиографическим текстам все это намечено, а кое-что отчасти и реализовано в трудах многих исследователей. Хотя работа, конечно, необозрима. В конце концов, само пространство культуры, весь ее безграничный контекст есть не что иное, как «топика». То есть предмет остается прежним, меняется подход: он требует строгого научного методаи при этом в буквальном смысле изучения текста по миллиметру, «под микроскопом»!
В. И. Вернадский, определяя суть научного творчества Гёте, писал, что «морфология является новой наукой не по предмету, который был известен и ранее, а по методу»42. В. Я. Пропп следовал идеям Гёте. Структурно-типологический метод, продемонстрированный в его работе43, открыл новые, уникальные перспективы перед гуманитарной наукой. Появление «Морфологии сказки» ознаменовало не просто этап, но поворотный пункт в ее развитии. «Метод Проппа», то есть метод структурно-типологический, обладает колоссальным потенциалом, который, к сожалению, не осознается и недооценивается научным сообществом.
Ситуация с методом в современном литературоведении (да и в гуманитарных науках в целом) довольно сложна в силу ряда причин. Непростой представляется не только проблема освоения теоретических основ метода и самого операционализма, но и проблема отношения к методу.
Самый популярный метод ХХ века – структурализм – в последние годы в определенной степени дискредитирован и «заменен» постструктурализмом и деконструктивизмом44. Однако в дискуссиях о «структурализме – постструктурализме» как-то забывают, что есть еще и проблемы типологии и типологического метода. Это достаточно занимательно, поскольку типология – тот же самый структурализм, только под другим именем! Задача типологии – исследование структуры объектов и явлений, сведение их к единым типам или моделям на основании общности структур. При этом почему-то никому из аналитиков, пользующихся типологическим методом, не приходит в голову объявить эру наступления посттипологии.
Нередко доводится сталкиваться с пониманием проблем типологии как частных, специальных и даже периферийных для науки. Это не так, типологический метод решает фундаментальные задачи выявления и познания законов устройства и функционирования изучаемых объектов. Основания типологии кроются в самой природе человеческого мышления, более того, – в природе мироздания, которое существует и развивается по определенным законам. Мировое искусство, литература как одно из его проявлений – яркое тому подтверждение. Структурно-типологический метод в науке оформляется на основе того, что сам предмет типологичен. Предмет и метод изоморфны, находятся в адекватном отношении друг к другу. В этом ценность метода. Типологический метод общенаучен. «Проблемы типологии возникают во всех науках, которые имеют дело с крайне разнородными по составу множествами объектов <…> и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств»45.
Наличие метода в литературоведении иногда вообще ставится под сомнение. «Если литературоведение – наука, то имеет ли литературоведение научный метод? (Поскольку существует ходячее мнение, будто литературоведение есть досужая болтовня, более или менее терминологическая)»46. Эти слова прозвучали с высокой трибуны – в стенах Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. По сути тот же упрек в более серьезной форме (и адресован он уже мировому литературоведению) высказал В. В. Иванов: «Мировое литературоведение за вычетом отдельных специализированных областей (статистическое стиховедение, нарратология) нуждается в отходе от традиционных и псевдонаучных (деконструктивистских, социологических) штампов. Оно не находится на уровне современного знания (молекулярной биологии, лингвистики, физики). Ему нужно всерьез задуматься над методологическими вопросами…»47.
Кризис и отсутствие метода есть там, где пытаются работать без метода или же представление о нем весьма размыто. Здесь мы согласны с уважаемыми авторами. Но совершенно невозможно согласиться с ними в ситуациях, когда ученым продемонстрированы владение методом и, как правило, соответствующие результаты. То есть проблема опять же заключается не в отсутствии метода в литературоведении.
Метод настоящей работы мы определяем как структурно-типологический. Он успешно применим не только при анализе архаичных фольклорных текстов. «Все волшебные сказки однотипны по своему строению»48 – таков заключительный вывод автора «Морфологии сказки». Но к аналогичному выводу неизбежно приходишь и при изучении разновидностей жанра жития: каждая из них имеет совершенно определенную однотипную структуру. Более того, исследовательская практика доказывает, что и уникальные творения литературных классиков (часто весьма обширные по объему) обнаруживают в своем устройстве те же самые агиографические структуры/сюжеты. Неповторимые классики, оказывается, все-таки повторяются, причем делают это независимо от своей воли и постоянно. В результате выстраиваются типологические ряды, объединяющие произведения самых разных жанров и эпох, и мы видим «с одной стороны, <…> поразительное многообразие, <…> пестроту и красочность, с другой – <…> не менее поразительное однообразие, <…> повторяемость»49. Проблема здесь та же, что и у В. Я. Проппа: мы сталкиваемся с переменными и постоянными величинами в данных сюжетах. Переменными являются персонажи, а постоянными – устойчивые структурные мотивы, закрепленные за ними (большинство из них могут быть названы функциями). Далее читателю настоящей работы придется убедиться в этом наглядно.
Главное в данном случае то, что у метода серьезные перспективы, перед ним огромное поле неисследованного. Так что о кризисе метода говорить совсем не приходится.
Вокруг названных выше терминов – «типология», «структурализм», «постструктурализм», «деконструктивизм» – накопилось множество мифов, и сами они в какой-то степени стали мифами, а в этом качестве проблемой (не всегда осознаваемой) для гуманитариев. Хорошего в этом нет ничего. Даже самый сложный термин должен быть свободен от околонаучной мифологии, насколько возможно прозрачен, понятен и уж обязательно функционален.
По сути мы имеем целый ряд терминов, которые описывают один и тот же аналитический метод (различные его аспекты): «структурный», «системный», «структурно-системный», «структурно-функциональный», «структурно-типологический», «типологический», «системно-типологический». Можно добавить «мотивный» и сюда же отнести анализ «топики». Последний, на наш взгляд, позволяет плодотворно работать и с проблемой интертекстуальности, которая является типологической по своей природе.
Много лет занимаясь проблемами метода, методологии, мы пришли к определенным выводам. Со второй половины ХIХ века (с этого времени процесс становится очень заметным и достаточно продуктивным) в отечественной гуманитарной науке формируется научная методика анализа текста. Процесс ее формирования не закончен и сегодня. Тем не менее выработаны принципы методики, которую мы бы назвали просто (отвлекаясь от всех околонаучных мифологий) типовой. С позиции данной методики текст (объект = мир как текст) обладает структурной природой. Элементы структуры связаны системными, повторяющимися связями. Познание этих связей ведет к возможности открытия законов устройства социума, текста, творчества, мышления, ментальности, глубинной психологии, познания «внутреннего человека» и т. д. Таким образом, речь идет, конечно же, о типовой культурологической методике.
Почему данную методику мы называем типовой? Потому что она общенаучна. И еще потому, что, по нашему глубочайшему убеждению, ею должен овладеть каждый, избравший гуманитарную науку своей профессией.
Не стоит настаивать на абсолюте структур и типологий. Структуры историчны, типологии могут содержать ошибки и уточняться. Важен анализ внеструктурных элементов. На практике мы всегда имеем дело с вариантами структурно-типологических интерпретаций. Типовая методика не должна настаивать на большем, нежели на понимании смыслов в границах семантики и контекстов исследуемых языковых единиц. Необходимо следить за новыми практическими достижениями, вносящими уточнения в область методологии.
Все сказанное открыто для диалога, полемики, корректировки. Тем не менее представляется, что описанный типовой метод и есть тот самый микроскоп, который так необходим гуманитариям в деле познания своего сверхсложного предмета – «внутреннего человека».
Появление этой книги было бы невозможно без помощи многих людей. Хотел бы выразить огромную благодарность моей жене, Елене Васильевой, выполняющей роль редактора, корректора и просто заинтересованного читателя моих работ. Исследование не состоялось бы никогда, если бы на моем пути не встретились Учителя. Их много, не у всех я учился непосредственно, у большинства – по их книгам. Особо хочу поблагодарить Елену Ивановну Дергачеву-Скоп и Владимира Николаевича Алексеева, они открыли для меня, когда-то студента-первокурсника Новосибирского госуниверситета, удивительный мир Древней Руси. Я очень благодарен Виктору Георгиевичу Одинокову, давшему образцы тонкого и глубокого анализа классических текстов русской литературы, который достигается при непременном условии – владении научным методом.