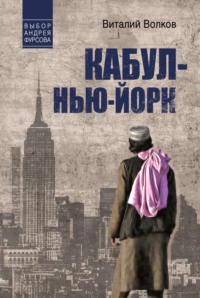Kitobni o'qish: «Кабул – Нью-Йорк»
* * *
© Волков В. Л., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
* * *
Автор выражает глубокую признательность Е. Айзенберг, И. Балашову, В. Ковалеву, К. Коневу, М. Янюк за поддержку при написании книги, сердечно благодарит В. Лукова и Я. Семенова за разностороннюю помощь при работе над историческим материалом, а также отмечает особую роль в создании книги Л. Королькова.
Автор считает необходимым заметить, что при создании книги использован значительный документальный материал, полученный во многом из закрытых источников, однако ее содержание – это не всегда строгое следование фактам, а художественная их обработка. Поэтому как бы ни напоминали некоторые персонажи своих прототипов, читатель не должен поспешно отождествлять книжную реальность с исторической и принимать определенную близость за полное тождество. Задача автора – не калька прошлого, а видение будущего.
* * *
Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека.
Лев Толстой «Война и мир»
Предисловие ко второму изданию
Сейчас в моей жизни ноябрь. Кельнский ноябрь 2006 года. Футбольный чемпионат позади, в Германии будни, да и по всей Евразии тоже. Можно задуматься об истории. История XXI века с наблюдательной вышки сегодняшнего дня представляется такой цепью сущностных событий: она открывается ударом сети бенладенов по государствам бушей 11 сентября 2001-го, проходит через Афганистан и Ирак (Кандагар-Кербела) – и, пожалуй, заканчивается, в здешнем Берлине ударом головой, который нанес французский футбольный гений Зидан в грудь итальянскому оскорбителю Матерацци. И что важнее? Для жизни, для книги?
Передо мной учебник, написанный маститым кинорежиссером. Она о том, как писать книги и сценарии, сообразуясь с законами восприятия. Чтобы задевать внимание того, на кого рассчитан труд творца. Нет, мастер не имеет в виду Бога. Он об искусстве драмы, удобной потребителю, он о знании теории необходимого стресса, возбуждающей в потребителе аппетит переживаний закуской и удовлетворяющей его супчиком, вторым блюдом и финальным десертом. Добрый кулинар ведает путь к гурманству через токи желудочного сока. Она о том, как нас эмоционально вовлечь в конфликт. Он о том, как создавать перед героем барьеры, а в нас вызывать саспенс. Мастер даёт советы. Я снова и снова открываю его книгу.
Правило первое: в конфликте борются ясные, четко выраженные силы.
Ещё одно правило: в конфликте полезно искать столкновения крайностей, таких как ангел и дьявол.
Мастер приводит в пример футбол. Начинается игра, пишет он, и с первой секунды ясно, кто с кем воюет. В белых трусиках ангелы. Это моя команда хороших парней. А эти в черных – враги моей команды. Автор призывает определить «центры добра и зла», а уж потом рассказывать историю. У болельщиков Белых «центр добра» воспален враждебностью к «центру зла».
Нет, маэстро не призывает к упрощению характеров и выводов. Он говорит не о сути, а о профессиональной технике рассказа истории. Зидан в белом, зло – в синем. Или наоборот. Футбольное поле. Ирак. Афганистан. В белом, в черном. 11 сентября тоже? Или тут табу?
И я согласен с мастером. На свой манер… Только свободный, то есть добрый человек способен к принятию не разделенного, а целого. Но только где он, этот человек? Я уважаю опыт мэтра. Он долго жил, много повидал, он талантлив и наблюдателен. И конечно, у него есть основания не признавать за потребителем (искусства) готовности принимать права творца самому меняться по ходу труда, по ходу познания истины. А соответственно, мешать меж собой «центры добра и зла», а то и вообще отказываться от такой огранки.
Я уважаю опыт неверия в Человека. Но у меня такового пока нет. Мне пока еще представляется, что искусство может быть способом увидеть добро целиком, отвоевывая его постепенно, бой за боем, у лжи, у слепоты, все делящей и делящей распаханные поля земли на добро и зло. Что связь со значительным тоже может увлечь «потребителя искусства».
Я внимательно отнесся к советам мастера и, пройдя путь книги, тем более осознаю, с радостью отмечаю, что ни разу не воспользовался ими. У моего героя нет антигероя, и сюжет не развивается в противостоянии белых и черных. Сюжет составляет сам читатель, его противостояние сюжету… Вот такой парадокс.
Я не ожидаю от читателя подвига, но хотел бы апеллировать к зрячему в нем, а не к слепцу, что идет за саспенсом, как наркоман за дозой. Не читателям, а редкому читателю обращаю я свой труд. Редкому гребцу, который на двух веслах переплывет эту реку от одного берега времени до другого. Порой против течения сюжета, но до конца. Такой читатель стоит мессы.
И вот я в кельнском ноябре 2006 года. Моя книга почти закончена. Так мне кажется. Я не стал зрячим, нет. Но может быть, мой герой… Хотя кто он?
Глава первая
Герои идут на запад
Осень, сползающая лавой вулкана
От жерла жизни к ее равнине,
Успеет застыть ли в пористой славе,
Не превратив голубые поля в пустыни?
Интервью Масуда1
9 сентября 2001 года. Северный Афганистан
Интервью? Зачем сейчас интервью? О чем?
Это, может быть, ему надо бы задать им вопрос – это ведь он знает о них, об их жизни, меньше, чем они о нем.
Ахмадшах с возрастом все более привязывался к осени. Ее чересчур раннее в этом году дыхание волновало, но побуждало не к подвигам, а к меланхолии. Хотелось впитывать часы осени так, как впитывает редкие первые капли дождя иссохшийся от зноя песок. Хотелось ценить эти дни высшей мерой, так ценить, как должен ценить миг встречи с небом истинный сын земли. Хотелось жить и хотелось Смерти. И не хотелось, совсем не хотелось тратить святую воду осени на журналистов. Так он и сказал секретарю, рыжебородому Умару: пусть зимой приедут, зимой слов много, как снега… Нет, если и встречаться с журналистами, да и вообще с людьми сейчас, то не для того, чтобы говорить – для того, чтобы слушать. Пусть расскажут, как устроен большой мир.
В апреле, после ещё одной пережитой зимы, Масуд побывал в Европе, вдохнул французского воздуха, глянул в низкое, близкое к людям, почти прирученное небо северной Франции. Даже не глянул, а заглянул за него, словно подглядел за театральный занавес – и уехал обратно, в свой свернутый улиткой гор Панджшер. Он уехал, пребывая в задумчивости от вопроса – то ли он на сцене, а они – там, в зале, за занавесом, ждут от него новых номеров и готовятся к рукоплесканиям или к свисту, то ли, напротив, он один остался в темном зале, а они все за кулисами меняют реквизит. Да, он выстоял ещё одно лето и ещё одну зиму против талибов и выстоит против них ещё и ещё. Ему сейчас обещают помочь те, кто за занавесом, те, кто под серым дном небес. Но они не могут ему помочь в сражении против себя. И не закрыть воронки усталого одиночества, которое ширится, ширится в сердце Льва Панджшера и может засосать, проглотить изнутри всю его Вселенную. Очень одиноко. Одиноко было давно, кажется, что всегда, – но не так, как сейчас. Раньше были часы, но не было времени. Да, были часы, капли осени, брызги весны, были песчинки-люди, то приходившие в жизнь, то уходившие из неё. Но не было времени, от которого он бы чувствовал свою зависимость, о котором бы думал, что оно – уже чужое, уже не его. Не было времени, которого бы боялся пуще смерти, потому что оно погружает его не в череду звёзд и вечных рифм, а в исторический ряд скелетов, совершивших своё, но не спасших мир… Вот и он… Он столько лет держал огромный шар на своих плечах, а теперь усталость. Мир не становится чище. А как он может стать чище, когда столько предательств и вовне его, и, сказать по совести, внутри себя? Нет, по-хорошему, ему бы не с журналистами сейчас говорить, а с великими праведниками. Но они не станут с ним говорить. Тогда – с поэтами. Чтобы хоть на миг сло́ва заглушить стук колёс стального зверя, несущегося на его мир, на его войну сквозь чудную раннюю осень.
Логинов и Кеглер в ожидании интервью
Первые числа сентября 2001-го. Северный Афганистан
Володя Логинов2 торчал в Ходжа-Бахуитдине уже неделю. За дни ожидания интервью с Ахмадшахом и вспомнить свое «афганское прошлое» с двадцатилетней бородой успел, и проклясть Панджшерского Льва вкупе с разведенной им бюрократией, и попить кишмишевки, которую легко добыть у толмачей и проводников.
Логинову перед поездкой казалось, что после долгих месяцев, проведенных в Германии, командировка в прошлое взбодрит его и вытрясет из головы острые, как булавки, прожекты супружеской измены, записи во французский легион и даже возвращения в Россию, на родину. После Москвы в Кельне оказалось скучно, как в Липецке или Твери, так что Ута – молодая его супруга, даже сильно не спорила, хоть и позавидовала, когда не ей, а ему телевизионщики предложили съездить в Ходжа-Бахуитдин, снять эпизод с Масудом.
– Это верно, – она утешила себя, наставляя Логинова, – тебе надо начать здесь с большого, чтобы не ходить в практикантах. Ты все телевизионщикам не отдавай, ты же не на контракте. А на радио вернешься триумфатором, как Цезарь в Рим.
При чем тут Цезарь? Какого триумфа ждала?
Логинов сидел в Ходже, в отвратительной гостинице, в одной тесной комнатушке с оператором Пашей Кеглером, тоже русским (а как же, зачем немцам переплачивать за «своих» да рисковать страховками)? Плевал в потолок шелуху от семечек и громко читал стихи. По большей части Маяковского:
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин…
В общем, мстил немцам. Но немцев поблизости не было, а был Паша да арабы в соседней каморке.
Паша Маяковского не переносил и в ответ читал триумфатору Бродского:
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
Но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции, у моря…
Оператор не производил внешне впечатление человека, одухотворенного скептицизмом Бродского, и эта подмена ролей забавляла Логинова.
Арабы за стеной, как ни странно, к громогласному логиновскому Маяковскому относились терпимо, а вот на вкрадчивый Пашин голос – и от Цезаря далеко, и от вьюги… – разражались раздраженными криками.
– Ну ты погляди, какие антисемиты, – качал головой Паша. – Что они вообще тут делают?
– То же, что и мы, дружище. Ты им предложи водки. Может, смягчатся, как Россия к разному Бродскому? Водка – великий уравнитель Востока, как кольт – Запада.
– Ну да, молятся весь день. Молятся, алла-алла, да на нас ругаются.
– Не на нас, а на вас с Иосифом. Народ пассионариев, им на флейтах водосточных труб ноктюрны больше по душе. А то курица, птица…
– Все равно. Рожи у них не журналистские. Не наши рожи. Вроде братков, только из алжирского слама в Марселе.
– Бывал?
– Ага. Девок они в узде держат крепко, наши против них – шпана, – соврал Паша.
– Не наши, а ваши, – поправил Логинов москвича.
– Вот тогда и читай им Гете. На языке оригинала.
Семь дней ожидания – и запасы Маяковского в закромах логиновской памяти исчерпались. Паша с Бродским торжествовали на беду арабам.
Логинов перешел на Баркова. На душе скребли российские царапучие кошки.
Вот так уехать ни с чем – худшего начала большой журналистской судьбы в Германии и представить себе было нельзя. Но ожидать в Ходже Масуда можно было еще неделю, и еще неделю, и еще, и еще – до полного исчерпания строф и, главное, денег.
Конечно, Паша Кеглер успел снять виды гор, лица афганцев, выпеченные июльским солнцем из древней глины – так и казалось, глядя на массу этих голов, будто двигаются глиняные кувшины. Кто наполнен оливковым маслом, кто – водой, а кто – вообще пуст. Но цель поездки – расспросить Масуда о поставках медикаментов и задать прямой вопрос о наркотрафике – достигнута не была и уже не будет. Так решил Логинов, объявивший в воскресный день Паше: все, уезжаем. Снимаем на память соседей, скажем пару добрых слов секретарю Ахмадшаха, и по домам. В провинцию. К морю.
Паша был настроен еще обождать, но Логинов уперся. К ужасу оператора, он отправился к арабам.
– Мы уезжаем. Его год можно ждать. Вы остаетесь? – обратился он к ним по-английски. Один лишь поглядел на Логинова отстраненным взглядом и отвел глаза. «Под кайфом, вот тебе и Маяковский». Второй, постарше, похожий на боксера, ответил на хорошем английском:
– Жизнь вся – песчинка в вечности. Нам надо увидеть его. Что нам год.
– Успеха желаю тогда. Мы снимаемся, – покачал головой Логинов.
– Аллах акбар.
В крохотных глазах боксера мелькнуло подобие усмешки.
Арабские журналисты у Масуда
9 сентября 2001-го. Северный Афганистан
Через час после того, как Логинов, так и не добравшись до секретаря Масуда, не прощаясь, выехал из Ходжи в направлении узбекской границы, Ахмадшах объявил о своем решении принять четырех журналистов. Из списка тринадцати ожидающих он выбрал только четырех – двух русских, приехавших от немецкого телевидения, и двух марокканцев, прибывших от какого-то нового арабского агентства новостей, но с рекомендацией Ясера аль-Сари, главы уважаемой исламской организации IOC.
Немцев с русскими фамилиями Масуд выбрал в тайной надежде, что кто-нибудь из них выдаст ему секрет низкого европейского неба. Русские – они такие. Не чуждые обобщениям.
Арабов он пригласил исключительно из-за их фамилий: Тузани и Касем Баккали. «Забавная парочка», – отметил про себя Масуд. Тузани в Марокко – это люди искусства и ученые мужи. А Баккали – не потомок ли это великого поэта Касема эль Шебби из религиозной школы «Сиди Амор Баккали»? Тебе хотелось поэзии, осенний Лев Панджшера? Вот она, твоя поэзия.
– Немцы не дождались, уехали, – сообщил военачальнику Северного альянса секретарь Умар.
– Я ждал их дольше. Хорошо. Значит, не судьба мне понять их небо.
– Что?
– Нет, ничего. Не надо журналистов. Займемся делами.
– Что же, и марокканцам уезжать? Зачем обижать аль-Сари? Журналисты всегда были вашим верным оружием. Нашим оружием.
– Как ты думаешь, Шах Нияз, можно принять арабов? – в очередной раз обратился Масуд к начальнику своей личной охраны.
– Незнакомые люди. Темные. Но контрразведка проверила их паспорта и верительные грамоты. И мы можем их обыскать.
Шах Нияз знал, что Масуд не любил, когда охрана обыскивала приходивших к нему, будь то дехкане, воины или журналисты. Он предпочитал ограничивать круг входящих только известными контрразведке и охране людьми.
– Нет. Пусть идут так. Ты же сказал, это опытные журналисты? – обратился он к Умару.
– Так рекомендует их почтенный аль-Сари. Я сам читал его письмо.
– Ты разве читаешь бегло по-арабски?
– Нет, письмо написано по-английски.
– Им нужен переводчик?
– Переводчик? Нет. Они говорят по-французски.
– Ну что ж. Молодость начиналась с Франции. Зови их, Умар. Отдадим им десять минут от Вечности.
Осень, сползающая лавой вулкана
От жерла жизни к ее равнине,
Успеет застыть ли в пористой славе,
Не превратив голубые поля в пустыни?
Когда марокканцев привели в комнату, Масуд как раз закончил разговор с Халили, послом Северного альянса в Индии. Халили попросил разрешения присутствовать во время беседы. Он смотрел, как молодой оператор устанавливает юпитер и камеру, а крепыш-репортер готовит микрофон. Шах Нияз стоял у них за спиной и следил за их движениями чутким глазом. Секретарь тем временем вышел из тесной комнаты.
– Ну что, готовы? – спросил Масуд по-французски. – Что тревожит вас? Каков главный вопрос?
Оператор еще не справился с аппаратурой, но «боксер», не дожидаясь, спросил, глядя в пол:
– Когда вы вернетесь в Кабул, как поступите с Зией Ханом Назари?
Масуд задумался и пристально посмотрел на журналиста. Еще до того, как оператор привел в действие заложенное в камере взрывное устройство, а затем взорвал заряд, укрепленный у собственного подбрюшья, Шах Масуд понял, от кого пришли эти посланцы смерти. Не зря, не зря сердце его ощущало потребность в минутах спокойной осени, равновеликой достойной старости – его последней осени. Не зря душа ждала беды после успехов лета. Его враг-спутник все-таки останется один. Зачем тебе это, Назари? Разве ты готов справиться с одиночеством? Разве ты настолько возвысился в величии мудрости?
До того, как сработало взрывное устройство, он успел сказать:
– Тот, кто нарушит равенство весов, должен знать, как вернуть его вновь!
Убить Масуда
Лето 2001-го. Исламабад
Шеф пакистанской межведомственной разведки МВР генерал Махмуд Ахмад не был в восторге от идеи, предложенной куратором отдела северных операций МВР генералом Мохаммадом Азиз Ханом. Покушений на Таджика Счастливчика кто только не устраивал – и Советы, и Хакматьяр, и талибы, и его же соратники по Северному альянсу. Казалось, он всегда знал их планы за день до того, как таковые возникали в их головах. И засады устраивали, и бомбы подкладывали – сколько агентов потеряли, сколько денег на подкуп ушло! Генерал Ахмад, в прошлом командовавший 111-й бригадой ОСНАЗа, той самой, что сместила Наваза Шарифа и привела в президентский дворец нового президента Первеза Мушаррафа, считал, что на такие деньги, ежели их собрать вместе, вполне можно было бы вооружить полк отменных наемников, запереть Масуда в его Панджшере и оставить северным их север – они и сами там перегрызутся меж собой.
Однако начальник отдела северных операций с жаром убеждал Махмуда Ахмада, что на сей раз план свеж и интересен, он пройдет по новым каналам, где, скорее всего, нет разведчиков Счастливчика и, главное, если этого не сделать сейчас, то Таджик накопит с помощью русских да французов силу, дотянет до следующей осени и тогда все надо будет начинать заново.
Азиз Хан, маленький, быстро потеющий человек с лицом старичка, раздражал Махмуда Ахмада. Изъяснялся он часто загадками и не носил военный френч, словно подчеркивая свою независимость от генерала Первеза Мушаррафа, показывающего пример подчиненным безупречной военной выправкой. Кроме того, куратор отдела северных операций не состоял под началом Махмуда Ахмада, поскольку занимал формально должность заместителя начальника штаба армии3 и как бы опирался второй ногой на военную разведку, где авторитет этого старого лиса был выше, чем у шефа МВР. Хитро, хитро устроена система. Важны в ней функция и цель, не человек. Вот поменяй их с Азиз Ханом постами, что изменится? Ничего. Потому и тасуют их часто – пойди пойми потом, кто принял решение? Нет, зря говорят – ЦРУ, КГБ, МОССАД. Нет там такой системы, что даже главный начальник не сможет узнать, что за мышь родила гору…
Азиз Хану не составляло труда угадать мысли генерала Ахмада. Да, все верно. Его, Хана, мечта – убрать этого героя внутренних переворотов и верного пса неверного президента. Убрать и самому объединить под своим началом и военную, и межведомственную разведки для большого дела. Но на это никто не пойдет, потому как система превыше всего. Так что приходилось убеждать высокого коллегу стать на время союзником.
– В этот раз за Счастливчика готов взяться сам Назари. Его люди не засвечены, они проведут операцию. Я бы назвал ее «Северное сияние». Вы когда-нибудь видели северное сияние?
– Нет. Бог миловал, генерал. Мне не доводилось воевать в Сибири.
– А я видел. Небо сворачивается в пестрый платок и колышется над вами. Я бывал в Мурманске. Давно. А в Сибири, генерал, нет ни белых медведей, ни полярных сияний.
Азиз Хану казалось важным обозначить название, поскольку если Ахмад и не согласится сразу, то будет об этом думать. И тогда помимо доводов «за» и «против», помимо воли в его мозгу будет всплывать образ – «Северное сияние».
Генерал Ахмад, несмотря на неприязнь к Азиз Хану, не смог не оценить простоты и тонкости плана – проникнуть к Масуду под видом журналистов, учитывая слабость Счастливчика к людям этой древней профессии. Для осуществления требовалось два элемента: журналисты должны обладать надежным прикрытием, чтобы пройти к Масуду, и… они должны быть шахидами! У Зии Хана Назари есть такие, утверждает Хан.
Излагая схему, Азиз Хан сделал в этом месте многозначительную паузу, будто ожидая, что собеседник всплеснет руками и примется убеждать в невыполнимости идеи. Но генерал Ахмад, насупив брови, молчал… Азиз Хан, не дождавшись от Махмуда Ахмада удивления и возражений, принялся рассказывать дальше. Он был раздосадован на коллегу. Тот хотя бы из гостеприимства мог сыграть ему на руку в устройстве театрального эффекта. Сухарь. Азиз Хан с детства завидовал циркачам и артистам.
– Наш стратег, Зия Хан Назари, сочинил новую песню о новой войне. Новая война рождена в уме новым человеком. Воином-одиночкой. Этот воин умеет умереть в нужном месте, в нужное время, нужным образом. А до того – он всем похож на людей… Этот новый человек изменит старый мир.
Махмуд Ахмад молчал. Стоит ли менять старый мир, если в нем они оба – генералы? Где сверхзадача?
– Зия Хан Назари создал нового человека. И этот новый человек изживет Счастливчика. Назари построил фабрику шахидов, он снимет с конвейера нужные детали, а мы лишь поможем ему с документами. Мы только поможем его посланцам стать журналистами. Они пойдут по именам иных. И даже в наших с вами, генерал, хозяйствах ни одна мышь не узнает, зачем делаем мы документы нескольким арабам, приехавшим издалека. Если и есть в этих стенах уши у Масуда, то и им не узнать о его судьбе. Если, конечно, это не наши уши, – хихикнул Азиз Хан.
– Кто пропустит чужих, неизвестных журналистов к Масуду? Почему ослепнут его цепные псы?
– Деньги, генерал, опять деньги. Не на убийство, нет. Деньги за интервью, за доступ к телу Счастливчика. Обычное дело. И секретарь их возьмет. За интервью – возьмет. Потому как это не предательство, а лишь вознаграждение за помощь. «Журналисты – наше оружие», – скажет он Счастливчику.
– Кто заплатит эти деньги?
– Их заплатят те, у кого их много и кого не проверят по ведомостям визири их президентов и королей. Они создадут новое агентство, они создадут имена, они получат рекомендации, а потом под этими именами, по нашим бумагам пойдут масудовые воины, созданные Назари. Новые белые пешки, выкрашенные в черный цвет.
– Пешки не ходят назад…
– Именно. Именно. Мы чисты, но и Назари чист – его пешки так и останутся безымянными. Им не надо шагать назад.
Азиз Хан опять замолчал. Задумался и генерал Ахмад. План был веселым, выпуклым, ясным, как свежевыпеченная хлебная лепешка. Каждая из деталей могла стать когда-нибудь главой в учебнике по истории классических активных операций разведки. Но так быстро соглашаться с коллегой-соперником он не торопился. Помимо множества мелких вопросов его беспокоило, отчего Назари с этой ловкой комбинацией вышел на людей Азиз Хана, а не на него. Шеф военной разведки хочет сделать дело чужими руками? Или… И почему именно сейчас?
Генерал Ахмад уже несколько раз получал сообщения от агентов, работающих в «Исламской армии» – сети, состоящей из нескольких узлов, один из которых курировал Зия Хан Назари, – агенты уверяли, что по паутине пульсирует сигнал о готовящейся крупной операции – о начале нового, Большого Джихада. Но что это за новый Большой Джихад, никто из агентов объяснить не мог. Может быть, Азиз Хан от своих близких арабских друзей, от доброго приятеля принца Турки, патрона Саудовской спецслужбы, получил более точную информацию? Может быть, «Северное сияние» – это лишь фрагмент более широкого плана, а он, Махмуд Ахмад, сам выступает лишь той самой слепой пешкой в этой партии? Ему было известно, что собеседник недавно ездил на конференцию по борьбе с терроризмом в Джидду и там встречался с Турки.
– Почему сейчас? Вы знаете ответ, господин мой? – наконец, решился он.
– А почему нет? Для доброго дела всякое время хорошо, – рассмеялся Азиз Хан.
– Нет, генерал. Я не могу играть втемную. Я не знаю, ни кто создал проект, ни кто передал его… нам. И, главное, что последует затем, – пусть даже «Северное сияние» осветит наши края.
Азиз Хан покачал головой. Конечно, он ждал этого вопроса от опытного, умного собеседника. Он и сам охотно задал бы генералу Ахмаду тот же вопрос – ведь когда один из ближайших сподвижников Назари сообщил ему в целом идею с журналистами и Масудом, у него тоже возникла мысль: почему Назари, столько лет не желавший «трогать» врага своих друзей, талибов и потому своего главного афганского оппонента Масуда, вдруг решился на это? Отчасти ответ на это ему дал принц Турки в Джидде. Но только отчасти. «Масуда не станет, и доблестные талибы сразу начнут наступление. Впереди настоящий Большой Джихад. Воины Малого Джихада должны уйти. Так считают и наши американские стратеги». Увидев, что Азиз Хан не сдержал удивления при таких словах, саудовский принц со снисходительной улыбкой человека, знающего нечто, что не дано знать другим, добавил: «Американцы задумали перекроить мир и выгнать русских из Бактрии и из Крыма, пока те не подняли голову. Мы не против, верно? Пришло время для очищения. Мир уже долго прожил в мире. Еще немного такой жизни, и асассин Востока поддастся искусителю и забудет о своем предназначении. Мы же не можем потом отдать весь мир нашим друзьям-американцам. Мы сейчас слабы воевать на их полях. Пусть теперь они придут в афганские горы, пусть. Тигр силен и уверен в себе как никогда. Пусть он рассердит медведя. Вот тогда поглядим, так ли он силен». Большего Турки говорить не захотел. Азиз Хан согласно кивнул. Он давно желал убрать таджика Масуда, застрявшего на перемычке между талибским Афганистаном и нейтральной Азией как кость в горле – преграда, помимо прочего, мешающая току газа и нефти через Афганистан и Пакистан в обход России. Но и он, как затем генерал Ахмад, тоже поежился от мысли, что, может быть, выступает лишь пешкой в замысленной кем-то новой партии. Что значит «потом»? «Потом не можем отдать?» А как мы будем не отдавать? Пешкой и ему быть не хотелось.
Он постарался выяснить детали у всеведущего помощника принца Турки, но тот выразил немалое удивление по поводу любопытства пакистанского разведчика. Тогда Азиз Хан подошел в Джидде к своему недавнему знакомому, американцу Смоленсу, занявшему место давнего приятеля Грега Юзовицки в карточном домике ЦРУ. Смоленс по-американски не особенно таился. Он взял маленького пакистанца за локоть и принялся объяснять, что террорист Зия Хан Назари лишился прямой поддержки официальных Хартума и Эль-Рияда. «Да, мы в этом сыграли свою роль. Нечего им поддерживать террористов». И теперь Кандагар становился для Назари основным прибежищем. Но за это главный талиб, мулла Омар, попросит его помощи, причем помощи военной. Говорят, что Назари создал новых людей войны… Вот Назари, человек разумный, умеющий правильно считать деньги, решил, что ему дешевле будет убрать главного врага Омара, Льва Панджшера, чем воевать с ним в открытую. Нам всем надо готовиться к большим переменам. «Но вам не о чем тревожиться, вы же на нашей правильной стороне истории, генерал…»
…Конечно, господин американец, конечно… На правильной. Но принц Турки намекнул на очень Большой Джихад. И включение в войну талибов с масудовцами за власть в Афганистане при всем желании Большим Джихадом не назовешь. Но тогда что же готовится? Таким вопросом задался Азиз Хан еще в Джидде. Вернувшись оттуда, он обратился с просьбой к своему племяннику, который работал в пакистанском посольстве в Ашхабаде и только что пристроил туда соратника Назари, афганца Джудду по прозвищу Одноглазый. «Узнай-ка мне, сынок, что там Джудда думает о планах Назари. Ты же с ним не зря играешь в шахматы», – дал он поручение племяннику, когда тот явился к нему в Исламабад. Племянник с этим поручением вернулся в Ашхабад, но ответа Азиз Хан еще не успел получить. К тому же он знал, что ни Назари, ни другие руководители отдельных групп, крыльев, ячеек огромной сети Большого Джихада не могут знать всего замысла. В этом суть сети – замысел рождается сам по себе, он не складывается армифметически из планов его участников. Замысла не может знать ни сиятельный принц Турки, ни Смоленс – в этом сила системы, совместным усилием производящей на свет действие, во сто крат превышающее каждый отдельный фрагмент плана, но, по сути, по молекулярной формуле, подобное ему. Подобие дает возможность, создав в лаборатории каплю, множить ее тысячи раз.
А еще Азиз Хан помнил сообщение от другого своего племянника, который работал в его ведомстве на направлении «Кавказ». Тот рассказал дяде о том, как его подопечные чеченцы обеспечили продвижение некоей группы афганцев по территории российского Кавказа, а потом другие его подопечные, тоже чеченцы, самих проводников ликвидировали. Племянник уточнил, что афганцы были людьми Назари, и все то дело с проводниками было согласовано с самим генералом Махмудом Ахмадом…
Всего этого генерал Хан не рассказывал начальнику межведомственной разведки МВР. Но он ощущал, что его руками осуществляется дело, которое может изменить очертания того материка, что называется Современностью. Отказаться от такой славы он не мог и не хотел, но хотел разделить ее тяжесть со сдержанным аккуратным генералом Ахмадом. Тем более тот наверняка знает больше, чем пытается изобразить…
А потому по прошествии двух месяцев два алжирца с фальшивыми марокканскими паспортами, выписанными на имена журналистов только созданного информационного агентства AIA и выданными в Пакистане, при посредничестве Умара, секретаря Масуда, оказались в приемной у Льва Панджшера. Их рекомендательные бумаги были убедительны, журналистские биографии – безупречны, а в камере и на теле оператора таились мощные взрывные заряды. Как только весть о взрыве в ставке Масуда разнеслась по мировым агентствам, в разных концах мира завертелись крохотные маховички новой мировой войны, которую уже ждали армии будущих скелетов.