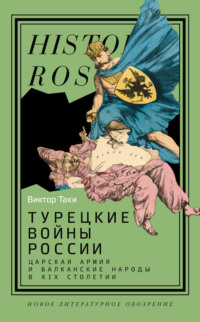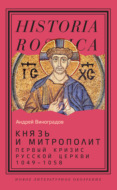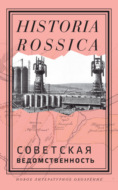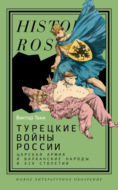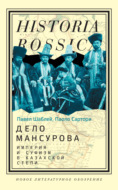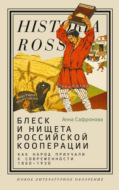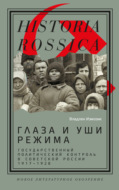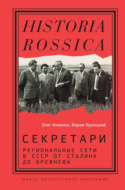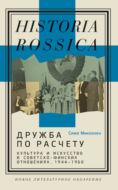Kitobni o'qish: «Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии»
УДК 327.8(47+560)(091)
ББК 63.3(2)-68
Т15
Редакционная коллегия серии
HISTORIA ROSSICA
С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман
Редактор серии И. Мартынюк
Перевод с английского В. Таки
Виктор Таки
Турецкие войны России: Царская армия и балканские народы в XIX столетии / Виктор Таки. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия Historia Rossica).
В результате завоеваний в ходе русско-турецких войн XIX столетия российские чиновники и военные деятели столкнулись с серьезными проблемами, связанными с управлением полиэтническим населением на востоке Балкан. Этот вызов ставил перед ними трудноразрешимые дилеммы и вопросы: какие этнические группы вооружать, а каким отказывать? Как управлять миграционными потоками для замещения убывшего населения и как поступать с беженцами-мусульманами? Как соблюсти баланс в религиозно-конфессиональной политике, противоречия которой противоборствующие стороны стремились, в зависимости от реалий на поле боя, усилить или ослабить? На основе ранее не опубликованных архивных материалов и широкого круга первоисточников Виктор Таки исследует взаимодействие царских вооруженных сил с населением Балкан после Французской революции и Наполеоновских войн. По мнению автора, конечные решения царских стратегов и полководцев отражали характерные для XIX столетия тенденции в переосмыслении роли «народа» в военных конфликтах, а изучение подходов царской администрации к управлению населением на Балканах позволяет по-новому взглянуть на имперскую политику России в контексте глобального процесса «демократизации» войны. Виктор Таки – специалист по истории России и Юго-Восточной Европы в Новое время, PhD, преподаватель истории в Университете Конкордия в Эдмонтоне, Канада.
В оформлении обложки использована Аллегорическая военная карта 1877 года Фреда У. Роуза. Библиотека Корнеллского университета.
ISBN 978-5-4448-2807-6
© University of Toronto Press 2024. Original edition published by University of Toronto Press, Toronto, Canada
© В. Таки, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
10 июня 1877 года, в день переправы русской армии через Дунай, Александр II обратился с манифестом к болгарскому населению. В нем царь упомянул войны, которые вели его прародители «за облегчение бедственной участи христиан Балканского полуострова», в результате которых им удалось «последовательно обеспечить участь Сербов и Румын». Теперь же, говорил царь, настало время «оградить навеки вашу народность и утвердить за вами те священные права, без которых немыслимо мирное и правильное развитие Вашей гражданской жизни». Согласно манифесту, задача России заключалась в том, чтобы «согласить и умиротворить все народности и вероисповедания в тех частях Болгарии, где совместно живут люди разного происхождения и разной веры». Александр II заявлял, что отныне «одинаково будут обеспечены жизнь, свобода, честь, имущество каждого христианина, к какой бы церкви он ни принадлежал»1.
Обращаясь к балканским мусульманам, царь также упомянул о «недавних жестокостях и преступлениях, совершенных многими из [них] над беззащитным христианским населением», однако пообещал воздержаться от мести и подвергнуть «справедливому, правильному и беспристрастному суду лишь тех немногих злодеев, имена которых были известны и османскому правительству, оставившему их без должного наказания». Остальные же мусульмане должны были «подчинит[ься] безусловно законным требованиям тех властей, которые с появлением войска Моего будут установлены» и сделаться «мирными гражданами Общества, готового даровать [им] все блага правильно устроенной гражданской жизни. Ваша вера останется неприкосновенной; ваша жизнь и достояние, жизнь и честь ваших семейств будут свято охраняемы»2.
Семь или восемь месяцев, последовавших за оглашением манифеста, стали одним из наиболее катастрофических периодов в истории Балканского полуострова (см. карту 1 на вкладке). Тысячи мусульман бежали из центральной части Дунайской Болгарии и с тех забалканских территорий, которые были заняты в июне и июле основными силами русской армии и ее передовым отрядом под командованием генерал-лейтенанта И. В. Гурко. Затем неудача, постигшая русскую армию под Плевной в середине июля, стала причиной отступления русского авангарда на север, отступления, в котором солдат Гурко сопровождали десятки тысяч забалканских болгар-беженцев. Падение Плевны, последовавшее после четырехмесячной осады, и финальный бросок русской армии через Балканы к Адрианополю и Константинополю в январе 1878 года вызвали еще более масштабный исход забалканских мусульман. Общее число жертв и беженцев среди мусульманского населения территорий, которые после войны вошли в состав Болгарского княжества и автономной области Восточная Румелия, по-видимому, составляло полмиллиона человек3. В результате война 1877–1878 годов, известная в турецкой историографии как Доксанюч харби, стала синонимом катастрофы. Эта война явилась важным этапом в процессе сокращения мусульманского населения в Европе, начавшегося после Греческого восстания 1821 года и завершившегося окончательным падением Османской империи в начале 1920‑х годов4.
Количество жертв и беженцев в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов поражает, особенно если принять во внимание, что это был не первый случай перехода Балкан русскими войсками. Русско-турецкая война 1828–1829 годов сопровождалась занятием тех же территорий, однако не спровоцировала бедствий подобного масштаба для мусульманского населения5. Несмотря на то что театр военных действий и зона послевоенной оккупации в 1829–1830 годах были меньше, чем в 1877–1879 годах, они включали восточнобалканские территории с наибольшим количеством мусульман6. Соответственно, сравнение двух войн и последовавших за ними оккупаций составляет естественный, хотя и до сих пор почему-то не предпринятый прием для всякого, кто стремится понять, что произошло в восточной части Балканского полуострова в конце 1870‑х годов. Очевидно, что беспрецедентное по масштабам вынужденное перемещение восточнобалканских мусульман в 1877–1878 годах объясняется среди прочего решениями русского командования, которые сильно отличались от стратегии их предшественников в 1828–1829 годах.
Рассмотрение этих решений, а также интеллектуального контекста, в котором они были приняты, дополнит наши представления об истории участия России в судьбах населения Балканского полуострова7. Существует немало исследований той роли, которую сыграла Российская империя в ходе превращения «Европейской Турции» в совокупность малых национальных государств Юго-Восточной Европы. Однако до сих пор не была предпринята попытка оценить вклад военных – именно как военных – в этот процесс. Советские, российские и западные историки изучили роль царской дипломатии в разработке международных договоров, предусматривавших автономию или независимость Греции, Сербии, Румынии и Болгарии8. Хотя временные российские администрации в Дунайских княжествах в 1828–1834 годах и в Болгарии в 1877–1879 годах возглавлялись военными, их деятельность также рассматривалась как аспект внешней политики России9. Не отрицая важность Министерства иностранных дел в формировании балканской политики России, настоящее исследование акцентирует не менее значимую роль русской армии. Принимая за основу знаменитое определение войны как продолжения политики другими средствами, данная книга рассматривает русскую армию как одного из главных политических акторов в восточнобалканском регионе. Наряду с описанием военных действий, составлявших главный предмет прошлых исследований русско-турецких войн10, здесь предпринимается попытка реконструировать интеллектуальные и культурные факторы, определившие политику российских командующих в отношении различных групп балканского населения.
Существенная разница между стратегиями, которым следовало российское командование в 1828–1829 и в 1877–1878 годах, отражала процесс переосмысления роли населения в войне, который происходил в XIX веке. Это переосмысление было частью более широких перемен в образе ведения войны, трансформировавших отношения между армией и населением в период после Французской революции. Опыт революционных и Наполеоновских войн способствовал более внимательному отношению европейских и российских военных к населению как основе военной мощи и одновременно потенциальному источнику сопротивления. Вследствие этого попытки воплотить модель мобилизованной нации в посленаполеоновский период сочетались с поиском способов нейтрализации потенциально враждебных групп населения на территориях, составлявших вероятный театр военных действий. И хотя данный подход был в полной мере воплощен только в эпоху мировых войн, отдельные его элементы становились все более заметными в планах российский стратегов и в политике временных военных властей на Балканах в ходе русско-турецких войн XIX века. Тем самым «турецкие кампании» России составляют важный, хотя еще и недооцененный аспект изменения характера войны в период между падением Наполеона и Первой мировой войной.
Эти без малого сто лет оказались на редкость мирными в истории Европы, по крайней мере если сравнивать частоту и интенсивность войн 1815–1914 годов с конфликтами XVI, XVII или XVIII века11. После почти непрерывных войн революционного и наполеоновского периода Европейский континент наслаждался продолжительным периодом мира. Конечно, середина XIX столетия была отмечена революционными потрясениями во многих европейских странах, а также войнами, сопровождавшими объединение Италии и Германии. И все же эти конфликты оказались быстротечными, и, как, следствие, к началу XX века большинство европейцев не осознавали масштабов изменений в образе ведения войны и того, что́ эти изменения означали для отношений армии и населения. Как продемонстрировала Первая мировая война, изменения эти были тем не менее вполне реальны, и повторявшиеся каждые 15–25 лет «турецкие» войны России предоставляют наилучшую возможность проследить их нарастание. Рассмотрению данных изменений должен, однако, предшествовать обзор восточнобалканского региона, который составил главный театр русско-турецких войн данного периода.
***
Российско-османское противостояние началось в конце XVII века в северопричерноморском регионе. Позже основной театр русско-турецких войн сместился к нижнему Дунаю и в конце концов охватил всю восточную часть Балканского полуострова12. Тюркское название «Балкан» вошло в европейскую географическую литературу в первые годы XIX столетия как политически нейтральная замена понятия «Турция в Европе», однако вскоре и этот термин приобрел негативные коннотации13. Соответственно, дискуссии относительно того, что является, а что не является частью Балкан, превратились в один из важных аспектов историографии и общественно-политической мысли данного региона14. Хотя Дунай и его приток, река Сава, составляют естественную географическую границу Балкан на севере, такое определение региона плохо согласуется с историческими и культурными реалиями, определяемыми столетиями османского господства как к югу от Дуная и Савы, так и к северу от них, и, в частности, в княжествах Валахия и Молдавия15.
Эти православные страны вошли в орбиту османского влияния в период между концом XIV и началом XVI столетия и оставались в ней вплоть до второй половины XIX века. На протяжении раннемодерного периода дань, которую княжества платили султану, неуклонно возрастала, и в конце концов местные господари были заменены греками-фанариотами16. Таким образом Порта консолидировала свой контроль над Валахией и Молдавией в ответ на возросшую угрозу со стороны монархии Габсбургов и особенно России. После неудачного Прутского похода Петра Великого в 1711 году каждая русско-турецкая война сопровождалась занятием российскими войсками территории княжеств. Несмотря на то что русско-турецкие договоры неизменно возвращали Молдавию и Валахию под власть Порты, Россия со временем установила формальный протекторат над княжествами и использовала его для ограничения османского влияния в этих странах17.
Неоднократные оккупации Молдавии и Валахии и режим протектората не способствовали популярности России в княжествах и в конце концов стали одним из факторов возникновения современного румынского национализма, характеризующегося отчетливой враждебностью по отношению к России18. Однако эта враждебность долгое время ограничивалась элитами княжеств и не распространялась на массу населения. В результате на протяжении большей части XIX столетия Россия пользовалась остаточной симпатией местных крестьян, которые продолжали видеть в православном царе своего защитника19. Относительная гомогенность молдавского и валашского населения с религиозной и этнической точек зрения также являлась преимуществом. После вхождения Бессарабии в состав Российской империи в 1812 году и реинтеграции османских крепостей и прилежащих к ним земель на левом берегу Дуная в состав Валахии в 1829 году российская армия больше не сталкивалась с мусульманским населением на этих территориях.
К югу от Дуная ситуация принципиально отличалась. Здесь османское завоевание XIV и XV веков привело к разрушению государств болгар и сербов и к обращению в ислам или к эмиграции их элит20. Превращенные в пашалыки, территории современной Болгарии и румынской Добруджи были населены смешанным христианским и мусульманским населением. Наряду с болгарами, составлявшими большинство православного населения восточных Балкан, здесь проживали греки и румыноязычные влахи (арумыны). Греки были особенно многочисленны в портах на западном побережье Черного моря и в прибрежных районах, а также в крупных городах, таких как Адрианополь и Филиппополь (Пловдив). Греки также преобладали среди духовенства в регионах с преимущественно болгарским населением, и это обстоятельство в конце концов спровоцировало болгарскую националистическую реакцию, выразившуюся в греко-болгарской церковной распре 1870 года21. Христианское население Добруджи было еще более пестрым: наряду с этническими болгарами оно включало и румын, и украинских казаков, и русских старообрядцев22. Наконец, не все христиане восточных Балкан были православными, поскольку некоторое количество болгар в регионе Филиппополя в XVII столетии обратились в унию.
Мусульмане восточных Балкан были столь же неоднородны по своему этническому составу, сколь и христиане. Наиболее многочисленную группу составляли турки-османы, в основном проживавшие в городах, хотя в регионе Делиормана, на северо-востоке, они также преобладали и в сельской местности23. Этноконфессиональную мозаику данного пространства усложняли мусульмане – выходцы из Российской империи, ставшие особенно многочисленными после Крымской войны, когда значительное число крымских татар переселилось в Добруджу. Наряду с крымскими татарами здесь встречались и черкесы, происходившие из западной части Северного Кавказа, хотя их проживание на восточных Балканах оказалось недолгим. На юге, в Родопских горах, имелось значительное количество помаков, или болгароязычных мусульман, чье происхождение является предметом довольно оживленной дискуссии в исторической и этнографической литературе24.
Политическая организация Османской империи отражала конфессиональную и этническую разнородность ее населения. Со времени османского завоевания Константинополя в 1453 году империя представляла собой совокупность конфессиональных общин (в XIX столетии называвшихся милетами), пользовавшихся значительной нетерриториальной автономией25. Несмотря на то что в современной западной историографии порой встречается представление об Османской империи как некоем прообразе мультикультурализма и культурного многообразия, необходимо подчеркнуть, что члены конфессиональных общин находились в весьма неравном положении. На протяжении столетий балканские христиане не имели права носить оружие, должны были спешиваться в присутствии мусульманина, не могли строить церкви, превышавшие по высоте соседние мечети, и в целом были поражены в правах. Они также платили большие налоги, наиболее важным из которых была джизья, или «налог за защиту», восходивший своими корнями к постановлениям пророка Мухаммеда в отношении «людей книги» (дзимми) – евреев и христиан. В то же время такой неоднозначный османский институт, как девширме, или «налог кровью», заключавшийся в отборе христианских мальчиков для янычарского корпуса, перестал существовать задолго до XIX века, в то время как с середины столетия вестернизирующие реформы султанов (известные как Танзимат, или реорганизация) провозгласили равноправие мусульман и немусульман, по крайней мере на уровне общего принципа26.
Физическая география восточнобалканского региона соответствовала сложности его этноконфессионального ландшафта. В отличие от низменного и заболоченного северного берега Дуная, южный берег реки был, как правило, высоким и крутым, составляя тем самым естественную оборонительную линию, дополняемую несколькими османскими крепостями. Из них наиболее значительными были Видин, Никополь, Рущук и Силистрия. Область Добруджи, формируемая северным изгибом Дуная, его дельтой и побережьем Черного моря, защищалась несколькими второстепенными крепостями – Тульчей, Исакчей, Мэчином и Гирсовом. Крепость Варна была самым существенным османским оплотом на побережье. Вместе с Силистрией, Рущуком и Шумлой она составляла так называемый кадрилатер, или четырехугольник, являвшийся центральным элементом османской обороны на нижнем Дунае.
Балканские горы формировали вторую естественную линию обороны, проходившую с востока на запад на расстоянии сотни километров к югу от Дуная. Лесистые северные склоны этих гор делали турецкий термин «Балкан» (дословно: «гора, покрытая лесом») весьма уместным. К югу от Балканских гор находилась долина Марицы, протекавшей по диагонали с северо-запада на юго-восток вплоть до Адрианополя, после чего река поворачивала на юг и несла свои воды в Эгейское море. Южные склоны долины Марицы формировались Родопскими горами, простиравшимися вдоль северного побережья Эгейского моря. К юго-западу от Родоп находилась Македония, регион, который с конца XIX века станет предметом ожесточенного конфликта между болгарскими и греческими националистами27. К юго-востоку от Адрианополя смешанное болгарское, греческое и мусульманское население жило повсюду, вплоть до стен османской столицы Константинополя – города, который был столь же многоконфессиональным и полиэтничным.
Таков был этноконфессиональный ландшафт, в котором русская армия неоднократно сталкивалась с османскими силами в ходе войн XIX столетия. Изменяющиеся представления русских военных о балканском населении необходимо поместить в контекст превращения населения в важнейший фактор модерной войны, которое в свою очередь было тесно связано с процессом демократизации, инициированным Американской войной за независимость и Великой французской революцией.
***
Как только нация была провозглашена источником политической власти, важнейшим вопросом стало определение состава нации, поскольку именно от него зависело успешное преодоление противоречий или же их перерастание в открытый гражданский конфликт. По утверждению англо-американского социолога Майкла Манна, «темная сторона демократии» проявляется тогда, когда народ как источник власти идентифицируется с этническим большинством. Смешение суверенного «демоса» с преобладающим этносом приводит к исключению этнических меньшинств и создает базовые предпосылки для их изгнания или даже уничтожения. Радикализированные военным поражением или экономическим кризисом лидеры этнического большинства могут начать проводить смертоносную политику в отношении этнического меньшинства в том случае, если чувствуют угрозу с его стороны (или со стороны его внешних протекторов) и в то же время ощущают себя способными превентивным образом уничтожить это меньшинство. Именно это, согласно концепции Манна, происходило в случае практически всех этнических чисток и геноцидов, имевших место в XX веке28.
Исследование Манна помогает понять последствия «демократизации» европейского способа ведения войны после Французской революции. Революционная мобилизация превратила в солдат всех мужчин, способных носить оружие, по крайней мере в принципе, и продемонстрировала ужасающий потенциал народной войны, проводимой самим народом и во имя народа29. Столкнувшись с этим явлением, европейские великие державы были вынуждены провести военные реформы, которые в конце концов породили массовые армии, состоящие из вооруженных граждан, сочетавших кратковременную срочную службу с длительным пребыванием в резерве. Тем самым был создан конкретный институт, в рамках которого армия идентифицировалась с народом, по крайней мере с мужской его половиной30. В то же время эти военные реформы поставили на повестку дня вопрос о тех группах населения (на территории вероятного противника или же на своей собственной), которые по различным причинам не могли стать частью данного народа и, соответственно, армии, которая с этим народом ассоциировалась.
Как только народ был переосмыслен как военная сила, военные стратеги перестали рассматривать в качестве нейтрального гражданское население территорий, составлявших театр боевых действий. Опыт Наполеоновских войн, особенно в Испании, части Италии, Германии и России, где французские армии встретили значительное сопротивление со стороны местного населения, заставил военных задуматься о способах нейтрализации потенциально враждебных групп31. Одновременно военные стали стремиться заручиться поддержкой потенциально благорасположенных к армии групп населения. В результате гражданское население вероятных театров военных действий превращалось в потенциальных жертв репрессивной политики военных властей, посредством которой последние стремились обеспечить благоприятную среду для действия армии. Осуществление такого подхода к населению стало возможным благодаря развитию военной статистики в постнаполеоновскую эпоху, характеризовавшуюся так называемым «статистическим бумом»32.
Военные, безусловно, не были единственной профессиональной группой, проявлявшей интерес к статистике населения. На протяжении XIX столетия правительства европейских государств использовали статистическую информацию для определения религиозного, этнического и лингвистического состава своих граждан или подданных, с тем чтобы создать из разнородного населения монолитное национальное сообщество. Эта цель, однако, оказалась гораздо более достижима на западе Европы33. На востоке же старого континента неспособность имперских бюрократий ассимилировать разношерстное население выдвигала на первый план оборонительные соображения военных. Подобно своим французским и немецким коллегам, австрийские, русские и османские военные начали рассматривать всеобщую воинскую повинность как способ укрепить лояльность разнородных категорий населения и даже сформировать общую имперскую идентичность. В то же время отсутствие гарантии успеха подобного предприятия заставляло военных определять заранее те группы населения, которые необходимо было нейтрализовать ввиду их действительной или предполагаемой враждебности к правительству и армии, которая могла иметь фатальные последствия в условиях будущей войны34.
Конкретные методы обращения с потенциально нелояльными или враждебными категориями населения были впервые опробованы в местах, где граница между гражданским населением и военными изначально была размытой. Будь то во французском Алжире, на Северном Кавказе или в британской Индии, европейские военные столкнулись с формами сопротивления, которые не предполагали четкого разделения на мирное население и комбатантов. На вызов партизанской войны европейские колонизаторы ответили политикой выжженной земли, захватом заложников, переселением местных жителей и основанием европейских поселений35. Наиболее одиозный, хотя, возможно, и не самый жестокий метод политики управления населением в XX веке – концентрационные лагеря – также был впервые опробован в колониальном контексте: сначала испанцами, во время Кубинской войны за независимость, а затем британцами в ходе Англо-бурской войны 1899–1902 годов36.
В то же время необходимо подчеркнуть, что «колониальные» методы не были следствием только лишь изначальной размытости границы между комбатантами и некомбатантами, характеризовавшей местные формы сопротивления колониальному завоеванию. Эти методы отражали превращение населения в важнейший фактор современной войны в период, последовавший за Французской революцией. Данное обстоятельство позволяет преодолеть разногласие между теми историками, которые видели в ужасах Первой и Второй мировых войн плод применения колониальных методов на европейской почве, и теми, кто поставил под сомнение колониальное происхождение Холокоста и обратил внимание на его евразийские корни37. Колонии и окраины Европы были лабораториями эволюционирующих европейских форм ведения войны, которые поставили под вопрос разделение на военных и гражданское население в тот самый момент, когда сторонники выработки модерных законов войны попытались это разделение максимально четко обозначить38. Человеколюбивые усилия последних наткнулись на два основополагающих допущения европейской военной мысли XIX столетия: 1) население изначально не является нейтральным; 2) политические настроения населения являются важным фактором конечного исхода войны. Оформившиеся к 1914 году два этих допущения определяли политику военных властей по обе стороны протяженных и подвижных восточных фронтов Первой мировой войны39.
Для правильного определения роли России в этом процессе необходимо принять во внимание как изначальное отторжение царскими военными идеи «народной войны», так и последующее изменение их отношения к этому явлению. В послепетровскую эпоху русские офицеры ассимилировали понятия и принципы «регулярной» войны эпохи Старого режима, которая не предполагала вовлеченности массы населения в боевые действия40. Хотя революционные и Наполеоновские войны поставили под вопрос разделение на военных и гражданское население, не стоит недооценивать консервативное сопротивление аристократического офицерского корпуса идее массовой армии, состоящей из солдат-граждан, или идеи партизанской войны41. Ввиду того, что царская Россия была более успешна в своем противоборстве с наполеоновской Францией, чем другие континентальные европейские державы, у нее не было стимула приступать к военным реформам прусского типа, которые привели к созданию системы национальных резервов и введению всеобщей воинской службы42. Вместо этого конечная победа над Наполеоном наглядно продемонстрировала дееспособность петровской военной организации старорежимного образца, основанной на резком отделении армии от остального населения43.
Война 1812 года включала в себя партизанские действия, в ходе которых граница между комбатантами и некомбатантами оказалась предсказуемо размытой. Однако эта сторона противостояния с Наполеоном произвела на современников весьма негативное впечатление. Важно помнить о том, что, в отличие от Льва Толстого, большинство офицеров – участников войны 1812 года были далеко не в восторге от «дубины народной войны», поскольку она была несовместима с усвоенными ими представлениями о «регулярной» войне44. В десятилетия, последовавшие за разгромом Наполеона, приверженность офицеров дворянского и аристократического происхождения этим принципам только возросла. Среди поколения 1812 года энтузиастов партизанского действия в духе Дениса Давыдова было немного, а приверженцы «народной войны» и вовсе практически не встречаются вплоть до второй половины XIX столетия. Офицерский корпус царской России в целом особенно долго отказывался признать «народ» в качестве нового фактора современной войны и инициировать переход к современной массовой армии солдат-граждан или принять методы партизанской войны. Однако после того, как поражение в Крымской войне вызвало наконец эту ментальную и институциональную трансформацию, ее последствия оказались более радикальными, чем где-либо в Европе45.
Русско-турецкие войны 1828–1829, 1853–1856 и 1877–1878 годов свидетельствуют об изменении отношения царских военных к понятию «народная война». В первом из этих конфликтов российские командующие стремились предотвратить какие-либо формы «народной войны», будь то со стороны единоверного населения Балкан или со стороны османских мусульман. Несмотря на то что на завершающем этапе войны российскую армию поддерживали ограниченные партизанские отряды, их целью был контроль над местным мусульманским населением, а не провоцирование православных болгар на всеобщее восстание против власти султана. В целом российская политика заключалась в том, чтобы убедить мусульманское население не покидать своих жилищ. Вместо изгнания мусульман российское командование организовало масштабное переселение христианского болгарского населения в причерноморские территории Российской империи с целью обезопасить его от возможного возмездия со стороны османов после заключения мира и вывода российских войск с восточных Балкан.
Спустя четверть века Крымская война выявила уже несколько бо́льшую открытость российского командования идее «народной войны» на Балканах, о чем свидетельствует переписка Николая I со своими генералами. Стремясь компенсировать малочисленность российских войск на нижнем Дунае, царь и его советники рассматривали возможность массовой мобилизации единоверцев, несмотря на то что по-прежнему испытывали неудобство ввиду революционного характера такой меры и в любом случае не смогли ее реализовать. Растущая популярность панславистских идей среди русского офицерства в 1860‑е и 1870‑е годы также способствовала новому определению целей партизанского действия, которое стало рассматриваться как способ провоцирования антиосманского восстания среди балканских единоверцев. Актуальность понятия «народная война» проявилась в планах мобилизации болгар, которые были предложены несколькими русскими генералами в ходе Восточного кризиса 1875–1876 годов, а также в формировании болгарского ополчения накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Парадигма «народной войны» оказала определенное влияние и на планы русского командования, а также на политику военных властей в Болгарии в отношении различных групп местного населения.