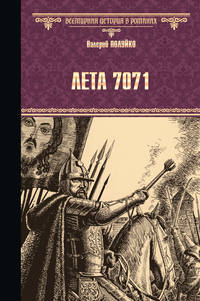Kitobni o'qish: «Лета 7071»
© Полуйко В. В., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Об авторе
Валерий Васильевич Полуйко – русский исторический писатель, долгое время живущий в Донбассе. Родился он в 1938 году, в Курске. Еще в юности Валерий Полуйко переехал в Ворошиловград (современный Луганск), где после окончания школы начал работать на заводе. В то же время у него возникает интерес к главной теме последующего творчества: к всестороннему изучению эпохи Ивана Грозного. Постепенно у юноши открылся литературный талант; он едет в Москву, поступает в Литературный институт. В столице Валерий восполняет свой интерес к бурной эпохе российского прошлого посещением Библиотеки им. Ленина, Исторического музея, кремлевских музеев, других мест Москвы и Подмосковья, связанных с жизнью первого русского царя. В дальнейшем, уже во взрослой самостоятельной жизни, став писателем, Валерий Полуйко объехал множество древнерусских городов, где побывал главный герой его произведений: Новгород, Псков, Полоцк, Великие Луки, Ярославль, Углич, Вологда и пр. Еще в институте он принялся составлять словарь языка Ивана Грозного. Дипломной работой молодого писателя стала драма «Опричники», но еще раньше, на последнем курсе института Валерий Полуйко принялся за исторический роман о событиях времен Ливонской войны. Роман был издан в 1979 г. под названием «Лета 7071». Он имел большой успех и не раз переиздавался. Впоследствии были написаны еще три романа о Грозном.
Как известно, личность Ивана IV неоднозначно оценивается как историками, так и общественным мнением, которое создается в том числе и под влиянием литературных произведений. Современный читатель, безусловно, встречал самые противоположные оценки государственной деятельности и частной жизни первого русского царя. Валерий Полуйко находится на стороне тех, кто в целом положительно оценивает личность Ивана Грозного, считает царя выдающимся строителем русского государства. Свои убеждения он подтверждает огромным объемом историко-архивных исследований, раздумьями над накопленным фактическим материалом.
В одном из поздних интервью писатель признавался: «Я преследовал главную цель: проследить в полной мере год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделей, а иногда даже день за днем, от рождения до самой смерти Ивана, чем он занимался, что делал и как делал…» Писатель тщательно сопоставлял события царской жизни, «так как разные источники сообщали эти факты по-разному, с вариантами, а зачастую были неполны и противоречивы». Далее автор раскрывает тайны своей творческой мастерской: «В поисках истины, в поисках исторической достоверности… выбираешь долгие мучительные поиски, ибо истина никогда не лежит на виду». Бесконечная запутанность и противоречивость свидетельств, откровенные фальсификации, веками складывавшиеся исторические штампы приводят, как полагает писатель, всего лишь к версии, ибо «истиной в полном объеме не владеет никто: ни писатель, ни ученые-историки». Факты не полны и порой противоречивы, а поэтому «труды, выходящие из-под пера ученых-историков, – это тоже версии». Таким образом, если Валерий Полуйко убедит в большей вероятности именно своей версии событий того далекого времени, читатель станет его союзником в оценке жизни и деяний Грозного, если же нет, то пусть скептик отнесется к роману именно как к оценочной версии, не отбрасывая всего богатства фактов, приводимых автором. Ну, а художественные достоинства его романов подтверждены полученными писателем литературными премиями имени В. Даля, имени В. Пикуля, имени А. С. Грибоедова.
АнатолийМосквин
Избранная библиография Валерия Васильевича Полуйко
«Лета 7071» (1979)
«Государь всея Руси» (1996)
«Третий Рим»
«Лихолетье»
Книга первая. Взятие Полоцка
Глава первая
1
Стояла гиблая, бесснежная зима. Мрачно и тревожно было на Москве в эту зиму: от самого Воздвиженья ждала Москва набега крымцев. Лазутчики еще до первых распутиц доносили царю и боярам о суматохе и сборах в Крымской Орде…
Царь был сумрачен, но спокоен. Казалось, жила в нем какая-то тайная надежда, и он смиренно вверялся ей, а может, и вправду не страшился Девлет-Гирея с его дикой Ордой и ждал терпеливо исхода. Только все могло быть иначе, и мысли царя, и задумы могли быть смелей и дерзостней! Кто мог разгадать их – он и Богу не поверял своих дум и намерений.
По Москве ползли слухи, будто бояре в сговоре с крымцами и только ждут их прихода, чтоб отворить ворота города. Посадские кричали на площадях, что царя опоили колдовским зельем и спрятали в каком-то замосковном монастыре, чтобы он не смог помешать им.
Посадский народец буен и дерзок. Ежели посадские начинают роптать – жди бунта. В год государевой свадьбы, когда случился на Москве великий пожар, такой великий, что полгорода выгорело с посадами и слободами, это они, посадские, выволокли из Кремля родича царского князя Юрия Глинского и отсекли ему голову на торгу, где казнили в обычай разбойников, а после явились в село Воробьево, к самому царю, требовать, чтоб он выдал им бабку свою Анну Глинскую – за то, что будто она своим волховством Москву выпалила.
Посадские ропщут от страха за животы свои да за пожитки… Подступит крымец к Москве – бояре, да служилые, да купцы с добром своим да с семьишками в Кремле спрячутся, отсидятся, а им, злосчастным, Чертольским да Арбатским, Дмитровским да Покровским нет защиты от крымцев. Возьмут они город или не возьмут, а посад непременно разорят, пожгут…
2
На Арбате, возле церкви Воздвиженья, людно и гомонно. Плюгавый монах спихивает с паперти прямо в лужу, подернутую легким ледком и загаженную конским навозом, кудлатого, оборванного юродивого.
– Людя! Братя! – скулит юродивый, изнеможенно отбиваясь от монаха и схватывая по-рыбьи обезображенным ртом холодный, промозглый воздух.
Толпа гудит, набраживает злобой… Передние обступают паперть, насупленно и истомно, как заезженные лошади, дышат густыми клубами пара…
– Не трожь юродного!
– Побойся Бога!
– Людя! – Юродивый, подталкиваемый монахом, сползает с паперти в лужу, становится на колени. – Христиане! Расею казнят!
– Оставь юродного! – наступают на монаха самые решительные. – Добром тебя просим!
Монах стоит перед толпой, расставив широко ноги и скрестив на выпуклом животе желтые руки, – ни страха в его глазах, ни смятения: совесть его спокойна, он ничем не поступится в угоду этому подлому люду. За его спиной – твердыня – храм господень, а на груди – святой крест… Кто посмеет поднять на это руку?!
Рот монаха раззявился в приторной зевоте, он лениво, слабым бабьим голосом сказал:
– Он богохульник!
Юродивый дернулся, вскидывая свои лохмотья, что-то прокричал хрипло и невнятно и упал плашмя в лужу.
Монах поддернул рясу, сошел по ступеням вниз.
– Он царя хулил… А кто хулит царя, тот Бога хулит!
Толпа от неожиданности задохнулась.
Юродивый бездвижно лежал в луже.
– Бог ему простит! – выкрикнул кто-то из толпы. – Юродный он!
– Пущай в луже буйствует в своих хулах и не оскверняет храма господнего. – Монах осенил себя крестом и степенно удалился.
– Людя! Братя! – вновь возопил юродивый, тряся мокрыми лохмотьями. Борода его, руки и грудь были облеплены кусочками навоза. Он уже не закатывал глаз, не запрокидывал головы – взгляд его метался по лицам окруживших его людей, и было в нем что-то нечеловеческое, отчаянное и дикое.
– Пошто царя хулил? – допытывались из толпы.
– Буде, он не юродный?.. Лазутник, буде, крымский?!
– Погибель на вас надвигается! – вдруг выкрикнул юродивый и проворно вскочил на ноги. – Татары надвинутся!.. Порежут! Пожгут! В полон поберут!
Толпа раздалась, отступила от юродивого. Тот снова упал на колени и, сотрясаясь всем телом, стал кричать:
– Татары близко!.. Близко! Спасайтесь! Бегите! Царь вас не защитит! Бегите! Спасайтесь!
Толпа дрогнула, заколыхалась… Кто-то неуверенно прокричал:
– К митрополиту!.. Идти к митрополиту!
На этот крик не обратили внимания. Громадная, сбившаяся толпа людей вдруг качнулась в сторону – в одну, в другую – и забурлила, как прорвавшаяся из запруды вода.
Юродивый гнался за убегающими и хрипло кричал:
– Спасайтесь! Татары уже близко! Спасайтесь!
Откуда-то вырвалось несколько всадников. На полном скаку вломились они в самую гущу толпы, давя и разметывая оторопевших людей.
Юродивый хитро приник к земле. Руки его, как у мертвого, судорожно впились в ее черную, липкую слизь.
– Вот он, пес!
Нагайка плясанула по спине острым извивом…
– Господи, – прошептал юродивый, как перед смертью.
Сильные руки сграбастали его, кинули поперек седла.
3
Чуть свет, отстояв заутреню в Успенском соборе, сходятся бояре в думную палату. Пора утра – самая унылая в Кремле. В коридорах холод и темень. Знобкий ужас таится по всем углам и закоулкам. Из подвалов несется кислый, тошнотный запах.
Сонные стражники, завидев бояр, споро поджигают свежие лучины. Свирепо скрипят под ногами половицы… Ленивые тени движутся от перехода к переходу, раскачивая мрак под низкими сводами. Каждая тень – власть. От веку, сколько стоит на земле Русь, эти тени вершат ее судьбу…
И стонет Русь молитвами, и юродствует на площадях и папертях, а тени кублятся в ее угрюмых дворцах и как проклятье лежат на ней.
4
В царской молельне застывший полумрак, тяжелые тени – будто вмурованные в стены, зеленые отсветы лампад, пляшущие по алтарю, и пронзительный лик Христа, распластанный по иконам, – недремлющий и суровый страж этой затаенной угрюмости.
Федька Басманов отупленно смотрит в спину царя, застывшего на коленях перед образами.
– Басман?..
– Я здесь, цесарь!
– Пошто затаился?
Иван поднялся с колен – заслонил Христа; на лампадках дрогнули язычки пламени…
– Примысливаешь, как бы искусней натравить меня на бояр?!
Федька перевел дух. Царь и Христос пронзительно смотрели на него.
– Кто наущает тебя? Отец твой?
Федька встретился с глазами Христа – они были выпуклы и походили на крашеные пасхальные яйца.
– Пошто ему наущать? Он сам – боярин…
Иван вышел из молельни. Федька настороженно последовал за ним. В спальне Иван устало опустился на лавку, вытянул ноги… На полу валялись две старые мухояровые шубы, подбитые нелинялой белкой, – Федька кинул их нынче утром под ноги, чтоб не разбудить Ивана своими шагами. Возле окошка, на сундуке, стоял кувшин с вчерашним вином – Федька забыл его вынести.
– Коли боярин, так зачем ему супротив остальных бояр идти?
Зловещей тревогой прошибли Федьку царские слова. «Уж не навет ли какой?» – подумал он и мысленно перебрал всех, кто приближался к царю и вчера, и позавчера, и третьего дня…
Иван теребил свою всклоченную бороденку, ждал от Федьки ответа, а может, и не ждал… Может, он у себя спросил? И уже ответил.
– Аль вельми о трудном я тебя вопросил, Басман?
– Его самого вопроси, цесарь… Отца моего…
– Ну а ты?.. Ты, Басман, – сын боярский!
– Я тебе свою верность во всем доказал.
– А коли прикажу… отца родного пытать и казнить?..
– Ежели он тебе изменил – допытаю и казню.
– Верю тебе…
Иван потянулся к кувшину, отпил из узкого горлышка. Его отекшее, усталое лицо брезгливо дернулось.
– Эвон каким вином царя поят… В малолетство мое також – и поили и кормили, как пса, отбросами. Шуйский с прихвостнями в трапезной, бывало, все пережрут – обо мне и забудут. – Он снова хлебнул из кувшина, словно хотел сильней раздражить себя, и вдруг тихо, почти шепотом, проговорил: – Хан не придет нынче под нас… Не придет!
Федька нисколько не подивился такой быстрой и неожиданной перемене Ивановых мыслей: знал он эту его коварную странность – держать в голове наготове, как стрелы в натянутых луках, сразу по нескольку мыслей… Какую из них он выпустит – поди угадай!
5
Федька с презрительной ленцой ввалился в думную палату, прошел к середине и остановился, поставив ногу на лавку, где сидели Щенятев и Бельский.
Ропот пополз средь бояр. Бельский даже с лавки вскочил и прикрыл ладонью свою обильно умащенную бороду, будто Федька не на лавку наступил, а ему на бороду. Щенятев заедливо уставился на Федьку, но тот и глазом не повел в его сторону. Что ему Щенятев? Или Бельский? Ежели перед кем из присутствующих в палате и мог оробеть Федька, так только перед Мстиславским.
Могуч был Мстиславский – и богатством, и родовитостью: потомок великих князей литовских Гедиминовичей, он затмевал всех в думе, хотя и не был ее главою, степенно отодвинувшись за спину честолюбивого Бельского – троюродного царского племянника.
Еще и тем был силен Мстиславский, что честь его не была замарана никакими преступными делами. Ни в чем не мог упрекнуть его царь, даже в нерадивости, и, быть может, оттого и питал к нему непреодолимое недоверие.
Злорадствовал Федька над царской беспомощностью, а под князя подкапывался – коварно и зло, изо всех сил стараясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, чтоб очернить его, чтоб навести на него опалу и потешиться его поруганной гордыней, которой тайно завидовал, ибо и у царя не было столько надменности, сколько было ее у Мстиславского.
Из-за спины Щенятева презрительно смотрит на Федьку воевода Воротынский. И его побаивается Федька, хотя у старого воеводы спеси больше, чем у самого Федьки, а где спесь, там великой гордости не может быть. Да и царь крут с ним, хоть он и первый у него воевода.
Из дальнего угла поднялся и подошел к Федьке молодой князь Оболенский – лицом к лицу, как сходятся собаки мордой к морде, когда затевают грызню… Федька не успел даже сообразить, на что тот решился, как Оболенский резко сшиб Федькину ногу с лавки и сказал:
– Не на псарне!
Вскинулся Федька, будто кипятком его ошпарили… Больно ущемил его гордость княжич, и Бог весть, как бы они разошлись, если бы в палату неожиданно не вошел царь.
Для Федьки появление Ивана не было неожиданностью: он и пришел сюда только затем, чтоб известить бояр, что царь нынче думать с ними собрался, для всех остальных, а более всего для молодого Оболенского, появление царя было подобно грому с ясного неба. Молодой княжич даже шагу не отступил от Федьки – так и склонился в низком поклоне к самым Федькиным сапогам.
– Аль Басману ты ноги лобызаешь? – сказал Иван насмешливо, становясь напротив Оболенского.
Оболенский брезгливо откачнулся от Басманова.
Иван засмеялся, но в выпуклых светлых глазах его недобро сверкнули сузившиеся зрачки. То ли не по душе пришелся ему надменный вид Оболенского, то ли обозлили бояре, отмолчавшиеся на его шутку. Шутка была злая, но она была царская, и никто не должен был посметь пропустить ее мимо ушей.
Оболенский отступил назад, за спину Воротынского. Воевода горделиво выпятился, закрывая собой осрамленного княжича. Иван обратил на него свой взор:
– Пошто пыжишься, князь Михайла? Аль тесно тебе в шкуре своей?
Воротынский проглотил обиду, ни звуком не откликнулся на царский вызов.
Бояре молчали. Федька осклабился гадливой ухмылкой и со злостью плюнул на пол. Такого в думе не делал и царь.
Мстиславский сурово хлопнул в ладоши. В палату вошли два стрельца. Мстиславский обошел царя, приблизился к Федьке, решительно указал на него рукой. Даже при царе не посмели ослушаться Мстиславского стрельцы. Переложив в левые руки секиры, они угрюмо подошли к Федьке.
– Высечь! – коротко приказал Мстиславский.
Все замерли. Мстиславский стоял посреди палаты, спиной к царю, и спокойно ждал, когда стрельцы уведут Федьку. Бельский неотрывно смотрел на Ивана, и столько ужаса было в его глазах, словно под ним вот-вот должна была разверзнуться земля. Щенятев окаменел… Оболенский застыл за спиной Воротынского – надежное укрытие выбрал себе молодой княжич: старый воевода один только и не потерялся, не остолбенел. Но и он, бывалый вояка, рубавшийся и с татарами, и с поляками, и с ливонцами, не решился бы на такое. Он мог воевать с чужими государями и побеждать их – своему не мог даже прекословить.
– Стойте, – сказал не очень громко Иван, но все почему-то вздрогнули.
Он стоял вполоборота к Федьке, скашивая на него выпученные свои глаза, – на капризных весах его души лежала Федькина судьба.
– Вылижи… Языком вылижи!
Федька недолго колебался. Лучше уж принять унижение от царя, чем от бояр. Он опустился на колени и слизал с пола свой плевок.
Спиной, лопатками, затылком чуял он бушевавшее злорадство бояр, но вместо злобы, вместо буйной и дикой злобы за свое унижение его вдруг обуяла слезливая слабость: руки у него задрожали, подвихнулись, он сунулся лицом в пол и зарыдал.
– Встань, Басман, – сказал ему глухо Иван. – Встань, песья твоя душа!
Федька не поднимался – он или не слышал Ивана, или силы в нем не было, чтобы исполнить его приказание: плечи его тряслись, глухо прорывались стоны…
Иван наклонился над ним, обнял его трясущиеся плечи.
– Поднимись, Басман… Не продлевай свой позор.
6
К обедне ударили колокола – на Благовещенском и на Успенском. Особенно надрывались колокола на Благовещенском…
Когда-то ни одной обедни не пропускал в этом соборе Иван, слушая своего любимца и наставника Сильвестра. Умен был поп и высоко стоял, опираясь на царскую любовь, да уж больно многого захотел – царский ум подменить своим умом. От советов к повелениям перешел, да и это бы полбеды, кабы о благополучии царском радел… Так нет – в сторону отметнулся, врагам стал способствовать.
Ровно, бесстрастно гудят колокола – не дрогнет рука у звонаря, не собьется звук…
«Эк как звонят благовещенцы, будто Сильвестра озванивают», – подумал Иван, и образ изгнанного попа затмил ему глаза. Умный, благообразный, он пленил душу Ивана своими мыслями, праведностью и благочестием. Сколько мудрости излил он своими устами в душу Ивана и мудростью же послушание его царское добыл и доверие, которого никто не удостаивался. Послушание и доверие… Его, Ивана, послушание! Его доверие! И все это употребить во зло… На пользу врагам…
– К обедне отзвонили, – сказал осторожно Шереметев, стоявший ближе всех к Ивану, и поклонился, чтоб не встречаться с ним взглядом.
– Бог нам простит, бояре, коль не отстоим обедню одну…
– Да како ж – обедню… – заикнулся было Бельский и враз осекся, будто за горло его схватили.
– Ну, князь!.. – Иван хохотнул. – Ну же!.. Докончи! Вразуми царя иль попрекни его…
Бельский молчал. Только губы побелели у него.
«Все против меня, – думает Иван, терзая взглядом Бельского. – Все! И сей… И сей… В малолетство не извели – проглядели, теперь не отступят… Толико поры ждут. И сколько, однако, их?!»
Он быстро, словно пересчитывая, обводит глазами бояр. Тишина раскачивается и раскачивается на невидимых нитях, натянутых до предела, – вот-вот оборвется… Взгляд Ивана то останавливается, то опять быстро скользит по боярским лицам, и кажется, что он ищет средь них кого-то… Воротынский… Яковлев… Серебряный… Курлятев… Курлятев! С ним, с ним столкнулся Сильвестришка-поп! Приятели были – огнем не разожжешь, водой не разольешь! Его наущениями власть царскую к рукам прибирал хитрый поп. И в изгнание удалился с тайной мыслью, что позовет его царь назад… Не справится с душой своей и мыслями – и призовет опять к себе, отдав всю власть над собой. Ждет этого Курлятев и на поклон к попу ездит в Кириллов монастырь. Речи с ним ведет тайные… Знает Иван, о чем эти речи.
Судорогой пробежало по Ивану это новое воспоминание о Сильвестре. Вскинулась в нем злоба, заметались мысли, чуть бы – и оборвал тишину… Но взгляд его уже перескочил с Курлятева, двинулся дальше… Щенятев… Кашин… Шуйский! Этот тоже волчьей породы. Алчность и властолюбие кровью залили весь род его. Кто еще, кроме Шуйских, так рвется к царскому престолу?! Этот, буде, о престоле уже и не помышляет, но убийство дядьки своего, Андрея Шуйского, которого он, Иван, еще в малолетство выдал псарям, он не забыл. И не простил он ему этого убийства, и не простит, хотя ничем затаенной своей злобы не выказывает, и отомстит – неожиданно и подло, как в спину ударит.
– Что же, бояре, каково слово ваше будет? – глухо выговаривает Иван и переводит взгляд на Мстиславского. – Воевать нам дальше Ливонию иль отступиться да и сидеть так, взаперти, в Кремле до скончания века?.. Без моря! Без доброй торговли!
Дрогнули глаза у Мстиславского, но не отвел он их в сторону, выдержал взгляд Ивана и первым ответил ему:
– Каково нам, государь, чужую землю воевать, коли своей защитить не можем? Крымец терзает нас непрестанно, жжет наши города, люд наш губит и полонит…
– Крымчак беду великую чинит земле нашей, – вставил Шереметев. – Его воевать надобно. Дикое поле под себя забрать… Земля там добрая и угожая, много ее…
– Буде, через то, Шеремет, ты в крымскую сторону клонишь, – ехидно спросил Иван, – что уж заимел там поместья? Моим войском маетность свою защитить тщишься?
– Ведомо тебе, государь… – что-то вздумал ответить Шереметев, но Иван не дал ему.
– Ведомо мне, – перебил он его криком, – что городков вы там понаставили, вотчины разметнули!.. И ты – Мстиславский! И ты – Воротынский! Небось тоже станешь от Ливонии меня отговаривать? Поди, сгреб больше всех в Диком поле?!
– Я – воевода, государь, – с достоинством ответил Воротынский. – Все, что есть у меня в Диком поле, пожаловано тобой за мои труды ратные.
– Молчи, воевода, не оправдывай душу свою алчную! Ты своего нигде не упустишь… И братец твой – таковой же! О Руси так бы пеклись, как о богатстве своем!
– Мы все с тобой вместе печемся о Руси, – сказал Мстиславский.
– Молчи, князь!.. Молчи, коль запамятовал ты те беды, что чинят Руси и литвины, и свеи, и ляхи… Ирик, король свейский, и Фридерик – дацкой, запрет положили плаванью нарвскому… Жигимонт також – Гданьску да прочим городам приморским заказал торговать с Нарвой. Ни от фрягов, ни от немцев не идут теперь к нам купцы… А которые и идут – свейские да ляцкие каперы1 нападают на них. Аглинцы Белым морем плывут, да путь тот несносный, много по нему не находишь. Теперь Рига и Колывань2 снова всю торговлю у нас отнимут.
– Нам с заморцами торговать убыточно, – ввернул Шереметев.
– Правду речет Шереметев, – поддержал его Салтыков. – Аглинцы в Новограде сукно торгуют: по четырнадцати рублев с куска, а я, коли посольство у них правил, покупал таковой кусок по шести фунтов.
– Более не у кого взять нам то сукно, – мрачно сказал Иван. – Не у кого! Бухарцы везут к нам коренья и пряности, ногаи гонят лошадей… А нам пищали потребны и всякие иные припасы военные. Голаны и фряги бумагу везут – како ж нам без бумаги? Грамоте мы обучены изрядно…
Иван поднялся с лавки; ни на кого не глядя, прошел к дальней стене, остановился перед ней – руки сзади сцеплены в напряженье и злобе…
«Твердо встали… И в силе своей, и в правоте переуверенные… Отцу моему руки вязали упорством и противлением, и на моих руках виснут…»
– Бояре!.. – Иван резко обернулся. – Я пришел не молить вас… Я пришел сказать вам, что мы обречем Русь, коли море ей не добудем!
– Коли б только Ливония, государь, путь нам к морю заграждала, – тихо, но твердо проговорил Мстиславский. – И Польша, и Литва, и свеи – все поперек встают. Како нам разом супротив всех ополчаться?
– Вот ты теперь каковые речи речешь?! – Иван оглядел Мстиславского тяжелым взглядом. – И вы, поди, все мыслите тако ж?
– Мстиславский мудро речет, – сказал Серебряный. – Несносно нам воевать противу всех.
– Ты что скажешь, воевода? – обратился Иван к Воротынскому.
– Бесславно воевать не привык, государь!
– Бесславно?! – взметнулся Иван. – А не вы ль, бояре, на мир стали с ливонцами, коли победа и слава была в наших руках? Не вы ль, с попом Сильвестришкой в сговоре, на мир сей склоняли меня? Не замирись мы тогда, вся Ермания уж была бы за православною верою.
– Король дацкой – Фридерик, государь, посредником был, – сказал Мстиславский. – Он тебе грамоты слал и послов своих… Он тебя к миру склонял.
– Фридерик лукавил с нами… Но и вы лукавили разом с ним. В угоду себе, бояре, вы преступили пред Богом!.. И пред отечеством нашим! Воля ваша, бояре, радеть за жир и живот свой и быть супротив меня или радеть за Русь-отчизну и быть заодно со мной. Но я – царь на Руси, – с остервенением и болью вышептал Иван. – И не быть мне у вас под руками!
7
Васька Грязной как ополоумевший влетел в думную палату – полураздетый, потный, со следами крови на плохо вымытых руках – и с налету бухнулся на колени, нахально и восторженно рыща глазами по растерянным лицам бояр.
– Он сознался, государь!.. Сознался! – Васька рабски поклонился Ивану, стукнувшись лбом о пол.
Ужасом дохнуло на бояр от этой дикой восторженности Грязного, от его слов и от его рабского поклона. Они отпрянули к противоположной стене, сбились в кучу, словно это могло защитить их от той неожиданно нагрянувшей беды, что ворвалась вместе с Грязным.
– Наложи крест и ответствуй: кого назвал? – повелел сурово Иван.
– Крест кладу, государь… Бельского назвал!
Радость, злая и горделивая радость осветила Ивану лицо: должно быть, только сейчас, увидев напуганных и смятенных бояр, почувствовал он, что стал царем, – только сейчас, а не тогда, шестнадцать лет назад, когда дерзко надел на себя шапку Мономаха и повелел величать себя царем. Он вдруг опустился на колени подле Васьки и сдавленным от волнения голосом промолвил:
– Молись, Василий… Молись за тех, кто сам за себя не сможет уже помолиться. А я помолюсь за тех, кто, позабыв Бога, посылает на градские распутия шельмовать народ и супротив нас, царей, подбивать! Реку, яко богородица, шедшая по мукам: «Дабы ся не ражали»3.