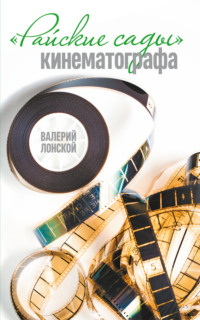Kitobni o'qish: «Райские сады кинематографа», sahifa 3
«Приезжая» – одна из немногих моих картин, сдавая которую в Госкино СССР (а принимал ее заместитель Председателя комитета Б. В. Павленок), я отделался малой кровью. Павленок потребовал удалить часть одного эпизода и переозвучить несколько реплик в другом. К счастью, он не потребовал убрать из фильма песню В. Высоцкого «Кони», которую слушает со своей подругой деревенский сердцеед Кочеток (С. Торкачевский), что было для меня удивительно. В те времена песни Высоцкого обычно изымались из фильмов как нечто крамольное. Начальство постоянно требовало заменить их на песни других авторов.
И прокатная судьба у фильма «Приезжая» сложилась удачно. Картину широко показывали в разных регионах страны, и она собрала свыше двадцати семи миллионов зрителей.
После этого фильма отношение ко мне студийного начальства изменилось в лучшую сторону.
Глава вторая
Итак, завершилась работа над фильмом «Приезжая». Пора было думать, что делать дальше. Начались поиски нового сценария. Найти на студии хороший и невостребованный сценарий равносильно обнаружению клада из золотых монет в своем огороде. В редакторском портфеле Первого объединения, в штате которого я числился, ничего подходящего не было. Имелась там пара безликих сценариев, за которые никто не брался, и несколько заявок из разряда «на злобу дня», тоже малоинтересные. В главной редакции «Мосфильма» ситуация была не намного лучше. Повторения истории со сценарием «Приезжая» быть не могло. Тогда мне просто повезло. У Артура Макарова, с которым я подружился, был готов новый сценарий, но на этот раз это был детектив, а я в тот период не испытывал тяги к этому жанру.
Остро встал вопрос: что же делать? И я пришел к мысли, что, видимо, должен написать себе сценарий сам. У меня был уже некоторый опыт в этом деле: сценарий по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль», написанный вместе с В. Шамшуриным и отвергнутый Герасимовым; сценарий фильма «Коловерть», над которым шла работа в соавторстве с Ю. Лукиным и тем же В. Шамшуриным; сценарий «Быть!» (по повести «Мы убегали на фронт»), написанный в соавторстве с В. Муратовым, от которого впоследствии мне пришлось отказаться; а также «кройка и шитье» разных вариантов сценария «Небо со мной». Я посчитал это достаточным основанием, чтобы самому взяться за написание сценария.
Довольно быстро придумался сюжет (это была история незамужней женщины, решившей родить ребенка без мужа), и я приступил к работе. К весне 1978 года я представил в объединение готовый сценарий, называвшийся «Музыка для двоих». Пусть читателя не смущает перекличка названия с рязановским «Вокзалом для двоих». Тогда никакого рязановского фильма и в помине не было.
Сценарий в объединении был встречен благожелательно, мне дали небольшие поправки. В главной редакции студии к сценарию отнеслись не столь радостно, но все же поддержали его, дав ряд замечаний – более существенных.
После того как я внес поправки, главная редакция приняла сценарий, и он был отправлен с положительным заключением, как и полагалось в то время, в Малый Гнездниковский переулок – в Госкино СССР.
В Госкино имелась своя редактура, более свирепая, чем на киностудиях. Редакторы, сидевшие в тамошних кабинетах, больше думали о том, как удержаться в своих креслах, а не о правдивости и талантливости будущих кинопроизведений. Лишь только в руки к чиновникам, работавшим там, попадал яркий незаурядный сценарий, в них просыпался удвоенный, а порою утроенный цензорский зуд, и они изгалялись как могли, прессуя то или иное авторское сочинение, вымарывая оттуда все живое и талантливое. Там были подлинные мастера этого пыточного дела: Б. Павленок, Д. Орлов, Э. Раздорский, Е. Котов, В. Щербина, И. Садчиков и др. Немалый вред нанесли они отечественному киноискусству, уродуя произведения М. Хуциева, В. Шукшина, А. Тарковского, Э. Климова, М. Калика, М. Богина, А. Германа, Л. Шепитько, И. Авербаха, Г. Панфилова и многих других режиссеров и сценаристов. Хочу, чтобы читатели знали их имена, возможно, тогда в будущем другим неповадно будет служить в опричнине.
Итак, сценарий «Музыка для двоих» лег на стол к чиновным людоедам. На обсуждении, куда меня пригласили, его «отутюжили» по полной программе. И сегодня, много лет спустя, не могу без омерзения читать тогдашнее заключение на сценарий. Чего мне только не ставили в вину! Советская женщина не должна заводить ребенка без мужа, а тем более решать с подругой, кто лучше подойдет на роль отца; она (советская женщина) не должна неизвестно с кем ложиться в постель; нельзя, чтобы соискатели на роль отца будущего ребенка были столь непривлекательны и корыстны; нельзя проповедовать буржуазные моральные ценности (а как вам наше сегодняшнее время? где вы, господа цензоры, ау?!); кроме того, по мнению комитетских «судей», положительный герой, которого полюбила героиня, был недостаточно положительным и, самое ужасное, погибал в финале, пытаясь спасти ребенка! (С воплями по поводу смерти положительного героя, который не должен погибать, мне еще не раз придется столкнуться во время сдачи в Госкино СССР фильма «Летаргия».)
В завершение обсуждения последовало еще одно замечание: зачем я, режиссер, берусь за написание сценария? Смысл его был таков: занимайтесь-ка своим делом, дорогой товарищ! «Не от хорошей жизни берусь! От отсутствия интересных сценариев! – хотелось крикнуть мне. – Потому что такие, как вы, вытаптывают всякую свежую мысль!» Но, признаюсь, я промолчал. Сидел, прикусив язык, сдерживая себя, чтобы не наговорить грубостей в лицо этой публике. А следовало бы!
Одним словом, сценарий «Музыка для двоих» завернули окончательно и бесповоротно. Потратив на работу над ним около года, я вновь оказался на нуле. В объединении мне могли только посочувствовать.
На дворе уже стояло лето 1978 года. Оправившись от удара, я начал обдумывать тему и сюжет для нового сценария. Несколько недель мучительных поисков, затем месяцы работы за пишущей машинкой, и весной 1979 года я представил в объединение новый сценарий под названием «Тополиный пух». Впоследствии он стал называться «Белый ворон». В целом сценарий был принят редколлегией объединения доброжелательно. Редактор Ольга Козлова, с которой мы продолжали сотрудничать с фильма «Приезжая», сказала о нем и его герое немало хороших слов. Пожалуй, только главный редактор В. Карен отнесся к сценарию прохладно, уж больно не по душе ему пришелся герой сценария, Егор Иконников, который, в силу душевной простоты и наивности, нередко вел себя вызывающе и бесцеремонно, желая тем самым оберечь свое человеческое достоинство. Но В. Карен не стал препятствовать утверждению сценария. Возможно, он надеялся, что сценарий завернут где-либо в инстанциях свыше.
Когда главный редактор студии Л. Нехорошев ознакомился со сценарием, я имел с ним обстоятельный разговор. Нехорошев отнесся к сценарию сочувственно. Но не более того. Что-то похвалил, что-то поругал. И в итоге заявил, что мне нужен соавтор, профессиональный драматург. В кинокомитете, напомнил он, не любят, когда режиссеры сами пишут для себя сценарии, особенно молодые. И чтобы не осложнять себе жизнь, рекомендовал взять соавтора. «В конце концов, – сказал он, – это будет только на пользу сценарию. Человек посмотрит свежим взглядом на твою историю, что-то добавит, улучшит». – «А как же Панфилов? Губенко? Жалакявичюс? – возбудился я, вспомнив режиссеров нашего объединения. – Они же снимают по собственным сценариям. Да и других немало!..» – «На них работает их авторитет… К тому же у них есть покровители», – заявил Нехорошев.
Ушел я от Нехорошева в угнетенном состоянии. Получался замкнутый круг. Предложить мне полноценный профессиональный сценарий ни объединение, ни главная редакция не могут, но и самому мне, получается, писать не следует. Хотя литературное качество моего сценария у членов редколлегии объединения не вызвало нареканий. Опять же, где найти толкового драматурга, который захочет подключиться к чужой работе? Хорошие драматурги на дороге не валяются.
И тут произошло следующее. Редактор нашего объединения И. А. Сергиевская, узнав о моем разговоре с Нехорошевым, предложила познакомить меня с драматургом и писателем Владимиром Карповичем Железниковым, автором нескольких книг для детей, и в частности знаменитой впоследствии повести «Чучело». Железников был еще и успешным сценаристом, писавшим для детского кино. Я согласился с ним встретиться. И вскоре знакомство состоялось. Встреча произошла в кабинете у той же Сергиевской.
Железников произвел на меня хорошее впечатление. Это оказался человек средних лет, интеллигентный, дружелюбный, простой в обращении и, самое главное, трезво оценивающий себя и свое творчество.
Признаюсь, это был один из удачных дней в моей жизни. Мы быстро нашли общий язык, подружились. (Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мы с Железниковым написали в соавторстве четыре сценария.)
Прочитав мой сценарий, Железников согласился помочь мне. Деликатно, сохраняя авторскую манеру, он прописал некоторые детали, уточнил характеры, отчего, следует признать, сценарий прибавил в выразительности.
После проделанной работы сценарий «Белый ворон», теперь уже за двумя фамилиями, был отправлен в Госкино СССР – на пиршественный стол к местным чиновникам.
На удивление, серьезной экзекуции на этот раз не последовало. Сценарий утвердили. Видимо, радетелей за моральный облик советского человека привлек образ главного героя – молодого парня из шахтерской среды, полюбившего замужнюю женщину, который по простоте душевной резал в глаза окружающим правду-матку, презирал стяжателей и всякого рода приспособленцев. По сценарию сделали ряд небольших замечаний и посоветовали более определенно проявить в начале фильма шахтерскую принадлежность героя. Так появился пролог, где мы видим героя у себя на шахте. Первоначально сценарий начинался со сцены в южном курортном городе, куда герой, Егор Иконников, приехал на отдых по профсоюзной путевке.
И вот в начале 1980 года, после двухлетних мытарств, я запустился в кинопроизводство со сценарием «Белый ворон».
Творческая группа осталась прежней. Оператор – Владимир Папян, художник – Петр Киселев (оба неплохо себя проявили во время работы над фильмом «Приезжая»). Редактором вновь была Ольга Козлова, помогавшая мне – и морально, и творчески – на всех этапах прохождения сценария по инстанциям.
Директором картины руководство объединения назначило Леонида Коновалова, весьма специфического господина, обладателя респектабельной внешности, благородной седой шевелюры, эпикурейца и охотника доносить начальству в подробностях о том, что происходит на съемочной площадке и за ее пределами, деятельность которого принесла мне во время съемок фильма немало проблем. (Десять лет спустя Коновалов под именем Леонарда Карнавалова появится на страницах моего романа «Большое кино», и желающих узнать отдельные подробности нашего кинематографического бытия в период съемок и роль Коновалова в тех событиях я отправляю к этой книге. Только читателю следует помнить, что перед ним художественное сочинение, полное вымысла, а не документальная проза.)
На должность второго режиссера была назначена Зоя Ильинична Рогозовская, в прошлом актриса Московского театра оперетты, прошедшая на «Мосфильме» путь от помрежа до второго режиссера. Как показало время, это был удачный выбор. С Зоей Ильиничной мы продолжили наше сотрудничество и на следующем фильме – «Летаргия». Конечно, Рогозовская не была фигурой столь масштабной, как вторые режиссеры типа И. Петрова, работавшего на «Андрее Рублеве», или В. Досталя (постоянно сотрудничавшего с С. Бондарчуком), но она неплохо знала производство, умело планировала работу съемочной группы и со знанием дела подбирала актерский состав. Это З. Рогозовская предложила взять на главную роль в фильме актера Владимира Гостюхина, разглядев в нем и темперамент, и обаяние, запрятанное под его пролетарской, несколько отрицательной внешностью.
На роль Сони, героини, З. Рогозовская настойчиво предлагала взять актрису Ирину Алферову. Я сделал кинопробу с Алферовой. И не рискнул утвердить ее, побоявшись, что в силу своего сдержанного темперамента Ира не сможет сыграть «на разрыв» финальную сцену фильма. Возможно, я ошибался.
Сделали мы кинопробу и с Ольгой Остроумовой, которая вполне могла бы стать нашей героиней, но Ольга была уже известной актрисой, за ней тянулся шлейф ее ролей, и меня это смущало.
Хотелось найти малоизвестную актрису, но способную сыграть трудную эмоциональную сцену в финале. Одержимый этой идеей, я поддался на уговоры нашего помрежа С. Богуславской, которая настоятельно советовала взять на роль Сони молодую актрису Театра имени Е. Вахтангова, вчерашнюю выпускницу Щукинского училища Ирину Дымченко, миловидную, способную, никому доселе неизвестную. И я, пойдя на поводу, утвердил Дымченко на роль Сони. И потом неоднократно жалел об этом. От меня скрыли, что Дымченко моложе нашей героини лет на пять-семь. А это было важное обстоятельство. В силу отсутствия необходимого жизненного опыта Дымченко, вчерашняя студентка, не смогла в должной мере сыграть тонкости поведения замужней женщины, прожившей в браке несколько лет, что предлагал сценарий. Кроме того, Дымченко не очень горела этой ролью. В силу этого в сценах с ее участием мне нередко приходилось смещать акценты в сторону других исполнителей – Владимира Гостюхина или Александра Михайлова (игравшего мужа Сони Аркадия). Завершая разговор о Дымченко, скажу еще об одном печальном обстоятельстве, связанном с нею. Наши натурные съемки проходили в начале лета в городе Геленджике и его окрестностях. Это была пора цветения многочисленных растений. А у Дымченко, как выяснилось, в период цветения случаются сильные приступы аллергии. У нее слезились глаза, текло из носа, и снимать ее в таком состоянии было крайне сложно. Когда же она принимала лекарство от аллергии, то утрачивала способность активно действовать в кадре, ее тянуло в сон… Но, как известно с незапамятных времен, во всем всегда виноват режиссер! Я утвердил актрису Дымченко, и я несу в полной мере ответственность за ее работу. Все же несколько слов в защиту актрисы следует сказать. Финальную сцену, снимавшуюся поздней осенью на стройке в Кузьминках, актриса провела очень и очень неплохо. И благодаря этому финал фильма прозвучал эмоционально убедительно.
Несколько слов о съемках натуры в Геленджике. Хочу выделить два момента, отрицательно сказавшихся на работе съемочной группы. Первый: оператор фильма взял с собою на съемки непроверенный объектив-«трансфокатор», оказавшийся неисправным, и по этой причине в материале было немало брака – в ряде кадров изображение оказалось нерезким. На пересъемку ушло несколько дней и много дополнительной кинопленки, которую впоследствии мне пришлось лично оплачивать из своего кармана. Наличие брака создавало нервозную обстановку в группе. Другой режиссер на моем месте, более жесткий и требовательный, такой, к примеру, как Элем Климов, непременно заменил бы оператора. И с ним половину операторской команды. Но я даже не думал об этом. Мы с оператором Владимиром Папяном были в дружеских отношениях, вместе слаженно работали на «Приезжей», которую, по моему мнению, он снял весьма неплохо.
Второй момент, повлиявший на работу киногруппы: актер В. Гостюхин во время съемки одного из проездов на мотоцикле, неудачно рванувшись с места, упал с мотоцикла и сломал кисть руки. Руку на три недели упаковали в гипс, и мы все это время, чтобы не останавливать съемки (а Гостюхин практически снимался из кадра в кадр), вынуждены были изыскивать способы, как снимать актера, избегая при этом показывать руку в гипсе. Это было весьма непросто, особенно на средних и общих планах. Лангетку, наложенную на сломанную кисть, приходилось постоянно маскировать с помощью женского чулка телесного цвета, надевая его поверх гипса. На крупных планах такой мороки не было. В целом мы справились с этой проблемой. Но все же есть в фильме три-четыре кадра, где, если внимательно приглядеться, можно увидеть, что с рукой артиста что-то не так.
Материал фильма, показанный на худсовете объединения, на котором присутствовали члены главной редакции студии, встретили доброжелательно. Работа актеров была признана хорошей. Изобразительная сторона тоже не вызвала нареканий. Но при съемках значительно удлинился ряд сцен, и в дальнейшем мне пришлось немало помучиться, чтобы не выйти за рамки строго утвержденного тогда Госкино стандартного объема для каждого игрового фильма – 2500 метров. И потерь избежать не удалось, выпало несколько важных для пластики и смысла фильма сцен. Это значительно снизило художественный уровень картины. Вообще заставлять художника оставаться в рамках строго утвержденного объема произведения – 2500 м и ни метром больше – вещь порочная! Это столь же абсурдно, как требовать от Льва Толстого, чтобы в его романах было определенное количество страниц, к примеру, 300, и не более того. К счастью, в ельцинское время это дурацкое положение было отменено.
При сдаче за неделю до Нового (1981) года готового фильма генеральной дирекции случилось еще вот что. Н. Сизов, в целом воспринявший фильм весьма благосклонно, потребовал переделать финал, точнее, сделать к нему досъемку. «Что это ваш герой, – заявил он на обсуждении фильма, – оставляет героиню поздним вечером одну на стройке и уходит, исчезая во мраке? Это неправильно! Сократите эпизод, где героиня остается одна. А герой пусть выйдет на вечерние оживленные улицы города, где горят огни и идут радостные люди… Наши люди!» – «Николай Трофимович! – заметил я в ответ. – В фильме – лето! А сейчас зима, последние дни декабря! Где же мы снимем все это?» – «Поезжайте на юг, в Сочи, например, и снимите там несколько кадров. Я разрешаю вам эту командировку! – заявил Сизов. – В хорошей картине должен быть и хороший светлый финал!»
Трудно было спорить с ним. К тому же его требование не разрушало общего впечатления от фильма. Жаль было только заключительных кадров, где Гостюхин, отвергнутый Соней, уходил в темноту, а на первом плане из трубы, расположенной на высоте человеческого роста, долго текла струя воды золотистого цвета, пронзительно яркая на фоне вечернего пейзажа, похожая на расплавленное золото, – из этой струи, прежде чем уйти окончательно, герой Гостюхина, ставший после всего случившегося духовно мудрее, зачерпывал горсть воды и ополаскивал лицо. Пластику этих финальных кадров подкрепляла замечательная музыка Исаака Шварца, с которым я впервые сотрудничал и участие которого во многом обогатило фильм.
Локальной группой мы отправились на два дня в Ялту. То, что удалось там снять, оказалось неудачным. При отсутствии необходимого количества осветительных приборов и прочих вспомогательных условий снятые кадры получились темными и не давали светлого настроения, которого так хотелось Н. Сизову. Увиденное им на экране привело его в сильное раздражение. «Вы что, издеваетесь надо мной?! – воскликнул он. – Делайте что хотите, но добейтесь нужного эффекта!»
На наше счастье, в Москве случилось потепление. Температура поднялась до –5 градусов. И мы смогли локально отснять «летнюю» улицу города и Гостюхина, идущего в одном пиджаке мимо ярких витрин и вечерней гуляющей публики. Снимали это в арочном проходе в здании, где находилась редакция газеты «Известия», – был там в то время широкий проход с витринами, выходивший на улицу Горького (Тверскую) прямо напротив магазина «Наташа».
По команде из дирекции отснятый материал быстро обработали в лаборатории и выдали съемочной группе. Затем три часа тщательной работы с монтажером фильма. И в шесть часов вечера 29 декабря – за два дня до Нового года – мы показали исправленный вариант финала Н. Сизову. «Ну вот, это другое дело!» – удовлетворенно заявил директор студии. На том и расстались, поздравив друг друга с наступающим праздником.
В Госкино картину принимали после новогодних праздников. Группе было предложено переозвучить несколько реплик и сократить общую длину картины, которая на 120 метров вышла за пределы положенного метража. Мы с Железниковым были рады, что сумели пройти через чиновничьи заслоны без серьезных смысловых потерь. Хотя прокрустово ложе в виде метража фильма в 2500 метров и ни метром больше, как уже было сказано, отразилось на художественном уровне картины.
Фильм «Белый ворон» успешно прошел в прокате, имел положительную прессу. Несмотря на резко отрицательное отношение к фильму сотрудника Госкино О. Тейнешвили, ведавшего в тот период отправкой фильмов на международные кинофестивали, комитетское начальство отправило картину на кинофестиваль в Монреаль. Судя по рассказам В. Гостюхина, ездившего туда в качестве гостя, и по переводам привезенной им местной прессы, картину хорошо приняли. В прогнозах были премия за лучшую мужскую роль и даже премия за лучший фильм. Увы, ни того ни другого мы не получили и вынуждены были довольствоваться лишь дипломом участника. По рассказам того же Гостюхина, беседовавшего с отдельными членами жюри, фильм, и особенно его герой, жесткий, вызывающе грубоватый, пришелся не по душе председателю жюри – итальянской кинозвезде пятидесятых годов Джине Лоллобриджиде, и та сделала немало, чтобы оставить фильм за чертой призеров. Впрочем, трудно по разговорам с определенностью судить, так это было или иначе.
Шел 1981 год. Пришло время подумать о новой работе. Теперь уже вместе с В. Железниковым, с которым у нас сложилось полное взаимопонимание, мы приступили к написанию сценария «Летаргия». Фильм «Летаргия» стал для меня одним из самых любимых, но и принес немало переживаний, связанных с борьбой за его судьбу.
Содержанием сценария стала судьба ученого, Вадима Бекасова, испытавшего разочарование в людях, устранившегося от активной общественной жизни и живущего своими сугубо личными интересами. Кажется, ничто не способно его прошибить. Ни общественные катаклизмы, ни проблемы и страдания окружающих. Он живет в своем собственном мире. И лишь смерть матери, проживавшей в городе его детства, поездка туда на похороны, встреча с бывшей женой и взрослой дочерью, о которых он и думать-то забыл, приводят в движение заржавевшие механизмы его души. И когда Бекасов словно просыпается от спячки, судьба посылает ему испытание. Он становится свидетелем жестокой сцены, происходящей в тамбуре ночной электрички. Несколько подвыпивших хулиганов берут в заложницы молодую девушку, не успевшую сойти на своей станции, и начинают издеваться над ней. Девушка такого же возраста, что и дочь Бекасова, и даже чем-то на нее похожа. Что предпримет Бекасов? Закроет глаза и отвернется, как он делал это раньше и как это делают сидящие в вагоне поздние пассажиры? Или все-таки, одолев свой страх, вмешается в происходящее? Долгая мучительная сцена внутренней борьбы завершается тем, что Бекасов вступается за девушку, пытаясь спасти ее от издевательств пьяных отморозков. Но силы неравны. Хулиганов несколько, а он один. Бекасова жестоко избивают и выбрасывают из вагона электрички на полном ходу. Бекасов погибает. Таков итог. Но благодаря его вмешательству девушке удалось спастись, и это самое важное. История завершалась пробегом девушки и милиционера, обнаруженного ею в одном из вагонов, к месту, где бесчинствуют хулиганы. Милиционер и девушка перебегают из вагона в вагон, и по мере их движения вперед к ним присоединяются сидящие в вагонах пассажиры, их все больше и больше, и вот уже бежит целая толпа людей, не желающих мириться с насилием…
На одном из первых обсуждений сценария редколлегией Первого объединения Ольга Козлова, редактор двух моих предыдущих фильмов, высказалась довольно резко относительно содержания и концепции сценария, и нам, увы, пришлось с ней расстаться. Неразумно сотрудничать с людьми, если они не приемлют ваш замысел. Редактором фильма стала Ирина Гаевская. И прошла с нами весь тернистый путь от начала и до конца.
На волне удачного в глазах начальства фильма «Белый ворон» сценарий «Летаргии» в целом довольно спокойно прошел все инстанции. В Госкино нам дали ряд замечаний. Редактура предлагала не делать героя таким отгороженным от жизни и советовала по возможности обойтись без смерти героя в финале. Но, высказав свои соображения, чиновники в Комитете не стали препятствовать запуску сценария в кинопроизводство и рекомендовали провести эту работу во время подготовительного периода.
Группу запустили в подготовительный период. Не удовлетворенный в полной мере работой В. Папяна и П. Киселева на прошлой картине, я пригласил снимать фильм Анатолия Иванова, молодого энергичного оператора, а стать художником-постановщиком предложил Элеоноре Немечек, с которой мы вместе трудились еще на фильме «Небо со мной», где она была декоратором. После смерти мужа Э. Немечек теперь работала самостоятельно.
Опять возникла проблема с выбором директора картины. Обычная история при запуске фильма в производство: хороших директоров картин на студии всегда был недостаток, плохие же спросом не пользуются. В тот период, о котором идет речь, квалифицированных свободных директоров картин в производственном отделе в наличии не оказалось.
И мне пришлось довольствоваться кандидатурой Людмилы Габелаи, которую предложила директор нашего объединения Л. Канарейкина. Это был черный день в моей жизни, когда я согласился работать с этой особой. Габелая оказалась непрофессиональным, ленивым, лживым человеком, мало того, еще и подлым. Она всё старалась делать вопреки. С горечью читаю свой дневник того периода, где немало страниц посвящено ее подлым поступкам, которые не поддаются объяснению. Невозможно представить себе, чтобы в американском или в европейском кино организатор производства, отвечающий за организацию съемок, делал все для того, чтобы мешать съемочному процессу, по принципу «чем хуже, тем лучше»! К сожалению, работников, подобных Габелае, в тот период на «Мосфильме» было немало. Целью этих людей было разрушать, а не созидать. Это был какой-то отечественный феномен, наше местное ноу-хау!
Где-то в середине съемочного периода я уже готов был убрать Габелаю с картины, но под давлением обстоятельств дал слабину и оставил ее в съемочной группе.
Проведя ряд подготовительных работ, мы приступили к подбору актеров.
Первый, о ком мы с Железниковым подумали, еще работая над сценарием, был актер Александр Кайдановский. Нам казалось, он прекрасно подходит на роль Бекасова. Приступив к подбору актеров, я позвонил Кайдановскому и попросил прочесть сценарий, который ему отвезли в тот же день. Дня через три он позвонил мне в группу, сказал, что готов поговорить, и просил приехать к нему домой. Меня, признаюсь, удивило его «барское» желание разговаривать с режиссером-постановщиком у себя дома, а не на студии, как это было принято, но я не стал спорить. Хотелось получить согласие актера и снимать его.
Мы созвонились с Железниковым и поехали на встречу с Кайдановским вдвоем. Квартира, где обитал в то время Кайдановский, находилась в центре, где-то в районе Козицкого переулка, точно уже сейчас не помню.
Эта встреча, признаюсь, произвела на меня тягостное впечатление. Кайдановский провел нас в комнату, где сидела неизвестная молодая дама, с которой, судя по всему, у него были близкие отношения, и весь разговор происходил при ней, отчего я испытывал сильное неудобство. У меня сложилось впечатление, что он хотел произвести на молодую женщину впечатление: дескать, вот каков я! Ко мне на поклон приходят режиссеры со сценаристами! Одним словом, Кайдановский сказал, что сценарий ему понравился, понравилась и роль, но на «Мосфильме» он сниматься не станет. Никогда! «Ноги моей там не будет! – заявил он. – Я не желаю иметь дело с Сизовым и его людьми!..» Мы стали его уговаривать, но Кайдановский был непреклонен и, видно было, получал удовольствие от того, что он такой принципиальный и великий. Молодая дама смотрела на него глазами, полными восторга. «Если вы перейдете на другую студию, тогда я готов сниматься!» – сказал он. «Как это – перейдем на другую студию? – вопросил я, все еще тая надежду его уговорить. – Отправимся на „Ленфильм“, что ли? Как вы это себе представляете? И потом, кто нас ждет на другой студии? Это же целая история!» – «Ну, как знаете, – завершил разговор Кайдановский. – Но на „Мосфильме“ я работать не буду… – И словно припечатал: – Никогда!» Следует сказать, что «принципиальный» Кайдановский не сдержал своего слова и прекрасно в дальнейшем работал на «Мосфильме» и снял там как режиссер кинокартину «Жена керосинщика». Вот так.
А тогда мы с Железниковым вышли от него весьма раздосадованные. Но делать нечего. Не хочет человек – и не надо!
Стали думать, кто бы мог еще сыграть эту роль? На ум пришли сразу два артиста – Юрий Богатырев и Андрей Мягков. Хотя они очень разные, но каждый по-своему интересно мог бы сыграть роль Бекасова.
Решили сначала переговорить с Богатыревым. Юра тут же откликнулся, на следующий день появился в группе. Взял сценарий и где-то в закутке на студии в течение часа прочел его. «Роль мне нравится, и сценарий тоже… – сказал он, и блеск в его глазах подтверждал удовлетворение прочитанным. Но дальше последовало неожиданное признание: – Видите ли, сейчас я пробуюсь на главную роль в картине Г. Мелконяна „Нежданно-негаданно“. И если меня там утвердят, сниматься у вас я не смогу. Если не утвердят – то с великим удовольствием! Вы уж извините! Если бы вы мне предложили ваш сценарий три недели назад, до того, как ко мне обратилась группа Мелконяна, тогда другое дело!»
Богатырева в группе Мелконяна утвердили, и мы расстались. Правда, после этого в течение ряда лет всякий раз, встречаясь с Юрой на студии, мы вели дружеские беседы, обсуждая разные новости из области искусства, которые нас в той или иной степени волновали.
Но, как говорится, что Бог не делает, всё к лучшему! Так мы пришли к кандидатуре артиста Андрея Мягкова. Железников был хорошо знаком с ним по работе над фильмом «Серебряные трубы», где он (Железников) был автором сценария, а Мягков сыграл в нем роль писателя Аркадия Гайдара. Железников позвонил Мягкову, тот попросил прислать сценарий. Прочитав его, Мягков сразу дал согласие участвовать в нашем фильме. И я очень рад, что именно он сыграл в «Летаргии» главную роль. Работу с Андреем вспоминаю как праздник. Несмотря на то, что Мягков ограничивал нас во времени. В тот период он был сильно занят на репетициях во МХАТе, где-то еще снимался и, приезжая на съемки в Лиепаю (Латвия), давал нам для работы только три дня в неделю. Мягков – замечательный мастер, профессионал высокого уровня, способный выражать самые разные оттенки душевного состояния своих героев. Доброжелательный, лишенный снобизма, умеющий в трудные минуты прийти на помощь режиссеру, он во многом определил художественный уровень фильма. И я ему очень признателен за это.
Bepul matn qismi tugad.