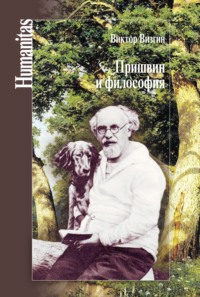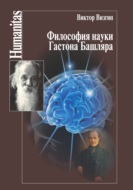Kitobni o'qish: «Пришвин и философия»
© С.Я. Левит, составление серии, 2016
© В.П. Визгин, 2016
© Центр гуманитарных инициатив, 2016
Моим внукам, Павлу и Тимофею, с благодарностью
за радость вновь обретенного детства
Не вступаем ли мы в эпоху, когда особенное значение приобретает форма записи на лету, начиная с дневника и письма и кончая стихотворением и очерком?
Валерия Пришвина
С отвращением отбрасываю старую условность скрывать от читателя свое авторское бытие.
Михаил Пришвин
Предисловие
Пришвин и философия1… Союз «и» здесь предполагает, что соединяемые им термины расходятся между собой, что то, с чем мы имеем дело, читая произведения Пришвина, включая и его обширные дневники, не есть философия. Но союз «и» имеет в данном случае и другой смысл, можно сказать, даже противоположный. Это означает, что мы можем все же принять мысль Пришвина за философскую. Сочетание указанных смыслов означает лишь одно: у Пришвина есть своя философия, но она значительно отличается от того, что обычно называется этим термином. Иными словами, если и допустимо считать его все же философом, то это какой-то нестандартный философ – философ-художник. Даже поверхностно познакомившись с его творчеством, мы понимаем, что какая-то необычная для «стандартного» философа познавательная и по сути дела философская работа писателем ведется, что он мыслит широко и глубоко. Например, порой даже он, подобно философским идеалистам, ставит мысль как таковую в положение первоначала почти так, как это делал Гегель, но, конечно, без присущего ему систематического изложения своего учения об Абсолюте.
Поэтому представляется допустимым, что все же, с определенными оговорками, можно говорить о собственной философии Пришвина, а не только о внешней ему, которая как-то на него «влияла».
Вхождение в мир мысли Пришвина, не отрывной от его жизни и слова, стиля и поэтики, значимо не только для понимания вклада его в русскую и мировую культуру, но и для самой философии в наше время, когда она стремится обновить свои связи с жизнью. Основной завет Пришвина как мыслителя прост и совпадает с тем уроком, к которому автор этой книги пришел за долгие годы работы в профессиональном сообществе философов и историков. Его можно определить, как задачу мыслить самостоятельно, на свой страх и риск, опираясь на личный духовный опыт, подсказывающий пути решения встающих экзистенциальных проблем, и в то же время проверяя возникающие гипотезы о путях их решения.
Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась в некоторой степени по-пришвински, отчасти в манере дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Так сложилось само собой, а не было задумано заранее. Просто я читал дневники, перечитывал произведения писателя и записывал возникающие мысли. Потом, когда некоторый подобным образом возникший материал собрался, я решил его расширить за счет более научно ориентированного исследования темы, с тем чтобы можно было оформить его в виде книги. Это решение возникло как-то само собой после выступления на семинаре по русской философии 23 апреля 2015 г. в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева», посвященном философии дневников Пришвина.
Вечер удался. Начался он показом подборки дневниковых высказываний и фоторабот Пришвина под аккомпанемент музыки Скрябина. Известный исследователь творчества писателя, Яна Зиновьевна Гришина, рассказав об истории «домостроительной» мечты Пришвина, осуществленной им в подмосковном Дунино, еще глубже погрузила аудиторию в пришвинскую ауру. Вспомнились любимые звенигородские места, прогулки в дом писателя из пансионата РАН и из Поречья, где тоже бывал писатель. Вспомнился притягивающий внимание подвесной мостик через реку, делающий доступным дунинский берег, на котором под огромными елями сверкает на солнце пришвинская веранда. Все это давно стало дорогим и близким. И тогда я решил подготовить книгу о Пришвине как мыслителе.
Виктор Петрович Троицкий, координатор семинара «Русская философия», прослушав мое выступление и узнав, что я решил собрать посвященные Пришвину записи и эссе в книгу, сказал: «И назовете вы ее, наверное, “Мой Пришвин”!». Я с ним не согласился – мне не хотелось следовать известным прецедентам («Мой Пушкин» Марины Цветаевой), и я остановился на названии «Пришвин и философия».
Меня особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в основном я опирался на его поздние дневники, сознательно минуя при этом социологический подход к анализу его творчества. Метод, примененный здесь к раскрытию темы, является художественно-экзистенциальным и, значит, подчеркнуто личным. Многое и разное в дневниках Пришвина заставляло задуматься, нередко резонируя с моим миропониманием и опытом. На это и обращалось «родственное внимание».
Казалось бы, тема книги – литературоведческая. Но автор пошел другим путем. На первом плане в качестве интерпретационного ресурса оказалась философская традиция, в частности, современная. При таком подходе мысль Пришвина, хотя бы отчасти, можно попытаться понять как своеобразные «духовные упражнения», понимаемые примерно в том же смысле, в котором такой подход к философии развивал Пьер Адо. Если расширить идею Адо, то можно сказать, что речь идет о включенном в управление жизнью ее осмыслении, имеющем философскую значимость, но больше похожем на неотделимую от личного опыта, подвижную, открытую, ищущую саму себя мудрость, чем на претендующее на объективный статус знание «законов» действительности. Речь идет, таким образом, о целостном искусстве «жизнемыслия»2, реализующем стремление к творчеству и духовной свободе и регулирующем и упорядочивающем, как иногда говорил Пришвин, «внутренний двор» нашей жизни. Философия сегодня стремится встретиться с мудростью, не стоящей на месте, но и не порывающей со своей традицией. Пришвина с его дневниками на этом пути обойти невозможно. Поэтому книгу можно было бы назвать и так: «Дневник как образ жизни (и) философии». Существенный вопрос, который здесь возникает, такой: при каких условиях дневник может стать органом философского познания мира и человека?
Да, я не хотел называть эту книгу «Мой Пришвин», но по факту она ведь именно такова. «Пришвин и Рид», «Пришвин и Марсель», «Пришвин и Гачев» – таких «Пришвиных» и так, как они увидены, действительно мог увидеть только автор этой книги. Художественно-экзистенциальное познание – личный акт. Но такой, что другие личности входят в него неизбежно и свободно.
Прав был Достоевский, когда говорил, что в мире духа нет границ между лицами: ну как отделить мое духовное Я от Я любимого мной человека?
Соотношение творчества Пришвина и философии не новая для нашей культуры тема, хотя и мало еще исследованная и раскрытая. Продуманную и точную формулировку своеобразия пришвинской мысли дала Валерия Дмитриевна Пришвина, знавшая как никто другой того, о ком писала. Вот ее слова: «Перед философией и поэзией высится одна задача – ответственного слова. Знать, но не прельщать. Знать, куда зовешь и какими путями. Эта сила вручена поэтической философии. Этим путем и пойдет в своей работе писатель Пришвин. Поэтическая философия, как форма художественного произведения, утверждена в его творчестве»3. В ее словах звучит голос христианки, привыкшей скрывать свою веру, но в то же время не могущей не дать нам ее почувствовать. Выпад против «прелести» свидетельствует об этом. «Поэзия», «философия» – слова эти, казалось бы, зовут к неудержимости воображения и раскованности мысли и слова, а Валерия Дмитриевна, опираясь на свой и пришвинский опыт, зовет мыслителя и художника к аскетической трезвости духа, точному знанию и ответственности.
В последние годы появились работы А.М. Подоксенова, в которых в контексте социально-политической истории России ХХ в. рассматриваются идейные связи русского писателя с марксизмом, Ницше, Фрейдом, а также Н.О. Лосским. История ранних идейных исканий русского писателя уже в основных чертах известна и описана. От народничества он обращается к марксизму, а от него делает резкий поворот в своей судьбе, самоопределяясь как писатель. При этом, испытывая воздействие религиозных мыслителей и писателей круга Мережковского, он погружается в проблематику, горячо обсуждавшуюся в те годы. Осмысляя свой личный опыт, Пришвин стремится оставаться независимым искателем, свободным художником, ищущим не только свой жанр и писательский стиль, но и мировоззрение, свою, если угодно, философию. Эти искания были воплощены в автобиографическом романе «Кащеева цепь» (1927). Пришвин приходит к такой философии творчества, когда главным становится не абстрактный дискурс о творчестве, а сама созидательная жизнь, преобразующая реальность, включая и личность художника. В 30-х годах писатель достигает полноты своеобразия своего таланта, создавая такие вещи, как повесть «Жень-шень» (1933) и поэму в прозе «Фацелия» (1940).
Структура книги отвечает пришвинской манере использовать логическую триаду (тезис – антитезис – синтез) как преимущественную форму представления мысли и поэтому делится на три примерно равные по объему части. Пришвин говорил о «ввинчивающимся» в предмет мысли ее движении. Можно сказать, что и у нас в ходе развертывания указанной триады происходит подобное углубляющееся и расширяющееся движение раскрытия темы книги.
Первая часть, дающая как бы «разгон» книге, стоит под знаком дневника как жанра и способа мысли. Все вошедшие в нее эссе были записями в дневнике, сделанными по живому следу, когда я и не думал писать книгу о Пришвине. А когда, наконец, стал ее составлять, то не стал эти заметки существенно дополнять и расширять. Сохранить живость первого восприятия мне было важнее, чем механически собрать уместный материал под заголовки этих набросков. Ведь писались они именно во время увлеченного чтения дневников и очерков Пришвина. Дневниковость стиля проявляется в этой части и в ее автобиографической окраске: в ней говорится о том, как начиналось мое знакомство с творчеством Пришвина, и как затем его имя связалось с такими близкими мне мыслителями, как Дурылин, Гачев и Марсель, а также с Томасом Ридом. Эту часть можно понимать как своего рода дневниковый тезис, открывающий путь более специализированному, тематически сфокусированному исследованию темы.
Если первая часть стоит под знаком жанра дневника с естественными для него воспоминаниями, то вторая – оформлена как собрание отдельных историко-философских эссе, сфокусированных вокруг пришвинской мысли и анализирующих ее с разных сторон. По сути дела здесь преобладает жанр научной статьи с обычным для него предметным исследованием. Специально и с разных сторон рассматривается отношение русского писателя к философии. Работы, составившие этот раздел, писались уже всецело под задуманную книгу и лишены дневниковой лирической стилистики. Вторую часть книги можно считать антитезисом по отношению к первой, поскольку в ней дневниковая манера уступает место научно-философскому анализу.
В третьей части дневниковость жанра получает, наконец, полную свободу, но одновременно наращивается и научно-аналитическая составляющая. Эта часть книги, завершающая ее, составлена из дневниковых записей, сделанных во время чтения и продумывания дневников Пришвина. Частично отдельные заметки, вошедшие в нее, писались тогда, когда целенаправленная работа над книгой была в самом разгаре. Это существенно углубило и расширило ранее сложившееся представление о мысли Пришвина. Можно сказать, что здесь тезис и антитезис первых двух частей находят свое синтетическое завершение, поскольку в этой части немало сжатых теоретических набросков, хотя вся ее манера – это дневник с его неизбежной «лирикой» и фрагментарностью.
Понятие «духовного резонанса» лежит в основе всех сопоставлений Пришвина с другими мыслителями, представленных в книге. Один из характерных ее аспектов определяется ее ненавязчивой, как бы «подсвечивающей» фокусировкой на «софийности» русского метафизического сознания в продолжающейся и обновляющейся культурной традиции. Софийным светом пронизаны мысль и слово Пришвина, философия которого обозначается нами как «радужная».
Итак, книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы. Это опыт философско-художественного исследования, возникший по случаю выхода в свет дневников М.М. Пришвина. Дневники эти – событие в нашей культурной жизни. Прочитанные с интересом, а порой с воодушевлением, они не могли не вызвать отклика, который и оформился в конце концов таким образом.
Другие исследователи по-другому увидят Пришвина как «солиста» и в сообществе его «вечных спутников». Всякое личное постижение, в основе которого проникающее на симпатической волне вживание в человека с его мыслью, сохраняет свою ценность, несмотря на множество лиц, познающих одну творческую личность. Свою же задачу при написании книги я определил словами канадского индейца Серой Совы, alter ego Пришвина: «Я должен <…> придерживаться темы, оставаясь в границах личных наблюдений и опыта»4.
Приношу свою благодарность издателям и комментаторам пришвинских дневников, особенно Яне Зиновьевне Гришиной. Хочу выразить признательность за поддержку академику РАН Абдусаламу Абдулкеримовичу Гусейнову, а также директору «Дома А.Ф. Лосева» Валентине Васильевне Ильиной и руководителю семинара «Русская философия» Виктору Петровичу Троицкому.
I
Под знаком дневника как способа познания
Дневник как жанр и способ познания
Чем мы дышим, о том и пишем, как мы дышим, так и пишем. Это верно особенно в том случае, если речь идет о дневнике того типа, который Толстой, издавая дневник Амиеля, назвал «задушевным»5. Жизнь в то время, когда такой дневник не пишется – это вдох, духовное втягивание в себя мира. Акт его писания – выдох, высвобождение втянутого и осознанного, творчески осмысленного мира. Вспыхнувшая при встрече с миром мысль себя сама записывает, оформляя причудливый поток жизни словесными квантами, квантами живого смысла. В дневнике (le journal) так или иначе дается отчет о прожитом дне (le jour), фиксируется самое важное и значительное, что в нем обнаружилось. Для писателя дневник еще и урок хорошего слога, без которого нет дороги к читателю. И самое главное: дневник – духовное делание, стояние пишущего в усилии самоотчета перед Богом, и потому дневник – теургия, соработничество сознания личности со Сверхсознанием. Примерно так понимал свой дневник как главное дело своей жизни и Михаил Пришвин. Дневник для него – образ жизни, ищущей свой высший смысл и находящей его в борьбе за бессмертие.
Мир пульсирует прерывистыми актами, импульсами, порционными выбросами материи и формы. Мысль вспыхивает в том же пульсирующем ритме, искры от нее рассыпаются, и она гаснет. Потом вспыхивает другая. Дневник – квантовая служба мысли как света. Его лицо – это лицо самого человека, пишущего дневник. Человек меняется – меняется и его дневник: квантовый генератор личности переформатируется, перенастраивается. Дневниковые записи сгустками энергии понимания вылетают из сознания пишущего, перед которым беспокоящей загадкой стоит сам голый факт его собственного существования, и летят в мир в надежде, что кто-то их подхватит, кого-то они взволнуют, высказав ему самое заветное, о чем он сам неясно, подспудно думает, но высказать не может. Главное – успеть схватить жар-птицу мысли за хвостовое оперенье и уложить на бумагу в ясной форме. Главное – быть живым и оставаться живым и после своей смерти.
Пришвин с Валерией Дмитриевной Пришвиной созерцают мошек, живущих мгновение, и их полет рождает у него такую мысль: «И мы взлетаем на то же мгновенье, только у нас есть человеческая задача вспыхнуть мгновением и так остаться: не умереть»6. Вспыхивающие летучие мгновения – это и есть мысли. Мысль возникает тогда, когда она возникает – когда приходит срок («само – что дерево трясти! – в срок яблоко спадает спелое…»). Мысли в нас зреют наподобие брошенного в борозду зерна. Когда зерен-мыслей соберется внушительный амбар, возникнет забота составить из них нечто цельное. Так рождается произведение (в принципе – всякое, в том числе и небывалое по жанру), в основе которого скопившиеся дневниковые записи.
Дневник – литературный жанр, социально не заказываемый. Редакция журнала просит у писателя статью, рассказ или очерк, издательство заказывает книгу, газета просит заметку, репортаж, фельетон. Но никто никогда не запрашивает дневник! Он пишется сам собой, самотеком сознания, вспыхивающего мыслями как мыслечувствами. Дневник похож на родник, в котором вода бьет сама собой, из полноты своего таинственного присутствия в таинственном мире. Поэтому может показаться, что дневник социально избыточен, будучи «пеной» кипящей внутренней жизни, не востребованной сложившимися, устоявшимися формами общественного функционирования культуры. В тиши дунайского похода римский император Марк Аврелий пишет свои греческие записки, предназначенные для себя (ta eis heaton)7. Но как эти записи для себя оказались нужными другим, как свежо читаются и сейчас! Казавшееся избыточным, ненужным становится наинужнейшим и необходимейшим: типичная метаморфоза дневника, свидетельствующая о том, что он удался, исполнил свое предназначение.
Будучи жанром, не заказываемым никакой социальной структурой, дневник предстает беззащитным созданием культуры – самым уязвимым, самым «нежным». Можно сказать, что его пишут люди, все еще не распростившиеся с детством внутри своей взрослости, ибо что на свете наивнее, чем «самодум», променивающий свою жизнь на занятие, не запрашиваемое никем, кроме него самого! Посмотрите, как часто в книгах, заказанных, ожидаемых извне, автор старается защитить себя от возможных критических оценок, как он буквально становится «на уши», стараясь опровергнуть просчитываемую им заранее негативную реакцию, какую броню безопасности возводит вокруг своих нередко плоских мыслишек, убирая даже видимость противоречий, превращая свое создание в настоящий бронированный дредноут! Но потом этот стальной гигант расчетливо выстроенной, но невысокой мысли оказывается на мели истории, ржавея горой металлолома. А никому поначалу не нужные, детски беззащитные записки для себя вызывают огромный интерес и становятся самыми нужными потому, что без них человек не может расти духовно.
Жанр представления философской работы (трактат, статья, эссе, дневник и т. п.) имеет отношение к собственно философским содержательным возможностям, которые мысль может реализовать в его рамках. Так, читая Бердяева, я почувствовал пределы его публицистической манеры, не столько исследовательской, сколько суггестивно-субъективной, визионерской, свободной в том смысле, что автор «Самопознания» пишет, собравшись с духом, по прихотливой памяти, переходя от темы к теме в некоем задуманном целом. Давнишний усердный читатель Бердяева, только сейчас я вдруг осознал границы, которые бердяевский жанр несет для самой бердяевской мысли.
Я не знаю жанра, который был бы более богат возможностями для высказывания и развития мысли, чем дневник. Дневник – самое свободное и самое гостеприимное пространство для мысли. К жанру дневника в широком смысле можно отнести письмо к другу, любой черновой набросок, беглую запись для памяти, предназначенную для того чтобы потом вернуться к начатой мысли и продолжить ее. Высказанные в подобных записях мысли всегда можно подхватить, развить дальше, при случае и удаче переоформить в статью, книгу и т. п. Дневник – это как бы собственный, «автохтонный» жанр живой мысли, к ней – самый близкий. Вот, например, «Мысли» Паскаля, как жанр они не имеют подобных бердяевскому жанру границ. У такого жанра есть свои недостатки: ему недостает системности, организованности по темам, связности «кусков» и т. п. Это недостатки с точки зрения читателя, привыкшего к трактату с его слишком большой связностью и плавной растолкованностью основных тезисов. Но для более искушенного читателя эти недостатки минимизируются сами собой.
К дневнику нередко обращаются как к подвернувшемуся средству попытаться обрести утешение в мучительной ситуации, вызванный конкретными обстоятельствами, среди которых болезнь или неудача в любовной истории кажутся самыми обычными. Иногда дневниковое самолечение души заканчивается вместе с преодолением трудностей, с их изживанием. А в редких случаях дневник становится судьбой, призванием человека. И тогда дневник и человек взаимно «притираются» друг к другу. На просторах дневника могут зарождаться и проходить «обкатку» новые жанры литературы и философии. Вот тогда он становится удивительно долгоживущим созданием, интересным для людей разных поколений и эпох. Так и произошло в случае Пришвина: писание дневника как, казалось бы, временное самолечение души превратилось в основное дело. Дневник стал образом жизни, самосовершенствующимся инструментом ее осмысленного проживания.
Формально дневником называют записи, открываемые датой, когда данная запись была сделана. В рамках такого определения «Мысли» Паскаля или «Опыты» Монтеня дневниками, строго говоря, не являются. Но это чисто формальный критерий. А вот прочтешь у Паскаля, что «развлечение позволяет приблизиться к смерти незаметно»8, и мысль эта вдруг обожжет душу: как точно сказано! И тогда подумаешь: пусть его записки, в узком смысле слова, и не дневник, зато какие в них мысли, насколько они точны и глубоки, если вонзаются нам прямо в сердце и ум вот уже несколько столетий! И не перестанут это делать и в будущем, если человеку как духовному существу удастся отстоять себя и сохраниться. Кстати, максимы и афоризмы Вовенарга или Ларошфуко, разрозненные листья-мысли («Feuilles detachées») Ренана, «опавшие листья» розановских «уединенных» и «мимолетных» заметок и «записные книжки» писателей по жанру естественным образом если дневником формально и не являются, тем не менее они его ближайшие соседи, от него с трудом отличимые. Дневник дает приют всем видам таких «черновых» или «беловых», как это имеет место в случае афоризма, записей, которые ведутся то изо дня в день, то с немалыми перерывами, то есть как раз в соответствии с ритмом вспышек мыслей и возможностями их записать желательно вблизи момента их рождения. Именно такую практику писания дневника культивировал Пришвин и считал ее наиболее правильной и ценной. Другой, но сопоставимый случай: Габриэль Марсель датированными записями размышлений накапливал материал для будущего систематического трактата по философии.
А опубликовал, в конце концов, именно эти разрозненные записи, назвав их дневником («Метафизический дневник»). Черновой материал стал шедевром французского экзистенциализма, положив ему начало. «Черновик», «беловик» – не столь важно, не это решает судьбу продуманного и написанного: решает талант и масштаб человека, который мыслит и пишет.
«Стиль – это человек», – говорил Бюффон. Перифразируя французского натуралиста, скажем: дневник – это человек. Например, дневники Фредерика Амиеля или Марии Башкирцевой: в первом случае это воспитанный германским идеализмом швейцарский профессор, во втором – амбициозная, но не лишенная художественного дара, смертельно больная и уже только поэтому одинокая дочь богатого русского помещика9. Иными словами, скажи мне, каков твой дневник, и я скажу, кто ты. Дневник, точнее, мемуары Франклина, американца эпохи Просвещения, ни с каким другим дневником не спутаешь. Всем у него хозяйственно распоряжается уверенный в себе рассудок, взвешивающий все происходящее. Или вот дневники братьев Гонкур. Как разнятся брат с братом! Тандем тандемом, но дневник – личное предприятие. Рано умерший младший брат, Жюль, тонок и поэтичен, дневник под его пером летит, как арабский скакун. Читатель разгорячен его порывистым бегом. И каким занудным на его фоне выглядит Эдмонд, педантично описывающий свою художественную коллекцию, размещенную в новокупленном доме, превращенном в эстетское гнездышко! Скрупулезное перечисление его параметров и характеристик напоминает технический паспорт музея. Веет несвежим подвалом каталога, а не дивно летящим солнечным словом, на которое так легок был Жюль.
Но дневник Гонкуров дорог нам, пожалуй, еще больше, чем свидетельством об его авторах, переданной в нем атмосферой артистического Парижа, рассказом о политических событиях и, наконец, портретами целой плеяды французских писателей, поэтов, художников, ученых. Здесь мы видим и слышим Готье, Ренана, Золя, Флобера и многих других. Впрочем, где кончается Я пишущего дневник и начинается Я другого, его близких? Кто может утверждать, что границы в мире духа существуют с той же очевидностью, как и в случае физических тел и стран? Поэтому дневник часто не столько «окно» во «внутренний двор» его автора, сколько путевка в жизнь целой страны, эпохи, как это имеет место в случае Гонкуров.
Дневниковые записи – самый близкий жанр к тому явлению духа, которое мы называем сознанием. Возникает состояние (чего, если не сознания?), появляется мысль в своих еще нежных, родовых контурах. Пишущий дневник послушно фиксирует это событие. Думает ли он при этом о будущей публикации, о том, что о нем могут подумать другие люди, думает ли, наконец, о репутации тех, о ком он может написать что-то относительно предосудительное? Может об этом думать, но лучше ему не думать, а если и думать, то после, а теперь важно подхватить рождающуюся мысль в таком ее виде, в каком она самовольно явилась на свет, не дать ей упасть в небытие, поспешив выразить едва уловимое настроение, открытие, пусть значимое (пока, быть может) только для себя самого. Дневник, говорит Пришвин, пишется «по необходимости роста сознания и только для этого»10. Сознание не может не расти, как и знание. Его рост есть его способ быть собой. Значит, дневник – машина для выращивания сознания? Если хотите, да, именно так. В идеале каждый день вы ее включаете, заводите, совершая работу роста сознания и мысли, их очищения, углубления и возвышения одновременно (путь вверх и путь вниз – один, как говорил Гермес Трисмегист).
Кто пишет дневник? Непростой вопрос. Ответ на него частично уже дан. Пишут дневники разные люди, различные по типам, по всему и во всем. Но что-то все-таки их всех объединяет. Что же? В чем их единство? Что роднит авторов дневников? Кажется, что какая-то нестандартно высокая порция одиночества – реального или мнимого, неважно. В дневнике одиночество втихомолку стремится покончить с собой, казалось бы, не выходя из себя. Одиночество – это такая даль в самом себе, что бежать хочется одновременно еще глубже в нее, в эту самую даль, и столь же – в одном порыве – от нее. Это предельно напряженное состояние души. Искомый друг автора дневник – дальний читатель, неведомый ему собеседник. Пишущий дневник так далеко забрасывает свои слова, что они летят, как ему кажется, к самому Богу. Так осознает свой дневник, например, Лев Толстой, чувствующий себя предстоящим перед Богом-Отцом, Воле которого он себя препоручает.
Одинокий человек, пишущий дневник, чувствует, что ему как-то нелегко с другими. Мучительно, болезненно ощущает он свои промашки в обществе и говорит себе: ты – белая ворона, ты – на отшибе, но в твоей близи открывается даль, захватывающая и затягивающая. Faux pas11, в которые срывается дневниковая душа при погружении в «социальное рондо», допекают, например, такого мало у нас известного философа, писавшего дневники, как Мен де Биран, аристократа, родоначальника традиции французского спиритуализма12. Кстати, спиритуалистом считал себя и Пришвин, ничего не слышавший о Мен де Биране. Человека, одинокого в своем неразделенном ни с кем внутреннем мире, русский писатель называл «тоскующей отдельностью». Отдельность означает наличие незанятого пространства, вызванного разобщением, которое хочется чем-то лично значимым заполнить. В его прогале открывается даль, а с нею и надежда, что разобщение будет преодолено. Даль чего? Как, чем ее заполнить? Гениальный мастер от Бога скажет о дали «свободного романа». А если подобной гениальности нет? Или время пришло нероманное? Вот тут-то на помощь и приходит дневник: общайся посредством него с незримым другом, поверяй ему свои мысли, тайны, планы, впечатления, открытия, надежды.
Источником «тоскующей отдельности» могут быть нерадостные события детства, предрасположенность характера или недостаток его, что, кстати, отмечает в себе Мен де Биран, на что жалуется Амиель. Детей взрослые часто судят так, будто это совершеннолетние люди. А дети ведь совсем другие существа. И ошибки такого рода нередки. По-взрослому судьи-учителя судили и гимназиста Пришвина. Вот он и устремился от них в свою мечту и в широкий мир, в который она его позвала, для начала убежав «из гимназии в Азию». В результате стал таким странным во всех смыслах этого слова. Но благодаря странствиям по Северу, которые сумел талантливо описать, стал самим собой – «очарованным странником», очеркистом-сказочником, способным мыслью и словом своим очаровывать других. В дневнике Амиеля или Башкирцевой мало чего-то еще помимо души самого пишущего. А молодому Пришвину хватило ума понять, что искать себя надо как раз в другом, вне себя – в неизведанном еще мире. И он отправился в тогда еще плохо изученный Олонецкий край. В результате стал писателем, а начатый перед тем странствием дневник стал основой его творчества и жизни.
Вот и возникает вместе с дневником, а точнее, подводит к нему, такое явление, как друг и дружба, которое Пришвин называл «прафеноменом русской нравственной жизни»13. Что такое, как не пропущенный шанс обрести друга на всю жизнь, история взаимоотношений Пришвина с Варей Измалковой, его разрыв с невестой? Срывается земная воплощенная любовь – и вот уже «Пан играет на свирели»14, рождается поэтический порыв, на его острие возникает дневник, начинается творческая жизнь, смысл которой – в «пробивании» дороги к другу. И разве этот случай не пробрасывает мост от русского чудака к чудаку датскому, автору тоже ведь бесконечных дневников, как в прямом смысле, так и в косвенном? Поэтому совсем не пустое дело сопоставление Кьеркегора и Пришвина. Кстати, философия того, кто пишет дневник, нередко вступает в перекличку с философией именно экзистенциальной. На это следует обратить внимание, говоря о жанре дневника в его соотношении с философией.
Bepul matn qismi tugad.