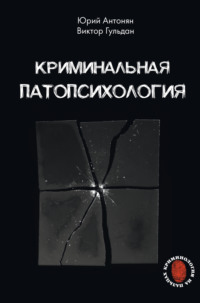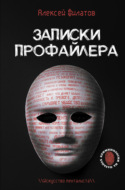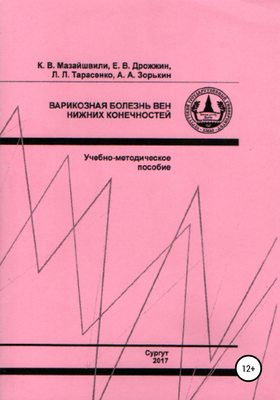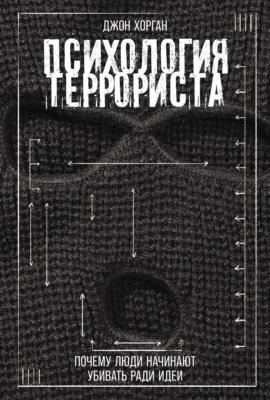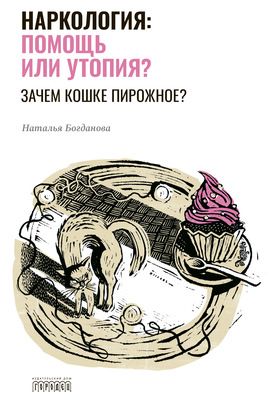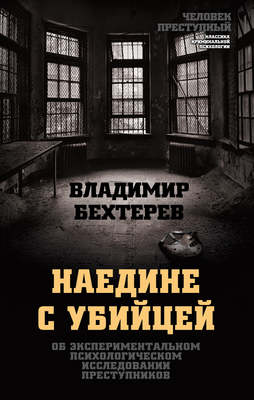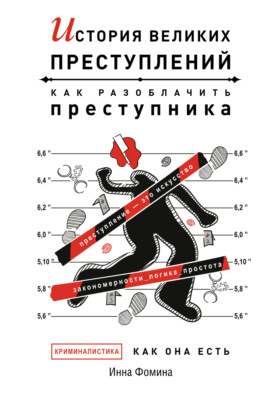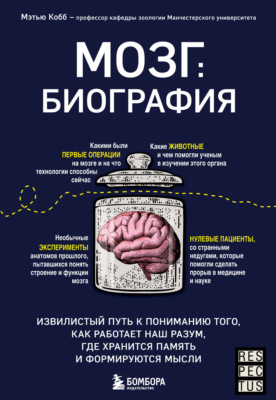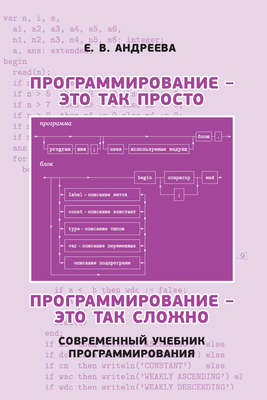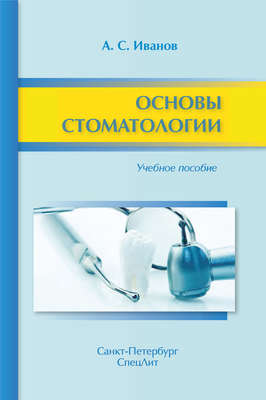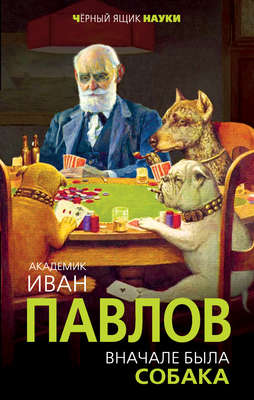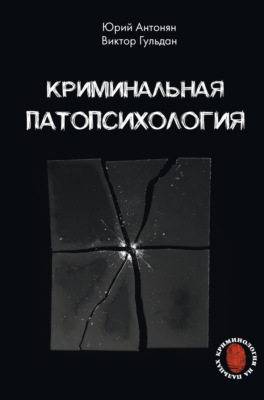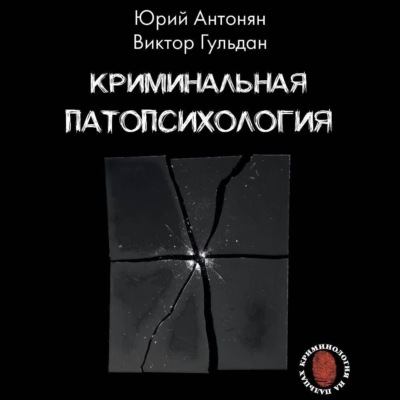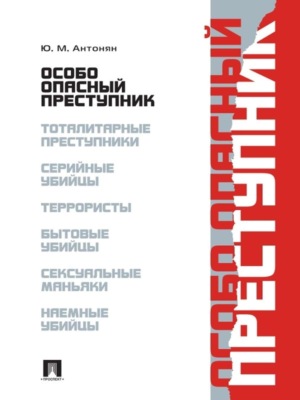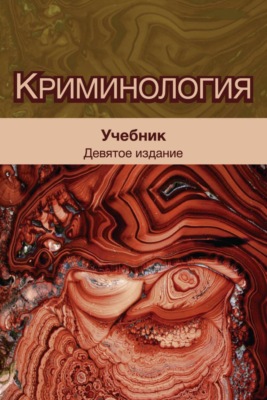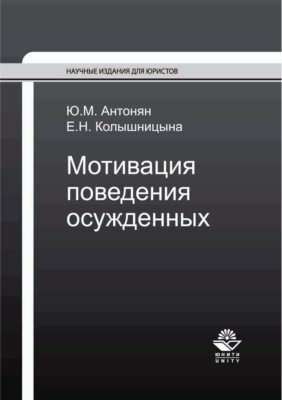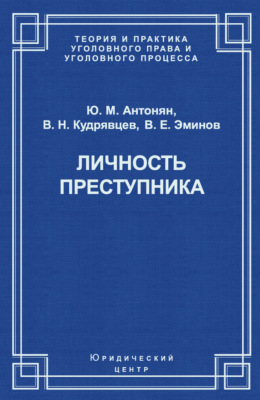Kitobni o'qish: «Криминальная патопсихология», sahifa 3
Должны быть достаточно тесными связи криминальной патопсихологии с криминалистикой, которая разрабатывает тактические приемы и технические средства раскрытия и расследования преступлений, проблемы сбора и анализа доказательств по уголовным делам. Такие существенные для криминалистики вопросы, как построение и проверка следственных версий, тактика допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, не могут решаться без учета того, что некоторые из таких лиц имеют психические нарушения.
Представляется очевидной связь криминальной патопсихологии с науками исправительно-трудового права, исправительно-трудовой психологии и исправительно-трудовой педагогики. Исправительно-трудовое законодательство предписывает осуществление воспитательно-карательного воздействия на осужденных с учетом их личности и характера совершенного преступления. Если у конкретного осужденного обнаруживаются аномалии психики, то вся воспитательная и иная работа с ним, в том числе его трудовое и бытовое устройство, должны строиться с поправкой на это важное обстоятельство. Следует также иметь в виду, что такая патология могла сыграть немаловажную роль в его преступных действиях и может выступить в той же роли после освобождения от наказания. Последнее обстоятельство должно влиять и на характер постпенитенциарных мероприятий, направленных на обеспечение успешной адаптации после отбытия наказания. Отметим, что данные, полученные нами, свидетельствуют о том, что с увеличением длительности преступной деятельности и пребывания в местах лишения свободы увеличивается число лиц, имеющих психические нарушения. Таким образом, криминолого-патопсихологические исследования могут быть полезны для борьбы с рецидивной преступностью.
Можно констатировать связь криминальной патопсихологии с юридическими науками некриминального профиля, но данные которых важны для успешного предупреждения преступлений. Выше мы уже отмечали, что анализируемая научная дисциплина изучает и такое непреступное поведение, которое способствует совершению преступлений, предшествует им. Поэтому следует считать, что имеются точки соприкосновения криминальной патопсихологии, например, с наукой административного права. Необходимо проверить, есть ли такие нарушения в сегодняшнем законодательстве. Например, уклонение от общественно полезного труда) административные правонарушения, как мелкая спекуляция, мелкое хулиганство, систематическое пьянство, бродяжничество, попрошайничество, нарушение правил пожарной безопасности и некоторые другие, нередко совершаются лицами, у которых есть психические аномалии.
Известно, какое криминогенное значение имеет ненадлежащее воспитание детей и подростков, пренебрежение родителей своими родительскими обязанностями, невыполнение их, антиобщественная нравственно-психологическая атмосфера в семье, побеги несовершеннолетних из дома и т. д. Очень часто такие явления связаны с психическими расстройствами родителей или детей. Поэтому обоснованно предположение о межнаучных контактах криминальной патопсихологии с семейным правом и гражданским правом. Такие контакты можно обнаружить и с трудовым правом, поскольку нарушения трудовой дисциплины, что часто связано с преступным поведением, могут быть обусловлены нарушениями психической деятельности.
Как мы видим, междисциплинарные связи криминальной патопсихологии весьма разнообразны и это отражает богатство связей самой психологии. Видный советский психолог Б. Г. Ананьев писал, что современная психология представляет собой сильно разветвленную систему теоретических и прикладных дисциплин, развивающихся на границах многих наук. Благодаря этому разветвлению и все более расширяющимся связям с другими науками о человеке, обществе и труде достигается высокая эффективность исследования человека в различных видах его деятельности и на разных фазах развития, в различных условиях существования. Подобной разносторонности и комплексности изучения человека наука не знала еще десятилетие назад. Огромный прогресс в этом отношении связан с успешным развитием междисциплинарных связей психологии с другими науками и исследованиями широчайшего круга проблем – от элементарных психических процессов до сложнейших интегральных образований, психологической структуры личности, мотивации поведения и динамики взаимодействия людей в различных сферах деятельности. Психология становится важным орудием связи между всеми средствами познания человека, объединения различных разделов естествознания и общественных наук в новом синтетическом человекознании45.
Мы не случайно так подробно приводим высказывания Б. Г. Ананьева по столь сложному науковедческому вопросу. Криминология – наука, в центре внимания которой находится человек, причем не только преступник (хотя в первую очередь именно он), но и потерпевший. Это с неизбежностью предопределяет комплексное использование достижений о человеке всех других наук, осуществление собственных исследований, которые в основном должны быть психологическими.
Отдельно рассмотрим сложный и спорный вопрос о том, должна ли криминология и соответственно криминальная патопсихология изучать личность и общественно опасное поведение душевнобольных людей. В советской криминологии этот вопрос традиционно решается отрицательно. Однако сейчас, в условиях наращивания криминологических знаний, расширения границ этой науки и применения ее рекомендаций, ее обогащения достижениями других научных дисциплин, по данному поводу возникают некоторые сомнения.
Прежде всего напомним, что всегда и во всех случаях четко и точно провести грань между вменяемостью и невменяемостью достаточно трудно. Нередки случаи, когда одного и того же человека одна судебно-психиатрическая экспертная комиссия признает вменяемым, другая – нет (или наоборот). Даже если названная грань и проводится в конце концов, а это необходимо для решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач, вопрос для научного криминологического осмысления остается. Иными словами, черта проводится на уголовно-правовом, а не на криминологическом уровне. Особенно зримы здесь интересы криминологии, если иметь в виду проблемы предупреждения общественно опасных действий душевнобольных. Сейчас эти проблемы относятся в основном к компетенции психиатрии, что представляется недостаточным, поскольку именно криминология разрабатывает систему предупредительных мер, систему, давно апробированную на практике. Поэтому мы полагаем, что криминология, точнее, криминальная патопсихология должна изучать личность и поведение тех психически больных лиц, от которых можно ожидать совершения общественно опасных действий.
Если согласиться с нашим решением поставленного выше вопроса, то это означает признание еще более тесной связи криминальной патопсихологии с психиатрией и теми отраслями правовой науки, которые изучают проблемы обращения с душевнобольными.
3. Основные методологические подходы
Подлинно научное изучение личности преступника, в том числе имеющего психические аномалии, возможно лишь на методологической базе учения о социальной природе личности. Эта ее природа выражается в том, что человек не рождается, а становится преступником и в качестве такового действует как общественное существо. Поэтому при анализе преступного деяния необходимо исходить из того, что всякое проявление жизни индивида, «даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершается совместно с другими, проявления жизни являются проявлением и утверждением общественной жизни»46. Деятельность, совершение каких-то действий «совместно с другими» следует понимать так, что особенности личности, детерминирующие деятельность или отдельные поступки, складываются под воздействием внешних социальных условий начиная с первых дней жизни индивида.
Конечно, социальные качества человек получает от общества, но это отнюдь не означает, что он не развивает их сам в себе в ходе воспитания и самовоспитания, самопознания, самообразования и т. д. Профессия предоставляется человеку обществом и предопределяется общественным разделением труда, но, во-первых, то же общество дает возможность ее выбора и жестко не диктует, особенно в современных условиях, только это занятие, а не какое-либо другое. Во-вторых, сегодняшняя жизнь (особенно) убеждает в том, что сам человек способен творить профессии (разумеется, в соответствии с существующими социальными условиями в самом широком смысле), например научные, в результате им же сделанных открытий. Непонятно также, почему «исходя из отдельного человека» нельзя прийти к общественным свойствам людей как членов классов или носителей различных социальных отношений. Разумеется, изучение отдельных людей не единственный и, по-видимому, не основной путь познания человека, но показанный упомянутыми авторами подход, в сущности, исключает социальную типологию личности, отрицает то, что отдельные личности являются типичными представителями какой-либо общественной группы.
Нет сомнений, что именно социальная среда формирует личность, она является первичным и определяющим моментом ее сознания и поведения. Но в то же время личность не только объект общественных отношений, но и активный субъект, наделенный сознанием и волей, способный преобразовывать действительность, изменять свое поведение, регулировать его в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, т.е. осуществлять целеполагающую деятельность47. Важнейшими элементами социальной среды являются люди, которые могут изменять среду, вносить в нее желаемые для себя коррективы.
Жизнедеятельность личности протекает в формах, которые созданы в процессе развития человеческого общества, причем сама жизнедеятельность предполагает постоянное формирование и развитие личности. В ходе взаимодействия со средой у человека возникают потребности, а природные, физиологические потребности приобретают социализированную форму, т. е. удовлетворяются способами, принятыми, одобренными обществом. На формирование и развитие личности существенное влияние оказывает не только ее классовая принадлежность и даже не только широкая социальная среда, но и господствующие в ней идеология и нормы морали. Огромное воздействие на личность, формирование ее установок, ценностных ориентаций, способы реагирования на ситуации, ролевую структуру оказывает непосредственное социальное окружение, микросреда.
Это отчетливо проявляется, например, при анализе индивидуальных различий между отдельными людьми. Такие различия в решающей степени порождаются разными микроусловиями существования конкретных лиц, а также спецификой восприятия, овладения и усвоения этими лицами социального опыта. Этим в значительной степени объясняется, почему в рамках одной и той же микросреды (и, конечно, одного и того же общественного строя) возможно формирование антиобщественных черт личности, которые затем могут выступить в роли субъективных причин преступного поведения. Следовательно, именно микросоциальные влияния выступают в качестве источников формирования подобных черт. Вот почему социальную среду следует рассматривать как совокупность стимулов и ситуаций, воздействующих на людей.
Действие внешних причин через внутренние условия рассматривается в психологии в качестве ее центральной задачи. По этому поводу С. Л. Рубинштейн писал: «Раскрытие внутренних психологических условий, опосредующих эффект внешних воздействий на субъекта и внутренних закономерностей внешне обусловленной психической деятельности, составляет основную задачу психологической науки»48. Отмечая, что психическое существует прежде всего как процесс или деятельность, С. Л. Рубинштейн писал, что «это положение непосредственно связано с рефлекторным пониманием психической деятельности, с утверждением, что психические явления возникают и существуют лишь в процессе непрерывного взаимодействия индивида с окружающим его миром, непрекращающегося потока воздействий внешнего мира на индивида и его ответных действий, причем каждое действие обусловлено внутренними условиями, сложившимися у данного индивида в зависимости от внешних воздействий, определивших его историю»49.
Развивая это положение, Е. А. Будилова пишет, что особенность взаимодействия человека с внешним миром заключается в том, что детерминация здесь не исчерпывается внешним толчком, который запускает действующую затем по своим внутренним законам систему, а непрерывно воспроизводит детерминацию, что и определяет развитие процесса. Сам процесс представляет, таким образом, постоянно действующую связь психики с внешним миром, постоянное его отражение, которое совершается путем преобразования внешних воздействий согласно закономерностям – физиологическим и психологическим – рефлекторной деятельности мозга. Отражая действительность, психические процессы имеют своим результатом то или иное психическое образование (в процессе восприятия возникает образ, в мышлении – понятие), которое включается в дальнейший ход психического процесса, поскольку он никак не ограничивается своей отражательной характеристикой. Результаты познавательной деятельности, ее идеальные продукты выполняют регуляторную функцию по отношению к действиям человека50.
Лица и институты, реализующие «программу» воспитания, в первую очередь родители, семья, включенные в межличностные отношения с данным индивидом, выступают в роли «организаторов» личности, передают ей массу необходимых для существования в обществе знаний и навыков. Но по этим же межличностным коммуникациям осуществляется и передача антиобщественных норм и взглядов, образцов ненадлежащего поведения, нежелательных обычаев и традиций.
Общетеоретические положения о личности являются исходными для решения проблем личности преступника. Правы авторы монографии «Личность преступника», когда пишут, что решение этой проблемы находится, в частности, в прямой зависимости от того, какой признается природа человека, его нравственная сущность. Одно решение вытекает из признания того, что человек «от природы зверь», что в нем всегда есть (как нечто естественное, врожденное) определенный «заряд» зла, жестокости, порочности, который в соответствующих условиях проявляется в преступлении. Принципиально иное решение надо принять, если считать, что такие свойства, как жестокость, злобность, склонность к стяжательству и т. д., – порождение определенных социальных условий формирования личности.
В первом случае проблема личности преступника будет решаться с позиций биологизма, врожденной асоциальности, различных «комплексов» и т.д. Во втором случае решение этой же проблемы будет основываться на признании социальной обусловленности того, что характеризует личность преступника, будет направлено на раскрытие социальной природы, социальных связей и зависимостей, приводящих к превращению человека в преступника51.
Здесь мы не намерены подробно рассматривать сложнейшую проблему соотношения социального и биологического в преступном поведении лиц с психическими аномалиями. Отметим лишь некоторые принципиальные моменты, и прежде всего то, что объяснение такого их поведения должно осуществляться, на наш взгляд, в рамках советской криминологической теории. Последняя, как известно, не отрицая роли биологического, решающее значение придает социальным факторам52, поскольку именно они формируют антиобщественную направленность личности, ее установки, ориентации и т. д. Вместе с тем криминологическая наука еще не располагает эмпирическими данными относительно действительной роли биологического. При этом, говоря о «действительной роли», мы отнюдь не подразумеваем, что эти еще неизвестные нам факторы обязательно должны определять преступное поведение. Вопрос заключается в том, как они действуют, на что влияют, каковы их механизмы.
Независимо от их детерминистической значимости биологические факторы, как и социальные, не могут быть в должной мере оценены и поняты вне личности, ее психологии, поскольку именно психология является той ареной, на которой осуществляется их взаимодействие. К сожалению, очень часто криминологи и дажс психологи не учитывают этого важного обстоятельства. В то же время, как справедливо отмечает Л. Л. Рохлин, «при анализе проблемы соотношения биологического и социального в человеке необходимо выяснить место и роль психического в этом соотношении, с надлежащей его дифференциацией. Здесь следует подчеркнуть следующие наиболее важные положения.
Во-первых, при таком выяснении надо учитывать сложную структуру психического, в котором имеются подструктуры, по своему генезу и характеру связи входящие то в систему биологического, то социального.
Во-вторых, обе эти разновидности психического как подструктуры психики находятся в сложных динамических отношениях, то синергичных, то противоречивых и переходящих друг в друга. Значение и роль этих подструктур психического в целостном функционировании психики находятся в тесной зависимости от конкретной ситуации в более широкой системе биологического и социального, включающей психику.
В-третьих, при анализе элементов общности в психике нормального и психически больного человека, сосуществования при психической болезни психических и психопатологических форм функционирования необходим учет также качественных отличий каждой из них в сложных соотношениях биологического и социального в целом»53.
Психология «аномального» правонарушителя по сравнению со здоровым как объект научного познания является более сложной, поскольку здесь наряду с социальными и биологическими компонентами необходимо учитывать и сами расстройства психики, а точнее, взаимовлияния, взаимопроникновения всех трех. Это тем более важно, что при любом психическом расстройстве, даже при выраженном психозе или стойком психическом дефекте, одновременно сосуществуют психическая патология и нормальное психическое функционирование.
Некоторые психические аномалии, особенно наследственные, явно биологического происхождения, в генезисе же многих других переплетается действие социальных и биологических факторов, причем декомпенсирующая, провоцирующая роль первых достаточно велика тогда, когда они по своей интенсивности превышают адаптационные возможности человека. Некоторые психические расстройства вызываются чисто социальными обстоятельствами, например неблагоприятными условиями развития.
Юридической ответственности, образно говоря, подлежат только личности. Но мы сейчас не будем предпринимать попытки определить понятие личности. Отметим лишь, что таких понятий в советской философии, социологии и психологии множество. При известных различиях всех их без исключения связывает одно: личность немыслима без общества, человек приобретает свойство личности благодаря общению с другими людьми. Именно из общения «берет» индивид те негативные нравственные установки и нормы, которые затем включаются в детерминистическую систему его преступного поведения.
Не вызывает сомнений, что социальные условия и актуальные внешние влияния опосредствуются индивидом через его психику и ее особенности, лишь таким образом проявляясь в поведении. Это отражает признание относительно самостоятельной роли личности в преступном поведении, ориентирует на всесторонний учет ее специфики, особенно порожденной психическими аномалиями. Конечно, есть теоретическое понятие личности преступника как обобщенной категории и объекта научного познания, что делает возможным понять и преступность в целом. Но нет «среднего» преступника, тем более если иметь в виду практические нужды борьбы с преступностью, которая всегда должна быть конкретной и целенаправленной. Поэтому есть все основания говорить о личности преступника с психическими аномалиями, ее особыми психологическими чертами как о самостоятельном криминологическом типе, а следовательно, самостоятельном объекте познания.
Понятие личности преступника с психическими аномалиями ни в коем случае не совпадает с понятием ненормального преступника, которым широко оперируют ряд буржуазных криминологов и психиатров. С позиций криминологии такое понятие бессмысленно. «Если лицо, нарушающее уголовный запрет, психически ненормально, оно невменяемо и не является субъектом преступления, его нельзя назвать „преступником“. Если же это преступник в уголовно-правовом значении данного понятия, то, следовательно, его психические аномалии (если они имеются) не достигают такой степени, при которой лицо было бы неспособно руководить своими действиями и отдавать себе в них отчет. Заметим, что для закона безразлична медико-биологическая природа соответствующих болезненных состояний: генетическая она или приобретенная»54.
Для понимания личности преступника вообще и личности преступника с психическими аномалиями в частности большое значение имеет исследование проблем формирования этих личностей. Мы придаем этой проблеме самостоятельное методологическое значение, поскольку, только раскрыв ее, можно установить, почему человек с аномалиями или без них может стать на преступный путь. Если формированию личности преступника вообще посвящена значительная криминологическая литература, то этим же вопросам применительно к лицам с расстройствами психики – лишь отдельные фрагменты. Между тем неблагоприятная социализация играет существенную роль в развитии психических расстройств и патопсихологических особенностей, может быть непосредственной причиной алкоголизма и наркомании.
Особого внимания заслуживает воспитание в родительской семье, которое Л. С. Выготский, например, расценивает в качестве едва ли не самого важного момента во всем том материале, которым может располагать исследователь детского развития55.
Нисколько не абсолютизируя влияние среды и стремясь к раскрытию взаимообусловленности детского развития, выделим в качестве важного криминогенного фактора семейное неблагополучие.
Под семейным неблагополучием мы имеем в виду не такие явления, традиционно анализируемые в отечественной криминологии, как неполная семья, антиобщественное поведение родителей, материальные затруднения и т.п., а скрытое или явное эмоциональное отвергание родителями ребенка, непринятие его56. Именно этот фактор семейного воспитания, препятствуя надлежащей социализации личности, в большей степени, чем любой другой, несет в себе, как показывают исследования, криминогенный потенциал57.
Следует остановиться на таком существенном аспекте последствий отвергания ребенка в детстве. Речь идет о влиянии отвергания на возникновение и развитие акцентуаций и расстройств психической деятельности, препятствующих успешной адаптации в жизни. Исследовавший эти вопросы А. Е. Личко пишет, что при эмоциональном отвержении ребенок и подросток постоянно ощущают, что ими тяготятся, что они – обуза в жизни родителей, что без них им было бы лучше, свободнее и привольнее. Еще более ситуация усугубляется, когда есть рядом кто-то другой – брат или сестра, особенно сводные, отчим или мачеха, кто гораздо ближе и любимее (воспитание по типу «Золушки»).
Скрытое эмоциональное отвержение, считает А. Е. Личко, имеет место тогда, когда мать или отец сами по себе не признаются в том, что тяготятся сыном или дочерью, гонят от себя подобную мысль, даже возмущаются, если им указывают на это. Силами разума и воли родители подавляют в себе эмоциональное отвержение к детям как недостойное и обычно даже обнаруживают гиперкомпенсацию в виде подчеркнутой заботы, утрированного внимания. Однако ребенок и особенно подросток чувствуют искусственную вымученность таких забот и внимания и ощущают недостаток эмоционального тепла.
Исследования А. Е. Личко показывают, что положение менее любимого и желанного члена семьи неодинаково сказывается на подростках с разным типом характера. При гипертимной и эпилептоидной акцентуациях ярко наступает реакция эмансипации: первые из них борются за самостоятельность и свободу, вторые – за имущественные права. Истероиды в этих ситуациях в подростковом возрасте продолжают обнаруживать выраженную детскую реакцию оппозиции. И хотя формы ее выявления с возрастом меняются, но все поступки: и непонятные кражи, и показной интерес к алкоголю и другим дурманящим средствам, суицидальные демонстрации, и самооговоры в распутстве – используются как сигналы родным, как требование внимания, любви и заботы. Другие истероиды, отчаявшись в попытке привлечь любовь к себе, погружаются в мир фантазий или начинают искать внимание на стороне. Шизоиды на подобную ситуацию, как и на другие трудности в жизни, реагируют уходом в себя, возводя духовную стену между собой и нелюбящей их семьей. Неустойчивые не склонны тяжело переживать эмоциональное отвержение близких, они и без того ищут отдушину в подростковых компаниях.
Положение «Золушки» оставляет неизгладимый след при некоторых акцептуациях характера – сензитивной, лабильной и астеноневротической. Здесь акцептуация может превращаться в психопатическое развитие по соответствующему типу, а для лабильной – и по неустойчивому типу. А. Е. Личко подчеркивает особую опасность для психического здоровья тех случаев, когда эмоциональное отвержение сочетается с жестоким отношением родителей. Это может выражаться как в суровых расправах за мелкие проступки, так и в полном пренебрежении к детям в семьях, где каждый может рассчитывать только на себя, не ожидая ни помощи, ни поддержки, ни участия. В подобных условиях влияние среды может способствовать тому, что психопатия достигает тяжелых степеней58.
Как видно из результатов наших исследований, среди дезадаптированных правонарушителей, отвергнутых в детстве родителями, больше, чем среди других, лиц, страдающих психическими аномалиями.
Следует отметить, что в советской психиатрии всесторонне учитывается роль внешних социальных факторов. Не случайно появление в психиатрической литературе утверждения, что современную психиатрию с полным основанием следует считать наиболее яркой представительницей социальной медицины, поскольку предметом ее исследований и практических действий является главным образом психическая деятельность человека, формирующаяся на биологической основе, но преимущетсвенно под влиянием социальных условий и одновременно социальная по своему содержанию. Поэтому в психиатрии из всех медицинских специальностей особенно сильно отражаются методологические и теоретические противоречия, возникающие в науках о человеке, о биологических и социальных формах его существования. Именно здесь особенно ожесточенно ведутся дискуссии о проблемах соотношения морфофункционального субстрата (головного мозга) и сознания, биологического и социального, эндогенного и экзогенного в структуре жизнепроявлений человека и личности в норме и патологии, а также взаимодействия человека с окружающей его природой и социальной средой59.
В связи с рассматриваемым вопросом следует отметить в психиатрической литературе недостаточную четкость в определении объекта психиатрии. Так, Н. Е. Бачериков, В. П. Петленко, Е. А. Щербина считают, что «объектом психиатрии является человек в состоянии здоровья и болезни, характеризующийся диалектическим взаимодействием присущих ему организменного, психического и социального жизненных уровней, рассматриваемый всегда как субъект и личность и в самом жизненном процессе определяемый социальными условиями. Человек как объект психиатрии может быть рассмотрен как диалектическое единство двух подструктур – организменной (биологической) и личностной (социальной). Организм как личностная подструктура может находиться в двух биологических состояниях – нормальном (норма) и патологическом (патология). Личность как социальная подструктура тоже может находиться в двух социальных состояниях: здоровом (здоровье) и больном (болезнь). Следовательно, мы не отождествляем норму и здоровье, патологию и болезнь, несмотря на их единство, взаимосвязь»60.
Не вызывает сомнений, что организм как биологическая подструктура может находиться в двух упомянутых биологических состояниях, что не следует отождествлять норму и здоровье, патологию и болезнь, несмотря на их единство и взаимосвязь. Многие же из остальных приведенных здесь положений вызывают существенные сомнения.
Так вначале упомянутые авторы в качестве объекта психиатрии называют три уровня – организменный, психический и социальный, а затем две подструктуры – организменную и личностную (социальную). Создается впечатление, что психический уровень (или подструктура) не входит в объект психиатрии, с чем никак нельзя согласиться. Еще большие возражения вызывает утверждение, что личность может быть в здоровом или больном социальном состоянии. Мы считаем, что социально больной или здоровой личности не существует и об этом можно говорить лишь в переносном смысле и при этом объясняя, что имеется в виду. Больным или здоровым может быть только человек. Для криминологии данное обстоятельство имеет особое значение, так как, если согласиться с мнением названных исследователей, следует признать преступников социально больными личностями.
Следовало бы несколько уточнить и объект психиатрии в том плане, чтобы показать, что здоровье всегда интересует психиатрию, поскольку оно всегда взаимосвязано с болезнью, находится с ней в диалектическом единстве (противоположностей), и понять, что такое болезнь, невозможно, если не знать, что такое здоровье, и наоборот. Разумеется, психиатрия, как и другие медицинские науки, исследует теоретические и практические проблемы обеспечения здоровья.
Обратим внимание еще на один существенный методологический момент – соотношение психиатрии и патопсихологии, – существенный именно в методологическом отношении потому, что любая теория должна быть адекватна какой-то определенной реальности, претендуя на ее описание и объяснение. Если объектом психиатрии является личностный (социальный) уровень человека, то непонятно, какой компонент его (человека) должна изучать патопсихология. Представляется, что личностную информацию о психически больных или психически аномальных лицах должна давать именно психопатология. Другое дело, что психиатрия не может обойтись без личностных данных, которые ей необходимы для обеспечения и феноменологического и нефеноменологического уровней исследований.
Рассмотрим в общеметодологическом плане криминогенную роль психических аномалий в преступном поведении в аспекте мотивов такого поведения (специальные вопросы мотивации будут рассмотрены ниже). Прежде всего отметим, что мотивы имеются не только в действиях вменяемых лиц – психически здоровых или с нарушениями психики. Они могут быть обнаружены и у психически больных, общественно опасные поступки которых не влекут уголовной ответственности (например, сверхценные идеи установления «мировой справедливости» у больных шизофренией). Можно предположить, что чем тяжелее заболевание, тем уже мотивационная сфера и она совсем исчезает при наиболее тяжких формах (например, при идиотии). Содержание, развитость, иерархия мотивов, наконец, их наличие обратно пропорциональны состоянию психического здоровья.