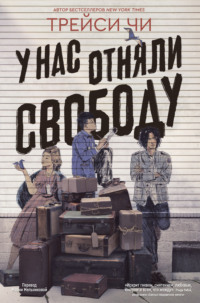Kitobni o'qish: «У нас отняли свободу», sahifa 2
II
Что брать, что не брать, что отдать
Сиг, 17 лет
Апрель – май 1942
Апрель, пятница, мы с Шустриком идем в школу – и видим толпу перед пунктом гражданского контроля. Само здание и японская школа в нем раньше принадлежали Лиге японо-американских граждан, но в прошлом месяце Лига попросту прогнулась и передала все Военному управлению по переселению, правительственному агентству, отвечающему за то, чтобы загнать нас под замок – получите-распишитесь.
Можно было бы подумать, что ЛЯАГ будет как-то сопротивляться, но она разве что на брюхе не ползала, помогая Рузвельту и его друзьям-приятелям. После Перл-Харбора она помогала арестовывать лидеров иссеев вроде мистера Хидекавы и отца Ям-Ям, мистера Оиси. Лига велела нам сотрудничать, когда военное управление стало высылать нас в лагеря посреди пустыни. Готов спорить, люди из Лиги извернутся и поцелуют себя в зад, если Вашингтон им велит.
– Видишь это? – Я толкаю Шустрика локтем, когда мы подходим ближе. – Что властям на этот раз от нас понадобилось, наши ношеные трусы?
– Никому твои грязные подштанники не нужны, Сигео. – Шустрик двигает меня локтем в ответ. – Может, Майк Масаока с позором уходит в отставку или что-то такое.
Майк Масаока – исполнительный секретарь ЛЯАГ. Спорим на что хотите, что эта важная шишка не поедет в лагерь с нами со всеми.
Я фыркаю.
– Не, я слушал новости. Свистящих раков на горе не обнаружено.
Мы проталкиваемся сквозь стену из шляп и спин к каким-то официального вида объявлениям, наклеенным на стене пункта гражданского контроля. В итоге я застреваю между мистером Иноуэ, который вечно ходит в кепке, потому что стесняется своей лысины, и мистером Маэдой, от которого вечно пахнет кофе и парфюмерной водой «Шантили».
Сквозь толчею я вижу кусок листа – Приказ об исключении гражданских лиц № 20 – и все понимаю. Я все понимаю, даже не дочитав.
Майк Масаока не уходит в отставку.
ЛЯАГ не протестует.
Выселение добралось до Японского квартала.
Где-то на середине листа описываются границы зоны выселения – они охватывают всю северную половину района, лишь один квартал не доходя до нашего дома.
– Там семья Томми живет, – шепчет Шустрик.
– И Стэна, – добавляю я.
Двоих моих самых лучших друзей на всем белом свете выгоняют из дома, и всем начхать.
Я чувствую, как между зубами тихо гудит, словно внутри у меня замкнуло линию электропередачи, и стоит открыть рот, как из него полетят искры.
Я трясу головой, гудение стихает – нельзя идти против федерального правительства, если не хочешь оказаться в тюрьме, – и я криво усмехаюсь и кошусь на Шустрика.
– Знаешь, мне что-то вдруг расхотелось в школу.
Он прыскает.
– Тебе туда никогда не хочется.
– Ну да, но теперь-то чего напрягаться? – Во рту снова гудит. Я чувствую электричество на языке. – Они всех нас все равно вышвырнут через неделю-другую.
* * *
Когда никто не смотрит, мы поднимаемся по пожарной лестнице на три этажа, вылезаем на крышу отеля «Токио» – мы туда всегда залезаем, когда прогуливаем, потому что там нас никто не найдет. У нас там даже припрятаны пара бутылок содовой и стопка комиксов – в ящике у ниши, что смотрит на перекресток между Пост-стрит и Бьюкенен-стрит.
Внизу люди толкутся, как муравьи. Всех этих людей скоро тут не будет.
Вот моя девушка, Ям-Ям, и ее подружка Хироми, которая носит светлый парик, – идут в школу. Вот мистер Танака, который работает в ХАМЛ, – за ним тянется шлейф дыма, потому что он хочет выкурить последнюю сигаретку перед началом смены. Вот Джим Китано и его брат Судзи, те самые хулиганы, что доставали Пескарика в младших классах. Вот Томми Харано – его везде узнаешь, такой он коротышка. Ребята обзывали его «эби» – ну знаете, «креветкой», – но это было до того, как мы с Масом приняли его в компанию. Его давно уже никто так не обзывает, потому что все знают, что придется отвечать перед нами.
– Эй, Томми! – Шустрик вскакивает и машет руками, словно сигналит заходящему на посадку самолету. – Томми!
Томми озирается, но начинают озираться и Ям-Ям, и Хироми, и мистер Танака, и братья Китано. Ям-Ям хмурится на нас, и я посылаю ей воздушный поцелуй, прежде чем оттащить Шустрика подальше.
– Хочешь, чтоб нас поймали?
– Не, но Томми же…
– У тебя есть что кинуть?
Я выворачиваю карманы. Там у меня: домашка, которую я не сдам, школьный пропуск, тридцать восемь центов, конфетный фантик и ключ от нашей квартиры, которая скоро, подозреваю, будет уже не наша.
Мы вместе смотрим за край крыши. Томми внизу уже переходит улицу.
Шустрик комкает листок из моей домашки и швыряет Томми в спину. Комок сильно не долетает.
Я быстро хватаю первую страницу сочинения по английскому и складываю пополам по длинной стороне. Бумага хрустит. Сгиб чистый.
– Быстрее, Сиг. – Шустрик теребит меня за плечо. – Он сейчас уйдет!
– Хватит меня трясти! – Я делаю пару диагональных сгибов, складываю так, чтобы получились крылья.
Потом встаю и пускаю лист в полет.
Бумажный самолетик парит над улицей, крутится, вертится почти как живой. Он тыкает Томми в шею, не успевает тот добраться до тротуара.
– Прямое попадание! – смеется Шустрик.
Томми снова поворачивается, потирая затылок, и на этот раз видит, как мы сигналим ему с крыши. Его большие глаза округляются, он таращится на нас снизу, машет, а потом бежит к пожарной лестнице отеля.
– Вы что тут делаете? – спрашивает он, вскарабкавшись на крышу. – Вам разве в школу не надо?
Мы с Шустриком переглядываемся. Томми все принимает ближе к сердцу, чем другие. Как мы сообщим ему, что его выкидывают из единственного дома, который он знал в своей жизни?
Мы усаживаем его между нас и рассказываем о приказе.
– Твоя семья в первой группе, – говорю я как можно мягче, потому что вид у Томми сейчас такой, словно кто-то двинул ему в зубы.
– Ну, хотя бы и в школу тебе уже не надо, – добавляет Шустрик.
Томми просто пялится на крышу между своими кроссовками.
Я аккуратно комкаю еще одну страницу сочинения и вкладываю ему в ладони.
– Давай, – говорю я, указывая на Боба Томиока, который стоит на углу в своих оксфордских ботинках, начищенных, как всегда, до зеркального блеска. – Спорим, ты не попадешь в Боба отсюда.
Пальцы Томми сжимают бумажный комок, и он чуть улыбается.
– На что спорим?
Остаток утра мы бросаем всякие штуки в прохожих и смеемся, когда они крутятся, пытаясь нас увидеть.
Прощай, школьный пропуск. Похоже, больше ты мне не понадобишься.
Прощайте, последние три страницы сочинения по английскому.
Прощай, конфетный фантик.
Прощайте, конспекты по биологии, которые я должен был выучить.
Прощайте, прощайте, прощайте.
* * *
Вечером Мас велит мне и Пескарику начинать составлять списки. Выселяемые могут взять только по два чемодана каждый, говорит он, так что нам нужно хорошенько подумать, что брать, когда придет наша очередь.
– Подумать? – смеюсь я. – Ты меня что, первый раз видишь? Слова «подумать» в моем словаре не числится.
Он пронзает меня одним из тех взглядов, знаете, когда он пытается быть нам отцом, а не старшим братом.
– Ну так лучше тебе подучиться, – говорит он.
Похоже, что так и есть.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ, КОГДА ПРИДЕТ НАША ОЧЕРЕДЬ
деньги
одежда
еще деньги
В выходные по всему кварталу повыскакивали объявления. Распродажа перед выселением. Распродажа мебели. Распродажа перед закрытием. Большая распродажа. Цены пополам. Некоторые были отпечатаны, но большинство написаны от руки жмущимися друг к дружке заглавными буквами
Я, Мас, Пескарик, Шустрик и Фрэнки все вместе помогаем тем ребятам, кому пришлось уезжать. В магазине Кацумото мы разбираем полки, ставим низкие цены на рис, комбу4 и чай. Когда Мас отворачивается, я шлепаю на него наклейку «–50 %», а Шустрик добавляет к этому наклейку «5 центов» на зад его штанов. Кто-то прыскает. Мэри, младшая сестра Стэна, сердито на нас зыркает. Мы с Шустриком давимся смехом и успеваем налепить на Маса еще шесть наклеек до того, как миссис Кацумото поднимает глаза от прилавка и восклицает: «Ай, что же вы делаете? Масару красивый мальчик – мы за него можем по меньшей мере доллар выручить!»
Хотел бы я рассказать вам, какое было лицо у Маса, но мы с Шустриком уже выбежали за дверь и мчались по улице, а Мас ревел нам в спину.
Когда наступает время ланча, миссис Кацумото вешает на дверь объявление, под вывеской «Я АМЕРИКАНЕЦ». Это послание всем покупателям с благодарностью за двадцать лет поддержки.
Стэн пару секунд рассматривает объявление, а потом поднимает бровь.
– Мам, ты уверена насчет этого? Нам не нужно, чтобы у них создалось о нас ложное впечатление.
– Какое ложное впечатление? – спрашивает миссис Кацумото.
– Что мы порядочные люди и все такое.
– А что тут не так?
– Порядочные люди не вышвыривают из дома других порядочных людей, так что если мы порядочные, то они, получается, непорядочные. – Он всплескивает руками. – Ты вызовешь экзистенциальный кризис, мам! Если белые люди непорядочные, то что они вообще такое?
Миссис Кацумото вздыхает и прижимает бумажную ленту ногтем большого пальца.
– Это нужно сделать, – говорит она, – ради нас.
Ради нас? Гудение возвращается, острое, металлическое. Людей благодарят, чтобы им было приятно, а от того, что сейчас происходит с нами, им точно приятно не будет.
Мистер Кацумото ничего не говорит. Он склоняет голову над прилавком и молча надписывает пакеты умэбоси5.
После ланча мы идем помогать семье Томми раскладывать на тротуаре свои вещи: тарелки, которые они привезли из Японии, когда иммигрировали, кухонную утварь, лишние полотенца, столы, проигрыватель Томми и все его любимые пластинки, стиральную машину, лампы, коврики, книги.
Любители халявы заявляются прежде, чем мы успеваем вытащить из квартиры Харано половину вещей. У них надменные лица и плотно сжатые кулаки, и они предлагают десять центов за все, что стоит доллар.
Какое-то время мы стараемся развлекать троих младших сестренок Томми. Мы позволяем тринадцатилетней Айко прыгать вокруг нас и болтать, пока мы грузим мебель в фургоны кето. Шустрик за спиной у любителей халявы корчит рожи самым маленьким, Фуми и Фрэнни, а они смеются и хлопают. Но чем дальше, тем становится тяжелее. Айко нечаянно опрокидывает лампу и остаток дня вынуждена сидеть на крыльце. Близняшки ударяются в слезы, когда продают их кукол кокэси, и ни нам, ни Томми, ни его маме не удается их унять. Мистер Харано каменеет лицом, когда диван уходит за три доллара, а кровати за два доллара каждая.
К концу дня у Харано несколько сотен долларов. Несколько сотен долларов за тьму вещей, которые они не смогут взять с собой.
НА ЧТО НЕ НАЛЕПИШЬ ЦЕННИК
Наипрекраснейший из всех «песчаных долларов»6, которых я когда-либо находил на Оушен-Бич, завернутый в носовой платок, который Ям-Ям подарила мне на нашем третьем свидании
Первые семьи уезжают во вторник, 28 апреля. Они выстраиваются перед пунктом гражданского контроля в лучших воскресных нарядах – мужчины в костюмах, женщины в шляпах с вуалями и перчатках, – словно собрались в церковь, а не в лагерь для перемещенных лиц. Не понимаю, зачем они так расстарались.
С крыльца на другой стороне улицы мы с Шустриком смотрим на громоздящийся на тротуаре багаж: пароходные кофры, за ними чемоданы и искусно увязанные тюки. Местами из-за груды вещей не видно стоящего у дверей пункта охранника-кето с винтовкой «Спрингфилд».
Мы прощаемся с Томми – он обещает писать – и с остальными Харано. Когда они садятся в грейхаундовский автобус, Фуми и Фрэнни принимаются плакать и хватать миссис Харано за волосы, она передает одну близняшку Томми, и он аккуратно покачивает ее на руках.
Когда автобус трогается, завывания девочек еще слышны.
День подходит к концу, а на тротуаре все еще остается какой-то багаж: спортивные сумки, перевязанные веревками коробки, сундуки, надписанные английскими и японскими фамилиями. Друзья и родные унесли что смогли, но были люди без друзей и родных, и их вещи так и лежат на улице, когда зажигаются фонари.
В ту ночь, когда последние семьи вывозят из северной части Японского квартала, мы с Фрэнки Фудзита идем по району.
Пустынные улицы.
Покинутые магазины.
Заколоченные окна.
Темные дома.
Половину общины ампутировали, людей, вместе с которыми я рос, отправили бог знает куда.
Вокруг почти никого – лишь я, да Фрэнки, да тени, да фонари, мерцающие в тумане. Мы шагаем посередине дороги, точно короли пустого королевства.
Фрэнки едва не гудит от злости. Я чувствую, как она исходит от него, словно некий поток.
Черт, да от меня она тоже исходит, и с каждым пустым домом, что мы минуем, она становится сильнее.
Мои кулаки наэлектризовались.
Мы вламываемся в лапшичную. Тут мало что осталось. Все столы и стулья распродали. Кое-где на стенах светлые пятна – там висели резные панно, но по большей части стены оклеены обтрепавшимися меню, отпечатанными на кандзи, хирагане7 и на английском
Мы все это раздираем. Мы срываем со стен листки с блюдами дня. Мы расшвыриваем подставки для салфеток и пустые миски. Фрэнки разрывает гирлянду из бумажных журавликов, и они бессильно осыпаются на пол, будто конфетти. На кухне я нахожу манеки-неко, кошку – талисман удачи, большеглазую, с пятнышками, – сбрасываю ее в обеденный зал, и там она разбивается.
Одно рыжее кошачье ухо подкатывается к Фрэнки. Пару мгновений он смотрит на него. Потом разражается смехом. Это жуткий невеселый смех, и его раскрытый рот кажется отчаянным и голодным, словно Фрэнки хочет пожрать весь мир.
* * *
Когда мы выходим из лапшичной, то видим, что на углу Буш и Лагуны курят братья Китано, Джим и Судзи. Фрэнки позади меня ускоряет шаг. Он почти что бежит к ним, вопя:
– Эй, Джимми, урод поганый, где два доллара, что я тебе одолжил?
Я не помню, чтобы Джим одалживал у Фрэнки деньги, но он и правда урод поганый, а у меня руки чешутся подраться, да и вообще, какая, к черту, разница?
Прежде чем кто-либо из братьев Китано успевает что-то сказать, Фрэнки засаживает Джиму в челюсть. Несильно. Я видел, как Фрэнки бьет, словно кувалда, а это сущий пустяк. Считай, приласкал.
Он хочет, чтобы Джимми дал сдачи.
И Джимми дает. Он принимается махать кулаками, и они с Фрэнки сцепляются, сопя, и выкатываются с тротуара на улицу.
Судзи не успевает и глазом моргнуть, как я ему залепляю. Как хорошо по чему-нибудь врезать. Как хорошо что-то сломать.
Мы обмениваемся ударами. Выступает кровь. Братья Китано вопят, но мы с Фрэнки тверды и яростны, и слышно лишь, как мы дышим. Испускаем гнев.
Судзи от души дает мне в зубы, но я этого почти не ощущаю. Нет, я принимаю удар с радостью. Я проглатываю боль, точно завтрак.
Где-то дальше по улице зажигается свет. Кто-то кричит на нас. Вдалеке воют сирены.
Мы разбегаемся в ночи – Джимми и Судзи в одну сторону, мы с Фрэнки в другую – и растворяемся в пустых улицах.
Наконец мы останавливаемся в проулке. Сгибаемся пополам, тяжело дышим. Когда Фрэнки распрямляется, я вижу, что у него синяк под глазом и кровь из носа – подсвеченный фонарем, он похож на юного самурая, пылающего и разъяренного.
– Пошло оно все, – говорит он.
Я выпрямляюсь, щупаю языком разбитую губу.
В точку.
Я сплевываю кровь.
Пошло оно все.
ЗА ЧТО Я ЦЕПЛЯЮСЬ
моя злость
Дома меня ждет мама. Она в старом халате с обтрепавшимися обшлагами, сидит на коленях в гостиной, разбирает вещи по кучам.
Что оставляем: ковры, кофейный столик, коробки с папиной старой одеждой – я не знал, что мама их хранила.
Что берем: простыни, одеяла, чашки, миски и столовые приборы для каждого, плитку, чайник.
Мама поднимает на меня взгляд, поджимает губы, и на мгновение мне кажется, что сейчас она будет ругаться. Но она не ругается. Она лишь хлопает по полу рядом – приглашает сесть.
– Что с тобой случилось, Сигео? – спрашивает она, поворачивая мой подбородок к свету.
Я прячу глаза.
– Подрался.
– С кем?
– С братьями Китано.
Она цокает языком:
– С этими ужасными мальчишками.
Я смеюсь – тихо, потому что Мас и Пескарик уже спят.
– Не надо тебе драться.
– Я знаю, мама. – Я потихоньку вытаскиваю из кучи «Оставляем» последний выпускной альбом Маса. Там полно записей от его друзей: друзей-китайцев, друзей-хакудзинов – белых, друзей, которых переселили. – Но я хотел подраться хоть с кем-то.
Она вздыхает.
– Наше положение ты кулаками не изменишь.
– Но должно же что-то измениться, мама. Разве нет?
Она тянет ниточку на рукаве. Ткань распускается.
– Нет, Сигео, ничего не изменится.
Злые слезы капают на страницы Масова альбома, и я вытираю глаза рукой.
– Тогда что нам делать?
Она кладет руку мне на плечо и сжимает:
– Гаман.
Это словно означает что-то вроде «проявлять стойкость» или «терпеть». Это слово для ситуации, когда ты ничего не можешь изменить, поэтому сносишь все терпеливо… ну, или настолько терпеливо, насколько получается.
Я думаю о миссис Кацумото и ее благодарственном объявлении. Я думаю о людях, нарядившихся в свою лучшую одежду в честь своего же выселения.
Но я так не могу. Я не могу с достоинством страдать, пока нас вышвыривают из домов. Я не могу не чувствовать внутри себя электричество. Я не могу не обижаться и не злиться и хочу срывать все со стен.
Не думаю, что слово «гаман» есть в моем словаре.
* * *
Когда приказ об исключении гражданских лиц № 41 сообщает нам, что нас выселят, Шустрик крадет одну из листовок. Мы сидим за зданием ХАМЛ и знаем, что мистер Танака нас отсюда не прогонит, потому что мистера Танаки тут больше нет. Вместе мы перечитываем предписание снова и снова, словно, если сделать это еще раз, слова станут другими.
Нас не будут переселять.
Нам можно остаться.
Но ничего не меняется.
– Готов поспорить, поедем в Танфоран, – наконец говорит Шустрик.
Танфоранский сборочный центр – это старый ипподром в пятнадцати милях к югу от города. Там и оказались Томми со Стэном.
Ничего не говоря, я превращаю бумажный прямоугольник в квадрат – отрываю полосу с подписью Дж. Л. Девитта из западного оборонного командования. Он уверен, что мы все – кучка япошек-шпионов, и, подозреваю, он и остальных в этом уверил, потому что, ну… вот так все обернулось.
Я швыряю его имя в мусор, где ему самое место.
– Не так уж все и плохо, – продолжает Шустрик. – Не так уж далеко от дома, и мы хотя бы будем вместе…
Я почти не слушаю. Я сминаю, сгибаю, складываю приказ в кое-что другое, во что-то иное, нежели то, чем он является – а является он куском бумаги, призванным лишить нас почвы под ногами.
Под моими пальцами он превращается в квадрат, в пятиугольник, в журавля с длинной шеей. С острым клювом и проступающими на крыле словами «как иностранного, так и не иностранного подданства».
Они что, даже гражданами не могут нисеев назвать?
Я хочу раздавить бумажную птицу в руке, как будто это уничтожит все слова приказа и всех, кто его сочинял.
– Эй, ты где выучился оригами? – спрашивает Шустрик, прерывая мои размышления.
Я кручу бумажную птичку за ее острый хвост.
– В Кинмон Гакуен, – вру я.
Шустрик недоверчиво хмыкает.
– Где же я был в тот день?
– В углу стоял, наказанный, – ухмыляюсь я. – Как обычно.
– Ха-ха. – Он смотрит на меня так, словно раскусил мое вранье, но больше не докапывается.
Мы не засиживаемся, как в прошлый раз, потому что теперь мы уезжаем. Нам нужно домой. Нужно помогать родителям собирать вещи.
На ступеньке рядом со мной – черные пятна там, где мистер Танака тушил свои сигареты. Я оставляю бумажного журавлика рядом с ними, словно храмовое подношение.
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ, НО НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ
Одна из папиных шляп
Никому не говорите, но это папа заинтересовал меня искусством складывать бумагу. Он занимался оригами в счастливые минуты или когда размышлял над чем-то, о чем не готов был сказать маме, но по большей части – в счастливые минуты. Я помню, как по воскресеньям, когда мы ходили на пляж запускать змеев и искать ракушки, он сидел на песке и сгибал газетную страницу.
Но и особого значения он оригами не придавал. Я видел, как он забавлялся с конфетной оберткой или еще какой-то бумажкой, но никогда не видел, как они обретали форму. Папа оставлял свои поделки там, где их мог кто-нибудь найти, если особенно ими гордился. Но обычно они просто исчезали. Не знаю, выкидывал он их или что.
Теперь я тоже занимаюсь оригами, хоть никто, в общем, об этом не знает, даже Шустрик. Это вроде как личное, понимаете? Это что-то такое только между мной и папой, пусть его и нет больше.
* * *
В среду Мас приносит домой пачку идентификационных бирок. Мы должны пометить свой багаж, а в день переселения надеть бирки на себя. Как будто нам не доверяют запомнить собственные имена.
Я «Ито Сигео»
№ 22437
Согласно предписанию, должен сообщить о готовности выехать в субботу 9 мая, в 11:30
Это через пять дней. Пять дней на то, чтобы собрать всю свою жизнь.
Даже неделю не могли нам дать.
ЧТО ПРИДЕТСЯ ОСТАВИТЬ
Жестянка со стеклянными шариками и бейсбольными карточками, которую мы зарыли где-то на заднем дворе.
Вмятина в стене, где Мас врезался плечом, когда мы боролись. Имена, которые мы вырезали на плинтусе: МАС, СИГ и маленькая рыбка – Пескарик.
* * *
Стервятники.
Белые возвращаются, вынюхивают халяву.
Вся химчистка Китано, с оборудованием и прочим, уходит за пятьдесят долларов. Я это знаю, потому что слышно, как кето хвалятся, идя к своему кадиллаку. На другой стороне улицы на тротуар выходит Джим Китано, и наши взгляды встречаются. У него зеленовато-желтый синяк на подбородке, куда Фрэнки засадил ему в пятницу.
Я киваю Джиму.
Он кивает в ответ, зажигает сигарету и прислоняется к двери бассейна, где Фрэнки вытряхивал из ребят деньги, когда ему становилось скучно. Сейчас бассейн стоит пустой, окна заклеены бумагой.
Рядом со мной двое кето торгуются за американский флаг, который папа каждый день поднимал на крыльце. Веко у Маса начинает подергиваться, как когда он пытается не заплакать. Он любит этот флаг почти так же, как любил его папа, и после папиной смерти он продолжил его поднимать.
Гаман, напоминаю я себе.
Улыбайся и терпи.
Извернись и поцелуй себя в зад.
Но с той ночи с Фрэнки гнев переполняет меня. Каждый день внутри меня гудит все сильнее и сильнее, словно неисправный трансформатор, и иногда доходит до того, что я ничего, кроме этого гула, не слышу и не ощущаю.
– Не продается! – говорю я вдруг. – Проваливайте! – Я машу на кето руками, и они отскакивают, словно сердитые чайки.
– Сигео! – говорит мама.
– Что? – Внутри гудит. – Это папин флаг. Он стоит побольше четвертака.
Мама проводит рукой по моим волосам, как делала, когда я был маленький, но даже это не смягчает моего гнева.
– Речь не о том, сколько он стоит, – говорит она. – Не о том, чего мы заслуживаем. Речь о том, что они готовы нам дать.
– Дерьмо, – говорит Пескарик, поднимая голову от блокнота. – Все, что они готовы нам дать, это дерьмо.
– Следи за языком, Минору, – рявкает Мас.
Вид у него такой, словно он сейчас разломится пополам, как кирпичная стена во время землетрясения.
Но он не ломается. Даже когда час спустя папин флаг уходит за пятнадцать центов.
Нет, ломается сегодня мама.
Она заворачивает лаковый красно-черный сервиз, кладет бумагу между тарелками, чтобы не поцарапались, и вдруг начинает плакать. Понимаете, это был сервиз ее бабушки. Чуть ли не лучшее из того, что она привезла из Японии, когда вышла замуж за папу.
Она никогда не давала ни нам, ни папе трогать его, даже чтобы почистить. Она держала его на самой высокой полке в гостиной и сама смахивала с него пыль мягкой кисточкой. Это был ее сервиз, и он был сокровищем.
Теперь его хотят забрать какие-то чужие хакудзины. Они не хотят видеть наши чужеродные лица в своем районе, но совсем не против нашей лакированной посуды в своих домах.
Внутри меня гудит так сильно, что я едва слышу, как мама плачет в моих объятиях.
Стервятница неловко переминается, когда Мас передает ей сервиз, но вначале она ничего не делает. Стыд и вина копятся за стеклами ее очков.
Где-то минуту спустя она пытается дать ему еще один доллар. Целый чертов доллар. Он безвольно свисает с ее пальцев, как мертвый зверек.
Мас не берет деньги.
– Мы уже договорились о цене, – сухо произносит он.
– Но…
Мас скрещивает руки на груди. Он почти шести футов ростом и сложен как олимпийский борец. Он может хорошенько напугать, когда захочет.
– Благодарю вас, – говорит он, и покупательница торопится прочь, а доллар бессмысленно трепыхается в ее руке.
* * *
В одной из куч на выброс я нахожу обувную коробку, полную оригами: лягушки, птички, воздушные шары, вертушки, кораблики и даже вьетнамская свинка.
Думаю, мама о них всегда знала. Она, наверное, собирала все те фигурки, что делал папа. И взять их мы не можем. У нас нет места.
ЧТО У МЕНЯ ЗАБРАЛИ
Дом
Друзей
Общину
Я у Ям-Ям, когда ее мама продает ее пианино.
К счастью для них, они домовладельцы, так что могут сдать дом на то время, пока их не будет. Точнее, технически, домовладелица – Ям-Ям. Дом записан на ее имя, поскольку калифорнийский закон не позволяет иссеям владеть в штате недвижимостью.
Но хоть и с домом в собственности, они такие же японцы, как и все мы, и им все равно надо уезжать. Им все равно надо отдать на хранение или продать те вещи, которые они не могут сдать в аренду или взять с собой.
Мы подсобили бы им, даже если бы мистера Оиси не арестовали, но теперь мы с парнями помогаем семье Ям-Ям с особым рвением. Вместе мы стаскиваем пианино по лестнице и выволакиваем на тротуар, где оно будет дожидаться грузовика от «Перевозок и хранения Бенкинса».
Только не говорите Ям-Ям, но вначале мы все терпеть не могли, как она играет. Пианино было уже старое, когда его купили, потрепанное и расстроенное, и каждая фальшивая нота гаммы, что Ям-Ям выбивала из клавиш, отдавалась в ушах.
Но теперь она играет хорошо, и все мы толпимся вокруг, когда она садится за клавиши в последний раз.
Ям-Ям всегда была красивая, но сегодня, когда она сидит за пианино, пальцы неподвижно лежат на клавишах, словно этой тишиной она прощается, – Ям-Ям просто прекрасна и могущественна.
Она начинает – громко, затем мягко-мягко. Музыка тяжелая, как туман, что крадется по улицам Сан-Франциско, тяжелая, как ночные шаги двух парней, которым хочется все крушить.
Она нарастает и нарастает, становится темнее и темнее, а потом вдруг ускоряется, и ноты вспыхивают, поджигают все вокруг, вся улица полна ими. Они взрываются. Все здания рушатся, оседают на дорогу похожими на чемоданы кучами. Готов поспорить, если бы Ям-Ям могла, она бы весь город смела с лица земли своей музыкой.
Но под конец музыка вновь становится мягкой, и лицо Ям-Ям не выдает тех злости и смятения, что бушуют внутри нее. Она встает, шагает в мои объятия, и я сжимаю ее в своих руках, пока за пианино не приезжает грузовик. Она не плачет.
И я наконец понимаю. Гаман.
Умение держать боль и горечь внутри и не позволять им уничтожить тебя. Делать что-то прекрасное вопреки гневу или с помощью гнева и не отметать его, но и не позволять гневу становиться твоей сутью. Страдать. И беситься. И терпеть.
Когда прихожу домой, оказывается, что мы получили письмо от Томми.
Дорогие Мас, Сиг и Пескарик!
Ну что же, мы все сейчас в Танфоране. В доме, точнее, в лошадином стойле, две комнаты. Мама, папа и близняшки спят в задней, мы с Айко – в передней. Каждое утро в шесть тридцать нас пересчитывают по головам (и еще раз – вечером), а раз я самый старший и единственный мальчик, мне поставили в обязанность докладывать, что все на месте.
Не знаю, получили ли вы уже предписание о переселении, но, куда бы вас ни отправили, берите с собой пилу, молоток и штифты. Из мебели тут только армейские койки, и всем приходится мастерить столы и стулья из деревяшек. Если окажется, что вы едете сюда, я попробую приберечь для вас немного.
Еда отменно дрянная. Вчера были картошка, потроха и хлеб. Подают это работники-хакудзины, которых нанимают на стороне, и они всё трогают руками. Когда у нас обед, очередь выстраивается длиной в два-три квартала, так что лучше занять место пораньше!
Мас, в лагерь некоторые приезжают не на авто- бусах, а на своих машинах. Они загружаются всякими вещами вроде фруктовых консервов и домашнего мыла. Может, вы сумеете нагрузить свой «шевроле» и привезти еды с воли. Я бы принял в знак благодар- ности шоколадку.
Берегите себя.
Томми
P. S. Передайте привет Шустрику и Фрэнки.
P. P. S. Извините, что пишу карандашом, но я пытаюсь экономить чернила.
ДЛЯ ЧЕГО НАДО НАЙТИ МЕСТО
инструменты
еда
гаман
В ночь перед переселением мы с Пескариком лежим на полу спальни. Стены голые. Матрасы продали. Все, что у нас есть, – наши чемоданы и те вещи, которые Мас погрузит в «шевроле».
И коробка с оригами из кучи на выброс. Мама, наверное, решила, что никто за это не заплатит.
Внутри у меня снова гудит. Электрический ток бежит под кожей. Если я не буду осторожен, то воспламеню ладонями всех бумажных созданий, просто потому что мне хочется что-то сжечь.
– Что это? – спрашивает Пескарик, приподнимаясь на локте.
– Это папино.
– Так что это?
– Не твое дело, – говорю я, и мне тут же становится стыдно. Обычно я на младшего брата не огрызаюсь, это работа Маса. – Извини, Пескарик.
Брат смотрит на меня, и, хотя он почти такой же мелкий, как Томми, он вдруг кажется старше своих четырнадцати. За последние две недели он побывал везде: рисовал груды багажа, портреты семей, ждущих автобуса, солдат и хакудзинов-фотографов, которых прислали власти, – кончики его пальцев черны от угля.
Пескарик всегда много рисовал, но в последнее время что-то в нем поменялось. Раньше он растворялся в пейзаже, сливался с окружающей средой. Теперь, когда он рисует, его невозможно не заметить. Он в гуще событий, и в нем какая-то новая ярость, словно, если он не поймает это мгновение, другого шанса не будет никогда.
Вот так мы живем теперь. Замечтался – а твои соседи исчезли. Отвернулся – и у тебя украли друзей. Моргнул – и тебя уже нет.
Я открываю коробку.
– Я всегда гадал, куда они деваются, – говорит Пескарик, поднимая бабочек и звезды повыше, чтобы они засияли на свету.
Похоже, Пескарик тоже замечал, что папа занимается оригами. Неудивительно. Пескарик много чего подмечает – потому-то он такой хороший художник.
– Нам отдать это Масу? – спрашивает брат. – Он наверняка найдет место в машине.
Я качаю головой.
– Мы можем понести коробку в руках. Не думаю, что кто-нибудь обратит внимание.
Но и такая идея мне не нравится. Я хочу сделать что-то хорошее с этими бумажками, за которые никто не заплатит. Я хочу изменить положение вещей – как папа изменял старые конверты, и корешки билетов, и пакеты из-под чипсов. Я хочу сделать то, что Ям-Ям сделала своей музыкой, что миссис Кацумото сделала своим благодарственным объявлением.