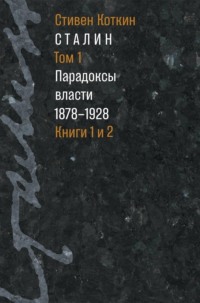Kitobni o'qish: «Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2», sahifa 20
Корнилов, которому в 1917 году исполнилось 47 лет, был низкорослым, худощавым и жилистым человеком с монголоидными чертами лица, но при этом у него имелось много общего с 39-летним Джугашвили-Сталиным – коренастым мужчиной среднего роста. Корнилов, как и он, был плебеем – в отличие от Ленина и Керенского, выходцев из мелкого дворянства, – и тоже родился на периферии империи, в данном случае в Усть-Каменогорске (Оскемене) на берегах Иртыша (притока Оби). Отец Корнилова был казаком, мать – крещеной алтайской калмычкой (калмыки представляли собой смесь тюркских, монгольских и прочих племен, покоренных монгольскими вождями); он был воспитан православным христианином среди кочевников-пастухов из казахских степей империи. Но если Сталин стремился подавить в себе грузина и слиться со своим русским окружением, то Корнилов, по крови наполовину русский, подчеркивал свои экзотические корни, окружив себя телохранителями-туркменами в красных халатах, носившими высокие меховые шапки и кривые сабли и по-туркменски называвшими своего господина Великим бояром (Корнилов бегло говорил на этом языке). Корнилов отличался от Сталина еще и тем, что обучался в российских военных училищах. Он тоже оказался блестящим учеником и после службы на границе с Афганистаном – откуда он водил экспедиции в Афганистан, китайский Туркестан и Персию – Корнилов окончил Академию Генерального штаба в Санкт-Петербурге. В 1903–1904 годах, когда Сталин неоднократно находился в кавказских тюрьмах и сибирской ссылке, Корнилов служил в Британской Индии, где под предлогом изучения языка он готовил проницательные разведывательные донесения о состоянии британских колониальных войск. Во время Русско-японской войны, когда Сталин поднимал на борьбу грузинские марганцевые рудники, Корнилов отличился в боях на просторах Маньчжурии, после чего занимал должность российского военного атташе в Китае (1907–1911). Там он снова активно исследовал страну, изъездив ее в седле, и познакомился с молодым китайским офицером Цзяном Цзеши, более известным как Чан Кайши, который впоследствии после провала конституционной революции объединил Китай и правил им около двадцати лет. Умный и отважный Корнилов казался вылепленным из того же теста, что и Чан Кайши. Во время Первой мировой войны Корнилов командовал пехотной дивизией и был повышен в чине до генерал-майора. В 1915 году, прикрывая отступление Брусилова, Корнилов попал в плен к австро-венграм, но в июле 1916 года ему удалось бежать и вернуться в Россию, за что он удостоился многих почестей и аудиенции у царя. «Он был всегда в первых рядах, – отмечал Брусилов, описывая поведение своего подчиненного на поле боя, – и благодаря этому снискал расположение у своих солдат, любивших его» 879.
Звезда Корнилова восходила одновременно с тем, как закатывалась звезда Керенского. Семья последнего была родом из Симбирска, из того же города в Центральной России, где жила и семья Ульяновых. «Я родился под тем же небом», что и Ленин, – писал Керенский. «С высокого берега Волги я видел те же бескрайние просторы». Отец Керенского был учителем в той же школе, где учились Ленин и его брат Александр, и даже недолгое время возглавлял ее; в свою очередь, отец Ленина был губернским школьным инспектором и знал Керенского-отца, который впоследствии увез свою семью в Ташкент 880. Но если Ленин собирался пойти по стопам отца и учился на юриста (в Казанском университете), намереваясь стать государственным служащим, хотя в итоге бросил учебу, то Керенский, который был на одиннадцать лет моложе Ленина, получил диплом юриста (в Санкт-Петербурге) и работал по специальности: в 1905 году, вступив в партию эсеров, он защищал в суде жертв царских репрессий. Керенский едва ли не единственный из членов Временного правительства не боялся масс. Он насаждал квазимонархический культ самого себя как «вождя народа», своего рода царя-гражданина. «В свои лучшие моменты он был способен передавать толпе сильнейший заряд нравственного электричества, – писал Виктор Чернов. – Он заставлял ее смеяться и плакать, падать на колени и воспарять к небесам, поскольку сам поддавался эмоциям момента» 881. Коленопреклоненные солдаты и прочие люди целовали одежду Керенского, плакали и молились 882. Керенский предпочитал одеваться в полувоенном стиле – как впоследствии привыкли одеваться и Троцкий со Сталиным, – но при этом он сравнивал себя не с Наполеоном, а с графом де Мирабо, популярным оратором, который во время Французской революции пытался держаться среднего пути. (После того как Мирабо в 1791 году умер от болезни, его тело первым захоронили в Пантеоне; однако в 1794 году его прах выбросили из могилы, которую отдали Жан-Полю Марату.) Но по мере того, как Россия погружалась в анархию, Керенский тоже начал говорить о необходимости «сильной власти». При нем Временное правительство начало посягать на гражданские свободы, а также освободило и взяло на службу многих арестованных должностных лиц царского Министерства внутренних дел, но «сильная власть» оставалась недостижимой 883. Отсюда и всплеск преклонения перед Корниловым. И в фокусе разговоров о «человеке на коне», о Наполеоне русской революции оказался спаситель-калмык 884. Но в итоге идея военной «контрреволюции» – отражавшая с одной стороны надежду, а с другой страх – оказалась более мощной, чем ее реальный потенциал.
Помощники Ленина
Фракция большевиков во главе с Лениным проявила себя в 1917 году как неорганизованная, но крепкая группа уличных бойцов 885. Как утверждали большевики, в их рядах к тому моменту состояло около 25 тысяч человек, что невозможно проверить, так как зачастую членство в большевистской партии не обставлялось формальностями, однако ядро наиболее активных большевиков насчитывало порядка тысячи человек, а верхушка партии (если эти люди не находились в изгнании или в тюрьме) могла разместиться вокруг одного стола. И все же после февральских событий большевизм стал в столице массовым явлением: на петроградских оружейных и машиностроительных заводах, тянувшихся по берегам Малой Невы, на гигантских Адмиралтейских верфях, на обширном Путиловском заводе, в районе Петрограда, известном как Выборгская сторона, где было сосредоточено большое количество промышленных рабочих, попавших под шквал большевистской агитации. Иными словами, радикальный настрой рабочих был связан с радикальной позицией Большевистской партии. В частности, Выборгский район, по сути, превратился в автономную большевистскую коммуну 886.
Штаб-квартира партии большевиков, где нашел прибежище и Сталин, первоначально находилась в «реквизированном» особняке в стиле модерн, с канделябрами на стенах и превосходными гаражами, идеально расположенном – не только поблизости от Выборгского района, но и прямо напротив Зимнего дворца. Это здание было отобрано у примы-балерины российского Императорского Мариинского театра польки Матильды Кшесинской, которая стала владелицей особняка благодаря своим любовникам – Николаю II (который состоял с ней в связи до своей свадьбы) и одновременно сменившим его двум великим князьям из Романовых 887. (Впоследствии Кшесинская утверждала, что видела в саду особняка большевичку Александру Коллонтай в ее, Кшесинской, горностаевой шубке, оставленной в доме 888.) Подобные захваты зданий были незаконными, но Временному правительству, у которого не было полиции, бороться с ними было затруднительно. Так, Федерация анархистов-коммунистов, вырвавшихся из тюрем, захватила бывшую виллу покойного Петра Дурново в красивом парке, примыкавшем к заводам на Выборгской стороне 889. Помимо Выборгского района, главным оплотом большевиков стал Балтийский флот, базировавшийся в Гельсингфорсе и Кронштадте (около Петербурга) и доступный для большевистских (а также анархо-синдикалистских) агитаторов. Там, куда не было доступа большевистским агитаторам – на украинских заводах, на Черноморском флоте, – массы, склонявшиеся к социализму, не отождествляли себя с их партией. На просторах российской деревни большевизм был слабо представлен на протяжении большей части 1917 года (из тысячи делегатов I Всероссийского съезда крестьянских депутатов большевиками числились около двадцати) 890. Наконец, в 1917 году по всей России насчитывалось не более дюжины-другой большевиков-мусульман 891. И все же в руках большевиков находились стратегические позиции – в столице, в столичном гарнизоне и на фронте поблизости от столицы.
Большевикам приходилось каким-то образом набирать очки, и это им вполне удавалось. В глазах тех, до кого доходило послание, неустанно распространяемое Сталиным и другими, большевизм располагал несравненными инструментами привлечения сторонников: абсолютной ненавистью к войне и таким универсальным объяснением, как эксплуатация имущим классом неимущего класса, которое получало такой отзвук, какой было невозможно себе представить в самых смелых мечтах. Вместе с тем война вовсе не обязательно вела к триумфу большевизма. Как мы увидим, Временное правительство не просто решило не выходить из войны, но и затеяло катастрофическое наступление в июне 1917 года 892. Это решение дало шанс самым радикальным элементам, и Ленин постарался, чтобы большевистская партия извлекла из него все, что можно.
Ленин, живя в изгнании в Цюрихе, где его пристанищем была комната рядом с колбасной фабрикой, призывал к поражению своей страны в войне, но эти призывы не имели для него никаких юридических последствий. Наоборот, на него распространялась всеобщая амнистия жертвам царизма, объявленная Временным правительством в марте 1917 года. Однако он не имел официального разрешения на возвращение и в любом случае был отрезан от России германскими траншеями 893. С тем чтобы вернуться на родину, он втихомолку обратился через посредников к германским властям, тем самым рискуя, что его объявят немецким агентом – что было катастрофическим обвинением, уже нанесшим смертельный удар по царскому самодержавию 894. Берлин, щедро раздававший деньги российским радикалам, особенно эсерам, с тем чтобы свергнуть Временное правительство и принудить Россию к выходу из войны на германских условиях, не устоял перед идеей оказать помощь и фанатичному вождю большевиков – известному ему как «татарин по фамилии Ленин» 895. Тем не менее обе стороны старались избежать обвинений в том, что Ленин служит врагам, и потому его переправили через Германию в Россию в так называемом пломбированном вагоне – иными словами, его вагон был заперт, а все контакты с германскими властями по пути следования осуществляли нейтральные швейцарские посредники. 27 марта 1917 года (по русскому календарю) из Цюриха в направлении на Берлин и далее на балтийское побережье отбыл поезд с тридцатью двумя русскими эмигрантами: девятнадцатью большевиками (в число которых входили Ленин, его жена Надежда Крупская, его бывшая любовница француженка Инесса Арманд, а также Зиновьев с женой и ребенком) и прочими радикалами 896. Такие социал-демократы, принадлежавшие к меньшевикам, как Мартов и Аксельрод, решили не идти на риск быть обвиненными в измене и не стали заключать сделку с немцами, не получив на нее согласия от Временного правительства (в итоге меньшевики отправились на следующем поезде) 897.
Единственное обязательство, которое взял на себя Ленин, заключалось в агитации за освобождение австрийских и немецких гражданских лиц, содержавшихся под стражей в России. Он без всякого зазрения совести воспользовался транспортными и финансовыми услугами со стороны немцев с тем, чтобы свергнуть власть в России, так как предполагал, что война приведет к революции и в Германии. Но Ленин не был немецким агентом и добивался достижения собственных целей 898. Ленин втянул большевиков в дискуссию о том, как им вести себя в том случае, если они будут задержаны на российской границе по приказу Временного правительства и допрошены, но эти опасения не материализовались 899. (Карлу Радеку, обладателю австро-венгерского паспорта, было отказано во въезде в Россию как подданному вражеского государства.) Встревоженный посол союзной России Франции, выслушав министра иностранных дел Милюкова – который мог бы не пустить Ленина в страну, – расценил прибытие вождя большевиков как новую радикальную угрозу 900. Однако Ленин не был арестован на петроградском Финляндском вокзале (расположенном в Выборгском районе – «большевистской коммуне»), куда он прибыл в 11.10 вечера 3 апреля 1917 года, на следующий день после пасхального воскресенья. Ленин взобрался на броневик, освещенный специально привезенными прожекторами, и обратился с речью к собравшемуся на вокзале скопищу рабочих, солдат и матросов, видевших его впервые в жизни.
На обширных просторах Российской империи мало кто слышал о Ленине 901. До многих из сотен тысяч сел и деревень даже известие о Февральской революции не дошло раньше апреля и весеннего таяния снегов. Возвращение Ленина, пришедшееся на 3 апреля, совпало с началом массового захвата земли в России – явления, не наблюдавшегося во время французской революции 1789 года. Накануне Первой мировой войны российским крестьянам принадлежало около 47 % земель империи, включая леса и луга; в течение сорока лет после отмены крепостного права крестьяне покупали землю у дворян – нередко коллективно (общиной), порой индивидуально, особенно после столыпинских реформ 1906 года 902. Но если дворянские землевладения примерно сравнялись своими размерами с крестьянскими, то крестьяне по-прежнему составляли 80 % населения, а дворяне – всего 2 % 903. Крестьяне жили надеждой на тотальное перераспределение земли, а царское правительство в годы войны лишь подхлестывало эти ожидания, конфисковав землю у этнических немцев, проживавших в Российской империи, и обещая раздать ее доблестным русским солдатам и безземельным крестьянам. В свою очередь, армейское начальство обещало бесплатную землю всем награжденным медалями, вследствие чего среди солдат пошли слухи о том, что после окончания войны все они получат землю 904. Всего царское правительство в годы войны конфисковало не менее 15 миллионов акров земельных угодий – включая и отобранное в обмен на минимальную или нулевую компенсацию у некоторых из наиболее продуктивных производителей зерна в империи, что внесло свой вклад в острую нехватку зерна в 1916 году и в хлебные бунты в 1917 году 905. И теперь крестьяне последовали примеру, захватывая пахотные земли, тягловый скот и сельскохозяйственные орудия в ходе так называемого черного передела. Временное правительство пыталось противодействовать этому, указывая, что следует дождаться созыва Учредительного собрания, которое примет решение о земельной реформе. Более того, даже когда захваты земли превратились в массовое явление и несмотря на то, что у Временного правительства никогда не было возможностей, чтобы предотвратить такие захваты или вернуть захваченные земли их прежним хозяевам, оно отказывалось соглашаться на безвозмездную экспроприацию земель крестьянами.
Многолетние колоссальные усилия крестьян, направленные на реализацию мечты Столыпина о появлении слоя независимых, зажиточных фермеров, хозяйствующих на крупных консолидированных земельных участках, в 1917–1918 годах буквально в одночасье пошли прахом в отсутствие какого-либо сопротивления; напротив, многие крестьяне специально уменьшали размеры своих владений 906. Даже небольшие консолидированные фермы подверглись переделу. Крестьянская община получила второе дыхание 907. В то же время крестьяне, совершая противозаконные деяния, оправдывали их ссылками на свои гражданские права 908. Главными объектами передела становились дворянские имения. Во многих случаях они пережили Первую мировую войну лишь благодаря возможности использовать труд 430 тысяч военнопленных, а согласно логике, к которой прибегали крестьяне после февраля 1917 года, в том случае, если трудиться в имении было некому и его земли не использовались, его захват был законным 909. Более того, во многих случаях захват земли не производился одним махом; вместо этого крестьяне заводили разговор об «избытке» земли у дворян и о том, чтобы распахать неиспользуемые земли, – и забирали себе все больше и больше. Но поскольку большинство земельных захватов осуществлялось коллективно, всей деревней, когда все делили ответственность и все участвовали в дележе добычи, вывезенной на телегах, уровень радикализма общины обычно диктовался наиболее радикальными из ее членов. А радикалы неизменно подзуживали односельчан к тому, чтобы присваивать себе все больше и больше чужого имущества и даже сжигать ценные усадебные дома. Жатки и веялки были слишком большими для того, чтобы увозить их, и их бросали, иногда разламывая. Что касается скота, то крестьяне нередко разводили огонь, забивали овец, гусей, уток и кур и устраивали пир 910. Но в конечном счете далеко не всем крестьянам удалось воплотить свои чаяния в жизнь: около половины крестьянских общин в результате революции вообще не получили новой земли, а значительную часть той земли, которая «досталась» крестьянам, они уже и так арендовали. По оценкам одного исследователя, около 11 % дворян-землевладельцев протянуло до 1920-х годов, обрабатывая остатки своих земель 911. И все же из этого следует, что подавляющее большинство земель подверглось экспроприации. Крестьяне перестали платить крупным землевладельцам и коллективно экспроприировали около 50 миллионов акров дворянских земель 912.
Одинокая фигура Ленина совершенно теряется на фоне этих грандиозных событий – настоящей крестьянской революции. И все же он сыграл в 1917 году ключевую роль. Марксистская теория утверждает, что общество развивается поэтапно, последовательно проходя через феодализм, капитализм и социализм к коммунизму, и потому к социализму оно может прийти лишь после того, как минует буржуазно-капиталистический этап. Почти все большевики полагали, что социалистическая революция неизбежна, но вопрос заключался в том, когда она произойдет: они яростно дискутировали о том, завершилась ли фаза «буржуазной» или «демократической» революции или же условия для социалистической революции еще не сложились. Ленин не говорил о немедленном скачке к социализму, что было бы святотатством, однако он призывал ускорить движение к социализму – как он выражался, встать «одной ногой в социализме» – и немедленно захватывать политическую власть, не дожидаясь завершения буржуазной революции 913.
В Петрограде русское Бюро большевиков – объединявшее тех, кто не находился в зарубежном изгнании подобно Ленину, – возглавляли 32-летний Александр Шляпников и 27-летний Вячеслав Молотов, которые (особенно Молотов) не придавали значения Временному правительству, считая его контрреволюционным. В свою очередь, Сталин и Каменев призывали к условной поддержке «демократической» революции, то есть Временного правительства, с тем чтобы демократическая революция пришла к своему логическому концу. Когда оба они 12 марта 1917 года вернулись из Сибири в Петроград, никого из них не пригласили в русское Бюро, хотя Сталина было предложено позвать туда с «совещательным голосом». (Ему ставили в вину наличие «некоторых личных черт», очевидно, имея в виду неблаговидные поступки по отношению к товарищам по сибирской ссылке 914.) На следующий день Молотов, подобно Ленину, с ранних лет и до конца жизни проявлявший себя человеком непреклонным, был оттеснен в сторону и Сталин стал полноправным членом русского Бюро, в то время как Каменев получил должность редактора «Правды» 915. При Каменеве и Сталине «Правда» немедленно перешла от абсолютного отрицания Временного правительства к его лицемерной поддержке, исходя из того, что оно обречено, но до тех пор призвано сыграть серьезную историческую роль. Ленин, еще не вернувшийся в Россию, пришел в ярость. Его первое возмущенное письмо было напечатано в «Правде» с поправками, искажавшими его суть, а второе и вовсе не попало на ее страницы 916. Но затем он лично явился в Петроград.
На границе Ленин приветствовал Каменева шутливым упреком: «Что у вас пишется в „Правде“?» 917. Даже сейчас главный большевистский орган не желал печатать тезисы своего вождя. 6 апреля 1917 года тезисы Ленина были решительно отвергнуты на заседании ЦК большевиков. В конце концов, буржуазно-демократическая революция только началась, страна нуждалась в земельной реформе, выходе из войны, экономической реформе, а каким образом ко всему этому могло привести свержение Временного правительства пролетариатом? (Как выразился один из большевиков, «Разве можно считать демократическую революцию закончившейся? Крестьяне не получили землю!» 918) В частности, Каменев настойчиво подчеркивал, что буржуазным классам в городах и более зажиточным крестьянам еще предстоит проделать большую историческую работу и довести буржуазно-демократическую революцию до завершения, тем самым подготовив почву для социалистической революции 919. Сталин расценивал ленинские тезисы как схему: «в них нет фактов, и потому они не удовлетворяют» 920. В конце концов «Правда» 7 апреля напечатала десять «Апрельских тезисов» (всего около пятисот слов) за подписью Ленина, но в сопровождении редакционного комментария, написанного Каменевым: получалось, что партия дистанцируется от своего вождя 921.
Если верхушка большевистской партии не была склонна к скорому захвату власти, то это в еще большей степени было верно применительно к Петроградскому совету. В конце марта, еще до возвращения Ленина в Россию, представители Совета создали новый орган – Всероссийский центральный исполнительный комитет в составе 72 человек, а также отделы по снабжению продовольствием, по экономике, по иностранным делам, тем самым стремясь распространить полномочия Петроградского совета на всю Россию. Кроме того, Совет обещал поддерживать «буржуазное» Временное правительство при соблюдении ряда условий (за это проголосовало около половины депутатов-большевиков) 922. 3 апреля на Финляндском вокзале в бывшей царской комнате Ленина от имени Петроградского совета приветствовал его председатель, грузинский меньшевик Николай (Карло) Чхеидзе. Оказавшись снаружи, Ленин осудил сотрудничество Петроградского совета с Временным правительством, завершил свое выступление словами «Да здравствует всемирная социалистическая революция!» и уехал на броневике в штаб-квартиру большевиков в особняке Кшесинской. Там, уже сильно за полночь, он выступил с «громоподобной» речью примерно перед семьюдесятью членами своей фракции, рассевшимися вокруг него на стульях 923. На следующий день, на заседании Петроградского совета в Таврическом дворце, он снова зачитал свои радикальные «Апрельские тезисы», утверждая, что жалкая российская буржуазия не способна выполнить свои исторические задачи, что вынуждало Россию к ускоренному переходу от буржуазно-демократической к пролетарско-социалистической революции 924. Один из большевиков, взяв слово, сравнил Ленина с анархистом Бакуниным (который ожесточенно полемизировал с Марксом). Другой оратор назвал тезисы Ленина «бредом сумасшедшего» 925. Если верить словам одного из друзей жены Ленина Надежды Крупской, знавшей его с 1894 года, даже она говорила: «Боюсь, что Ленин, похоже, сошел с ума», что, возможно, стало одной из причин, по которым он освободил ее от обязанностей своего главного секретаря 926. Еще один большевик полагал, что «после того, как Ленин ознакомится с состоянием дел в России, он сам откажется от этих своих построений» 927. Когда Ираклий Церетели, председатель Центрального исполнительного комитета Совета (и грузинский меньшевик), выступил с обоснованным опровержением взглядов Ленина и в то же время протянул ему ветвь мира – «как ни непримирим Владимир Ильич, но я уверен, что мы помиримся» – Ленин встал в ложе и крикнул: «Никогда!» 928.
Ленин неустанно обрабатывал свое ближайшее окружение, вместе с тем время от времени обращаясь с балкона особняка Кшесинской к собиравшимся возле дома толпам. В конце апреля 1917 года на большевистской партийной конференции большинством голосов были приняты резолюции Ленина, отчасти благодаря порой более радикальным провинциалам, которых вывели на передний план, а также прочим лоялистам, поддерживавшим своего вождя 929. Впрочем, несмотря на формальную политическую победу Ленина в конце апреля, верхушка большевиков оставалась расколотой по вопросу о том, следует ли стремиться к установлению советской власти в противоположность завершению буржуазно-демократической революции, а если следует, то когда к этому приступать. Ленин, продолжая настаивать на необходимости воспользоваться моментом, утверждал, что большевистский Центральный комитет отстает от масс. (В этом он оказался прав: мобилизация масс повлекла за собой и мобилизацию будущих элит, включая большевистское руководство 930.) В то же время Сталин, первоначально поддерживавший Каменева, превратился в важнейшего союзника Ленина.
Сталина несправедливо обвиняют в том, что он «пропустил» Октябрьскую революцию. Да, он действительно пропустил прибытие Ленина на Финляндский вокзал (возможно потому, что был на митинге, пытаясь переманить левых меньшевиков на сторону большевиков) 931. Кроме того, Сталин первоначально не принял еретических радикальных тезисов Ленина, оглашенных 3 апреля (за что он публично принес извинения в 1924 году) 932. Однако на конференции в конце апреля Сталин впервые в жизни выступил с официальным политическим отчетом перед большевистской аудиторией, порвал с Каменевым и встал на сторону Ленина. «Только единая партия может привести народ к победе», – писал Сталин об апрельской конференции в «Солдатской правде» 933. Впрочем, Сталин не стал униженно признавать свою вину: если Ленин выступал за национализацию земли, то Сталин требовал раздать землю крестьянам – что в итоге и было сделано 934. Кроме того, Сталин не был согласен с лозунгом Ленина о превращении «империалистической войны» в «европейскую гражданскую войну», полагая, что массы, помимо земли, хотят мира – и Ленин тоже стал призывать к немедленному заключению мира 935. Так Сталин ухитрился стать лояльным сторонником Ленина, защищая взгляды, которых он придерживался наряду с другими. Когда кандидатура Сталина в члены нового Центрального комитета партии в составе девяти человек подверглась критике со стороны кавказских товарищей, утверждавших, что они хорошо его знают, Ленин поручился за него. «Тов. Коба мы знаем очень много лет, – заявил Ленин делегатам с правом голоса. – Видали его в Кракове, где было наше Бюро. Важна его деятельность на Кавказе. Хороший работник во всяких ответственных работах» 936. На выборах в ЦК Сталин получил 97 голосов – больше было отдано только за Ленина и Зиновьева (и тому и другому вскоре пришлось уходить в подполье). Кроме того, Сталин сменил Каменева на посту редактора «Правды».
В качестве редактора и агитатора Сталин обнаружил талант очень понятными словами излагать сложные вопросы. Очевидно, он извинился перед Молотовым за то, что предал его в марте – «Ты был ближе всех к Ленину в начальной стадии» – а затем, воспользовавшись тем, что они жили одной коммуной, увел у Молотова подругу 937. Впрочем, вскоре Сталин перебрался на квартиру к Аллилуевым, забрав с собой все свои пожитки: пишущую машинку, а также книги и кое-какую одежду, упакованную в тот же плетеный чемодан, с которым он вернулся из Сибири. Дочери Аллилуева Наде исполнилось шестнадцать, и в конце лета 1917 года она вернулась в квартиру в преддверии нового школьного года. Сталин знал Аллилуевых с 1900 года (с тифлисских дней), а Надя родилась на следующий год. Он обращался с ней как с дочерью, читая ей, ее сестре Анне и их подругам рассказы Чехова («Хамелеон», «Душечка») 938. В устах Сталина, совершенно покорившего сердца девочек, скука, одиночество и отчаяние сибирской ссылки превращались в драматические истории о революционных подвигах. Девочки звали его Сосо, и он тоже называл их по прозвищам. Их мать, Ольга Аллилуева, относилась к Сталину с большой симпатией – не исключено, что у них был роман, – но ей не нравилось, что ее дочь-подросток влюбилась в 38-летнего вдовца 939. Надя могла вести себя вызывающе – в том числе и по отношению к Сталину, – но в то же время, как он заметил, она не пренебрегала домашними делами. Через десять месяцев он уже ухаживал за ней в открытую 940. Впрочем, все это было позже. Сейчас же Сталин превращался в протоаппаратчика и защитника ленинской линии. Впоследствии даже Троцкий признавал, что «в закулисной работе по подготовке фракции к голосованиям Сталин был очень ценен», снисходительно добавляя: «он умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов» 941.
Впрочем, наряду со Сталиным в том апреле заявила о себе другая фигура из ЦК: 32-летний Яков Свердлов, с которым Ленин наконец лично познакомился 7 апреля 1917 года и которому он тут же начал поручать различные дела, с которыми Свердлов умело справлялся. Свердлов, родившийся в 1885 году, худощавый человек с козлиной бородкой и в пенсне, вступил в ряды российских социал-демократов в 1902 году в Нижнем Новгороде и участвовал в событиях 1905 года, находясь на Урале. В 1917 году Свердлов в еще большей степени, чем Сталин, оставался совершенно закулисным персонажем. Он не был оратором, но в то же время у него был командирский бас и суровый взгляд. Ленин поставил его во главе маленького «секретариата», формально созданного на партийной конференции в апреле 1917 года 942. В 1906–1917 годах, когда Свердлов находился в царских тюрьмах и в сибирской ссылке, он проявил способность запоминать наизусть реальные имена, псевдонимы, местоположение и характеристики однопартийцев, рассеянных по ссылкам, не доверяя бумаге никаких предосудительных сведений. Кроме того, он дважды делил со Сталиным жилье (в Нарыме и Курейке), что приводило к острым личным конфликтам и определенному соперничеству между ними 943. Однако теперь они работали бок о бок. По сути, более молодой Свердлов давал Сталину своего рода уроки партийного строительства, в то время как выступления они оставили на долю ораторов – таких, как Зиновьев. В особняке Кшесинской насчитывалось менее полудюжины женщин, занятых конторским трудом, и потому координировать работу многочисленных партийных организаций приходилось Свердлову при содействии Сталина. Он принимал множество посетителей и, в свою очередь, посылал эмиссаров в большевистские комитеты в провинции, поручая им основывать местные периодические издания и привлекать новых членов и тем самым выказывая умение обращаться с провинциалами. Свердлов, одержимый мелочами, вникал решительно во все и в то же время ставил во главу угла конкретные действия. Разумеется, как и во всех политических движениях в 1917 году, в рядах большевиков царил бедлам. В условиях 1917 года организационная работа не была – и не могла быть – ориентирована на создание централизованной и тем более «тоталитарной» партии; ее цель заключалась в том, чтобы заставить большинство на собраниях партийных представителей в столице поддержать позицию Ленина. Иными словами, манипулируя правилами, доводами и предпочтениями, Свердлов демонстрировал своему помощнику Сталину, как организовать лояльную ленинскую фракцию 944.
Bepul matn qismi tugad.