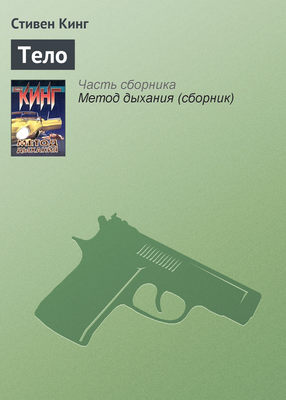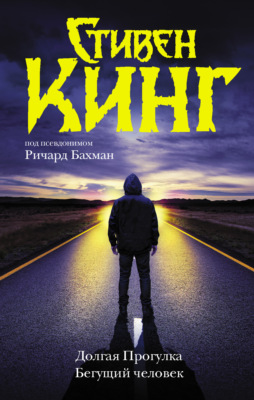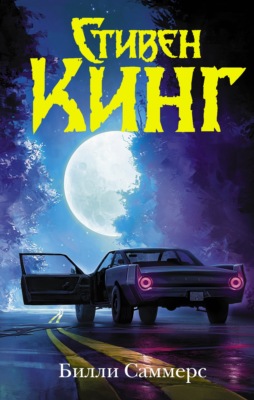Kitobni o'qish: «Четыре сезона», sahifa 2
– Ну что ж. Я вам скажу, что это такое и зачем мне это нужно. Геологический молоток похож на кирку в миниатюре – вот такой длины, – он развел руки сантиметров на тридцать, и тут я впервые обратил внимание на то, какие у него ухоженные ногти. – Один конец заострен, другой приплюснут. Молоток мне нужен потому, что я люблю камни.
– Камни? – переспросил я.
– Присядем, – предложил он.
Я отпустил какую-то шутку. Мы сели на корточки, точно два индейца.
Энди зачерпнул пригоршнями сухую землю и начал просеивать ее между ладоней тоненькой струйкой. В ладонях остались камешки, один-два блескучих, остальные обыкновенные матовые. Среди последних был кварц, он матовый, а когда его ототрешь от грязи, начинает излучать красивый молочный свет. Энди протер камешек и бросил его мне. Я назвал камень.
– Кварц, да, – кивнул он. – А вот, смотрите. Слюда. Сланец. Заиленный гранит. Весь этот холм, на котором выстроили тюрьму, состоит из обогащенных известняковых пород.
Он выбросил камешки и вытер руки от пыли.
– Я помешан на камнях… был помешан. В той жизни. Хочу приняться за старое, насколько это здесь возможно.
– Воскресные экспедиции в тюремный дворик? – улыбнулся я, вставая. Что и говорить, глупая затея… отчего же при виде этого кусочка кварца у меня вдруг екнуло сердце? Даже не знаю. Вольным воздухом повеяло, что ли. Такой камешек меньше всего ассоциируется с тюремным двором. Кварцу положено лежать на дне быстрой протоки.
– Лучше воскресная экспедиция в этот дворик, чем ничего, – возразил Энди.
– Таким молотком можно запросто проломить кому-нибудь череп, – заметил я ему.
– У меня нет врагов, – тихо сказал он.
– Вот как? – улыбнулся я. – Не все сразу.
– Если у меня возникнут осложнения, я постараюсь разобраться без молотка.
– А может, вы задумали побег? С помощью подкопа, а? В таком случае…
Он вежливо улыбнулся. Когда три недели спустя я увидел этот молоток своими глазами, я понял, почему Энди улыбался.
– Имейте в виду, – сказал я, – если молоток кто-нибудь увидит, у вас его сразу отберут. Да что там молоток – чайную ложку. И что же, вы сядете здесь на корточки и будете тюкать им у всех на виду?
– Постараюсь распорядиться им более толково.
Я молча кивнул. Это уже меня действительно не касалось. Мое дело – достать. А там пусть уж у него голова болит.
– Сколько такая штука может стоить? – поинтересовался я. Мне нравилась эта его спокойная манера вести дела. За десять лет посреднической деятельности я, честно говоря, устал от разных крикунов, балабонов и горлохватов. В общем, что скрывать: Энди мне сразу понравился.
– Восемь долларов в любой лавке, – сказал он, – но вы, я так понимаю, берете определенный процент…
– Десять процентов комиссионных. В данном случае чуть больше, так как вещь представляет опасность. Не подмажешь – не поедешь. Словом, десять долларов.
– По рукам.
Я улыбнулся, глядя ему в глаза:
– А у вас они есть?
– Есть, – спокойно ответил он.
О том, что у него было больше пятисот долларов, я узнал много позже. Он их пронес в тюрьму. Когда приезжего регистрируют в этом отеле, какой-нибудь сукин сын заставляет его раздвинуть ягодицы для углубленного исследования; поскольку углубляются обычно не очень далеко, то, не вдаваясь в подробности, замечу, что при большом желании в этом естественном тайнике можно пронести весьма крупные предметы – невооруженным глазом их не увидишь, разве что такому вот сукиному сыну не лень будет натянуть на руку резиновую перчатку.
– Отлично, – сказал я. – Теперь на случай, если вас засекут…
– Я знаю, – опередил он меня, и по его серым глазам было ясно, что все мои слова ему наперед известны. В подобные минуты в его глазах вдруг вспыхивала искорка, такая легкая насмешка.
– Если вас засекут, – продолжал я, – скажете, что нашли молоток. Коротко и ясно. Вас посадят в шизо на три-четыре недели и, разумеется, отберут игрушку, а в вашем досье появится малоприятная запись. Если вы назовете мое имя, впредь ко мне можете не обращаться. Даже за зубочисткой. А мне придется сказать кой-кому, чтобы вам пересчитали ребра. Я не сторонник насилия, но, надеюсь, вы меня поймете. Я не могу допустить разговоров, что кому-то это сошло с рук. Иначе мне придется поставить на себе крест.
– Я вас понимаю, можете не волноваться.
– Я не волнуюсь. Попав в это заведение, уже можно позволить себе не волноваться.
Он согласно кивнул и отошел. Через три дня, когда в прачечной был утренний перерыв, он оказался рядом со мной во дворе. Он не произнес ни слова, даже не посмотрел в мою сторону, просто вложил мне в руку бумажку с изображением преподобного Александра Гамильтона – как иллюзионист втирает в ладонь игральную карту. Энди был из тех, кто мгновенно приспосабливается к новым условиям. Я достал ему геологический молоток. Пока эта штука пролежала день в моей камере, я имел возможность убедиться в точности описания. С таким молотком побега не совершишь (понадобилось бы лет шестьсот, чтобы сделать подкоп под стеной), и все же мне было немного не по себе. Если этой штукой тюкнуть по темечку, боюсь, что человеку уже никогда не слушать передачу «Про Фиббера Макги и Молли». А к тому времени отношения у Энди с «сестричками» были уже натянутые. Оставалось только надеяться, что молотком он вооружился не против них.
В итоге я решил довериться своему первому впечатлению. На следующее утро, за двадцать минут до побудки, я незаметно передал молоток и пачку «Кэмела» Эрни, надежному человеку, который подметал коридор в пятом блоке до самого своего освобождения в пятьдесят шестом. Он в свою очередь молча опустил его в карман рабочего халата, и в следующий раз я увидел этот молоток через семь лет, когда от него мало что осталось.
В очередное воскресенье Энди снова подошел ко мне во дворе. Выглядел он, скажу прямо, неважно. Раздувшаяся нижняя губа больше напоминала сардельку, распухший правый глаз заплыл, щека была разодрана острым краем стиральной доски. Да, его отношения с «сестричками» далеко зашли, но об этом он ни словом не обмолвился.
– Спасибо за инструмент, – сказал он и тут же отошел.
Я с любопытством проводил его взглядом. Он сделал несколько шагов, увидел что-то под ногами, нагнулся, поднял. Это был небольшой камень. Тюремная роба вообще-то без карманов, они есть только на халатах в прачечной да еще у механиков на рабочей одежде. Но можно обходиться и без карманов. Камешек исчез у Энди в рукаве, только я его и видел. Ловкость, с какой он это проделал, восхитила меня… как и он сам. Невзирая на неприятности, он упрямо цеплялся за жизнь. Тысячи людей не могут так или не хотят, включая тех, кто находится на воле. И еще я заметил: хоть и выглядел он страшновато, руки у него были все такие же чистые и холеные, ногти ухоженные.
В течение следующих шести месяцев я видел его редко: львиную долю этого времени Энди провел в шизо.
Несколько слов о «сестричках».
В заведениях подобного рода их чаще зовут педрилами или гомосеками. С недавних пор вошло в моду словечко «пупсики». Но в тюрьме Шоушенк их всегда звали «сестричками». Уж не знаю почему, но суть дела от этого не меняется.
В наши дни мало кого удивишь тем, что за колючей проволокой процветает мужеложство, – ну разве что залетную пташку, имеющую несчастье быть юной и невинной, хорошенькой и безрассудной. Подобно обычному сексу, гомосексуализм существует в самых разных формах и видах. Есть мужчины, которые не могут прожить без секса, и они обращаются к другому мужчине, чтобы не сойти с ума. Обычно между собой договариваются двое исконных гетеросексуалов, хотя порой у меня возникают сомнения, останутся ли они таковыми, когда вернутся к своим женам и подружкам.
Некоторые «перестраиваются» в тюрьме. О последних говорят: «поголубел» или «свернул налево». Как правило, принадлежащие к этой категории играют роль невинных барышень, и их благосклонности добиваются отчаянно.
И, наконец, есть «сестрички».
Для тюремного общества они представляют такую же угрозу, как насильник для свободного общества. Обычно это ветераны отсидки с серьезными статьями за преступления, совершенные с особой жестокостью. Их добычей становятся молодые, неопытные и слабые… или, как в случае с Энди Дюфреном, тот, кто производит впечатление слабого. Нападают они обычно в душевых или в узком простенке за высокими стиральными машинами, иногда в лазарете. Случались изнасилования и в тесной кинобудке. То, чего «сестрички» добиваются силой, они могли бы при желании получить задаром: совращенные сами «сохнут» по какой-нибудь «сестричке», точь-в-точь как девочки-подростки – по Синатре, Пресли или Редфорду. Но «сестрички» ловят кайф, когда берут нахрапом, – так всегда было и, вероятно, будет.
Отнюдь не богатырский рост и приятная внешность Энди (а может, также его невозмутимость, приводившая меня в восхищение) послужили причинами того, что «сестрички» начали за ним охоту со дня его появления. Если бы это был святочный рассказ, я бы написал, что Энди дал им достойный отпор и они оставили его в покое. Я был бы рад написать это, но не могу. Тюрьма плохо вписывается в мир святочных рассказов.
Первый заход они сделали в душевой, на третий день его пребывания в нашем святом семействе. Насколько я понимаю, тогда дело ограничилось шлепками да щекоткой. Они всегда так: прежде чем приступить к решительным действиям, должны примериться – шакалам тоже сначала надо убедиться, что их жертва действительно слаба и едва стоит на ногах.
Энди начал отбиваться и разбил губу одной из «сестричек», здоровяку Богзу Даймонду, которого от нас вскоре куда-то перевели. Тут подоспела охрана и остановила драку, но Богз успел пообещать Энди Дюфрену неприятности. Свое обещание он сдержал.
Второй заход был сделан в прачечной. Чего только не происходило в этом тесном, заросшем пылью закутке! Охрана предпочитает закрывать на все глаза. Здесь полутемно, на полу валяются узлы с грязным бельем, пачки отбеливателя, коробочки с порошком-катализатором – безвредным, как соль, при попадании на сухие руки и опасным, как кислота, при реакции с водой. Охрана предпочитает сюда не заглядывать. Здесь нет пространства для маневра, и первое, чему учат в этом заведении, – избегать столкновения с зэками в тех местах, где некуда отступать.
В тот день обошлось без Богза, зато были четверо его дружков – знаю это от Хенли Бакуса, который с двадцать второго года поставлен в прачечной за старшего. Поначалу Энди держал их на расстоянии под угрозой ослепить – в руке у него был совок с порошком-катализатором, но, отступая, он споткнулся о железный штырь и упал. На этом его сопротивление закончилось.
Смысл выражения «групповое изнасилование» вряд ли особо изменился за столетия. Именно это четверо «сестричек» с ним и проделали. Они перегнули его через редуктор, и один из них приставил к виску отвертку, пока трое других занимались делом. После этого случаются разрывы, но это еще терпимо. Вы спрашиваете, говорю ли я об этом, исходя из личного опыта? Увы, да. Какое-то время приходится бороться с кровотечением. Если ты не хочешь, чтобы какой-то клоун поинтересовался, не начались ли у тебя месячные, лучше подложить сзади в трусы комок туалетной бумаги. Кровотечение и в самом деле чем-то напоминает месячные: продолжается два-три дня. А потом заканчивается. Никаких последствий… разве что с тобой проделали кое-что похуже. Никаких физических последствий, но изнасилование остается изнасилованием, и в какой-то момент, глядя в зеркало, ты спрашиваешь себя, кем ты стал.
Энди воевал со всей этой командой в одиночку – он привык все делать в одиночку. Видимо, он сразу осознал то, что до него осознавали другие: с «сестричками» возможны две тактики – дать бой и в конце концов сдаться или сдаться без борьбы.
Он решил дать бой. Через неделю Богз с двумя приятелями снова загнали его в угол.
– Я слышал, тебе сломали целку, – сказал ему Богз. Это передал мне Эрни, оказавшийся неподалеку.
Энди снова не дался без боя. Он сломал нос Pycтepy Макбрайду, крепышу фермеру, севшему за то, что до смерти избил свою падчерицу. Приятно, по крайней мере, сообщить, что Рустер загнулся в тюремных стенах.
Они надругались над ним, все трое. А затем Рустер и второй придурок – кажется, это был Пит Вернесс, но могу ошибиться – поставили Энди на колени. Богз Даймонд раскрыл лезвие бритвы с перламутровой ручкой и сказал:
– Сейчас я расстегну ширинку, и ты, дружище, кое-что возьмешь в рот. Отсосешь у меня, а после у Рустера. За сломанный нос надо платить.
На что Энди ответил:
– Если вы хотите кой-чего лишиться – валяйте.
По словам Эрни, Богз посмотрел на Энди как на сумасшедшего.
– Ты меня не понял, – сказал он, выделяя каждое слово, точно перед ним был пятилетний ребенок. – Вот эти восемь дюймов стали прошьют тебя от уха до уха. Я, кажется, ясно выражаюсь?
– Да, я понял тебя, а вот ты, боюсь, меня не понял. Ты, конечно, можешь проткнуть меня от уха до уха, но при этом тебе не мешало бы знать: серьезное повреждение мозга вызывает у человека непроизвольное сокращение мышц… в том числе жевательных.
На губах у Энди заиграла его улыбочка. По словам старины Эрни, он разговаривал с ними так, словно обсуждались биржевые акции. Словно он вышел погулять при параде, а не стоит на коленях в чулане на грязном полу, со спущенными штанами и стекающей по ногам кровью.
– Скажу больше, – продолжал Энди, – это рефлекторное смыкание челюстей, как я понимаю, бывает таким сильным, что приходится разжимать покойнику зубы рукоятью ножа или стамеской.
Ни тогда, в конце февраля сорок восьмого, ни потом, насколько мне известно, никто не принудил Энди к этому. Зато избили его тогда до полусмерти, и все четверо заработали шизо. Энди и Рустер Макбрайд попали туда уже после лазарета.
Сколько еще раз эта команда накрывала его? Трудно сказать. У Рустера, кажется, сразу пропала охота: сломанный нос помогает остудить любовный пыл, а Богза Даймонда летом неожиданно убрали от нас.
Это была загадочная история. Однажды в начале июня, после того как Богз не появился на утренней перекличке, его нашли в камере здорово помятым. Он не сказал, кто это сделал и как вообще к нему проникли, но мне ли не знать, что за мзду тюремщик все устроит… кроме оружия. Заработок у них сами знаете какой, а всяких там видеоглаз, общих пультов и электронных замков в те времена не было, каждая камера запиралась своим ключом. Подмазал тюремщика, и двери перед тобой открылись.
Разумеется, это стоит денег по здешним понятиям. Тюремный бизнес не отличается особым размахом. В этом заведении долларовая бумажка значит не меньше, чем двадцать на воле. По моим прикидкам, чтобы отделать Богза, кто-то выложил приличные денежки – ну, скажем, пятнадцать ключнику и по две-три монеты каждому костолому.
Я не утверждаю, что это был Энди Дюфрен, но что он имел при себе пятьсот долларов – факт, и что в той жизни он был банкиром – тоже факт, а человек его профессии лучше, чем любой из нас, понимает механизм превращения денег в реальную власть.
И еще я знаю: после той экзекуции – три сломанных ребра, кровоподтек под глазом, отбитые почки и вывихнутый тазобедренный сустав – Богз Даймонд оставил Энди в покое. И не только его – всех. Богз сделался безопасен, как летний бриз. По здешней терминологии, превратился в «слабую сестричку».
Так было покончено с Богзом Даймондом, человеком, который рано или поздно мог прикончить Энди, не прими тот ответные меры (если это был действительно он). С Богзом Даймондом было покончено, но не с «сестричками» вообще. После короткого затишья они снова стали напоминать о себе, правда, уже без прежней настырности – шакалы предпочитают легкую добычу, а им здесь было кем поживиться помимо Энди Дюфрена.
Он всегда давал отпор. Я думаю, он понимал: стоит разок уступить им без боя, и их уже не остановишь. Так что время от времени он появлялся с фингалом под глазом, а однажды ему даже сломали два пальца. В сорок девятом, ближе к зиме, его положили в лазарет с перебитой скуловой костью – вероятно, после удара монтировкой, обернутой куском фланели. Он тоже не давал спуску, так что в одиночке он был частым гостем. Но это его, кажется, не удручало так, как некоторых. Он не скучал с самим собой.
В общем, с «сестричками» он мало-помалу разобрался; в пятидесятом они от него практически отстали. К этому я еще вернусь.
Однажды утром осенью сорок восьмого Энди подошел ко мне во дворе и спросил, не достану ли я ему полдюжины шкурок.
– Это что за штуки? – поинтересовался я.
Он объяснил, что так любители камней называют ткань для полировки размером с салфетку: одна сторона гладкая, а другая грубая, вроде наждачной бумаги. Таких салфеток у него уже была целая коробка, но добыл он их без моей помощи – наверно, в прачечной притырил.
Я ответил, что заказ принят, и вскоре получил необходимое все в той же лавке, где раздобыл геологический молоток. В этот раз я взял с Энди обычный комиссионный сбор, десять процентов, и ни цента больше. Какую опасность могли представлять салфетки размером семь на семь? Одно слово – шкурки.
А еще через пять месяцев Энди попросил достать ему Риту Хэйворт. Разговор состоялся в кинозале во время сеанса. Это сейчас фильмы крутят раз в неделю, а то и два, а тогда мы смотрели один фильм в месяц. Картины были, как правило, высокоморальные, и эта – «Потерянный уик-энд» – не составила исключения. В данном случае мораль такая: пить – вредно. Мы, собственно, были уже готовы к усвоению этой нехитрой морали.
Энди пробрался ко мне и в самый разгар просмотра, чуть подавшись в мою сторону, спросил, могу ли я ему достать Риту Хэйворт. Скажу вам правду, меня даже разобрало. Всегда такой невозмутимый, спокойный, владеющий собой, а тут весь как на иголках, глаза в пол, будто он попросил у меня запас презервативов или одно из тех изящных приспособлений, что должны «скрасить ваше одиночество», как пишут в журнальной рекламе. Казалось, он вот-вот лопнет, как котел от перегретого пара.
– Достану, – сказал я. – Достану, не дергайся. Тебе какую, большую или маленькую?
В те годы Рита была моим кумиром (а еще раньше – Бетти Грэйбл). Печатали ее в двух форматах. Маленькая Рита стоила доллар. Большая Рита – метр двадцать, в полный рост – два с полтиной.
– Большую, – он избегал моего взгляда. Говорю же, в тот вечер он был прямо наэлектризован. Щеки горели, как у пацана, пытающегося пролезть на секс-шоу с помощью призывной повестки старшего брата. – Сможешь?
– Смогу, успокойся. Своя рука владыка.
В зале захлопали, засвистели: на экране показывали, как полчища клопов выползают из-под обоев, чтобы искусать лежащего в белой горячке Рэя Милларда.
– Когда?
– Через неделю. Может, раньше.
– Хорошо, – произнес он тоном, выдававшим разочарование. Уж не думал ли он, что я прячу фотоплакаты в брюках? – Сколько?
Я назвал магазинную цену. Я мог себе позволить один раз не брать с него комиссионных: хорошему покупателю можно пойти навстречу. И вообще он показал себя молодцом – следя за тем, как разворачиваются его отношения с Богзом и компанией, я не раз задавался вопросом, когда же он наконец воспользуется своим молотком, чтобы проломить кому-то голову.
Плакаты – важная статья моих доходов, уступающая только спиртному и сигаретам и даже несколько опережающая самокрутки с травкой. В шестидесятых этот бизнес резко пошел в гору, все вдруг загорелись желанием вывесить «балдежные картинки» Джими Хендрикса, Боба Дилана, рекламный плакат фильма «Беспечный ездок». Но все же главный спрос – девочки: так сказать парад-алле красоток.
Спустя несколько дней после нашего разговора шофер прачечной, с которым я тогда вел дела, завез целую партию плакатов, в основном Риты Хэйворт. Помните этот портрет? Рита, по-пляжному одетая (или, лучше сказать, раздетая), одна рука за голову, глаза полуприкрыты, слегка выпяченные сочные губки раздвинуты. Такой смотрела на вас с плаката Рита Хэйворт. Его можно было назвать «Женщина под знойным солнцем».
Вас интересует, знала ли администрация о подпольном бизнесе? А то нет. Да они знают мой ассортимент лучше, чем я сам. Они глядят на все сквозь пальцы только потому, что знают: тюрьма – тот же паровой котел, из которого надо постоянно выпускать пар. Надо быть готовым к тому, что тебя могут посадить в карцер, и раза три меня сажали, но когда речь идет о плакатиках, начальство обычно закрывает глаза. По принципу «живи сам и не мешай другому». И когда в чьей-то камере вдруг появлялась Рита Хэйворт, начальство делало вид, будто плакат пришел в посылке от родственников или друзей. Разумеется, все посылки вскрываются и их содержимое описывается, но кому придет в голову из-за какой-то Риты Хэйворт или Авы Гарднер сверять описи вложений? Работая в заведении, напоминающем паровой котел, поневоле научишься соблюдать названный принцип, если не хочешь, чтобы тебе прорезали еще один рот поверх адамова яблока. Уступка за уступку.
Все тот же Эрни отнес плакат Энди – из шестой камеры в четырнадцатую. И он же принес мне от него записку, в которой аккуратным почерком было выведено одно-единственное слово «спасибо».
Через пару дней, когда нас всех выстроили перед утренней жратвой, я мимоходом заглянул к нему в камеру и убедился, что Рита красуется над его койкой во всем своем пляжном великолепии. Она висела так, чтобы он мог на нее смотреть ночами, после того как выключали электричество и только свет газовых фонарей пробивался со двора. При ярком же свете утра на лицо Риты падала решетчатая тень от тюремного оконца.
А сейчас я вам расскажу о событиях середины мая пятидесятого, положивших конец трехлетней войне Энди с «сестричками». Они позволили ему перебраться из прачечной в библиотеку, где он и проработал до недавнего времени, пока не пришла пора распрощаться с нашей дружной семьей.
Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что многое в моем повествовании основывается на слухах – кто-то что-то увидел, сказал мне, а я вам. Да, для простоты я действительно пользуюсь (и впредь буду пользоваться) информацией из вторых и даже третьих рук. Тюрьма есть тюрьма. Здесь один из главных принципов – О-Тэ-Эс – «один тип сказал», и, если хочешь быть всегда в курсе, живи по этому принципу. Ну и, конечно, учись отделять зерна истины от плевел лжи, сплетен и красивых сказок.
У вас, вероятно, складывается также впечатление, что я излагаю не столько конкретную биографию, сколько легенду; в этом, признаюсь, есть большая доля правды. Для нас, старожилов, знавших Энди не один год, он – человек, окруженный ореолом таинственности, существо, я бы сказал, полумифическое. История о том, как он не отсосал самому Богзу Даймонду, – часть этого мифа, так же как его война с «сестричками» или обстоятельства, при которых он получил место библиотекаря. Особенность последней истории заключается в том, что она случилась на моих глазах, и ее подлинность я готов подтвердить под присягой. Я понимаю, присяга осужденного за убийство немногого стоит, но можете поверить мне на слово: это чистая правда.
К тому времени мы с Энди сошлись довольно близко. Помните эпизод с фотоплакатом? Я, кажется, упустил один момент, а он небезынтересен. Через месяц с лишним после того, как он повесил Риту над своей шконкой (я уже успел забыть о ней, других дел хватало), Эрни просунул сквозь зарешеченное оконце моей камеры белую коробочку.
– От Дюфрена, – шепотом сказал он, не переставая махать метлой.
– Спасибо, Эрни, – с этими словами я опустил ему в руку полпачки «Кэмела».
Разворачивая обертку, я гадал, что бы это могло быть. В коробочке обнаружился слой ваты, а под ватой…
Я смотрел, не в силах оторваться. К такой красоте даже страшно было прикоснуться. В нашей серой жизни о красивых вещах можно только мечтать, и, что самое грустное, многие зэки о них даже не мечтают.
В коробочке лежали два великолепно отшлифованных кусочка кварца. Вкрапления железистого пирита посверкивали, как крупицы золота. Будь камни полегче, из них вышли бы отличные запонки – смотрелись они как парные.
Сколько в них было вложено труда? Могу сказать: многие часы после отбоя. Сначала надо их обтесать и огранить, а затем без устали шлифовать и полировать той самой шкуркой. Глядя на камни, я испытывал в душе странное тепло – кому не знакомо это ощущение перед прекрасной рукотворной вещью? Не этим ли мы отличаемся от животных? Было, сознаюсь, еще одно. Чувство благоговения перед человеческим упорством. Но только много лет спустя я в полной мере оценил, как далеко простиралось упорство Энди Дюфрена.
В мае пятидесятого начальство решило, что хорошо бы заново просмолить крышу мастерских по изготовлению номерных знаков. Они хотели завершить работы до начала жарких месяцев, то есть уложиться в неделю. Кликнули добровольцев. Сразу вызвалось человек семьдесят, если не больше: работа как-никак на воздухе, май месяц. Пришлось тянуть жребий – среди десятка счастливчиков оказались мы с Энди.
И вот начались наши прогулки после завтрака… в компании с охраной: двое спереди, двое сзади, да еще с вышек в полевые бинокли поглядывают.
Четверо работяг несли длинную складную лестницу (я всякий раз ловил кайф, когда Дики Бетс называл ее «растяжкой»), которую мы приставляли к стене приземистого здания. И начинали передавать по цепочке наверх ведра с расплавленной смолой. Не дай бог брызнет, петушком будешь прыгать до самого лазарета.
Приставили к нам шестерых охранников из старослужащих. Для них это было чем-то вроде отпуска: вместо того чтобы париться в прачечной или в мастерских или, скажем, стоять над душой заключенного, пока он чистит гнилую картошку, можно загорать себе под весенним солнышком, привалившись спиной к ограде и смоля чинарик с дружками-приятелями.
Поглядывали они за нами вполглаза – южная вышка была так близко, что при желании часовые могли сплевывать жвачку прямо нам на головы. Одно подозрительное движение – и тебя прошьет из пулемета 45-го калибра. Словом, охраннички кайфовали. Им бы еще пивка пару коробок, и каждый чувствовал бы себя господом богом.
Одного из охранников звали Байрон Хэдли, он провел в Шоушенке больше времени, чем я. Больше, чем двое его дружков вместе взятые. Во главе нашей шарашки тогда был Джордж Данэхи, такой чопорный мрачноватый янки. Он получил степень за разработку карательных мер в отечественных тюрьмах. Ни у кого, кроме тех, кто его назначил на это место, он не вызывал особых симпатий. Поговаривали, что его интересуют три вещи: сбор статистических данных для книги (напечатал он ее потом в небольшом издательстве «Лайт сайд пресс» и, скорее всего, за собственные денежки), финал внутритюремного чемпионата по бейсболу, который разыгрывался в сентябре, и принятие закона о смертной казни в штате Мэн. За смертную казнь он стоял насмерть. В пятьдесят третьем, когда выяснилось, что вместе с Байроном Хэдли и Грегом Стаммасом он хапал неплохие бабки за ремонт «левых» машин при нашем гараже, Джорджа Данэхи турнули. Хэдли и Стаммас вышли сухими из воды – это были мастера отмазываться, – а вот Данэхи пришлось исчезнуть. Никто по этому поводу слез не лил, однако известие о назначении на его место Грега Стаммаса тоже никого в восторг не привело. Он был весь как резиновая дубинка, с совершенно холодным взглядом карих глаз. На губах блуждала вымученная улыбочка, как будто он только что из сортира, где у него ничего не вышло. При Стаммасе порядки в тюрьме стали особенно жестокими, и, хотя у меня нет доказательств, я подозреваю, что в лесочке за тюрьмой под покровом ночи закопали не одного заключенного. Если Данэхи был не подарок, то Грег Стаммас оказался просто зверем.
Он и Байрон Хэдли были корешами. Джордж Данэхи на самом деле был подставной фигурой, всем заправлял Стаммас не без помощи Хэдли.
Хэдли был рослый детина с редеющими рыжими волосами и шаркающей походкой. Он отдавал команды зычным голосом, и стоило кому-то замешкаться, как на него обрушивалась дубинка. В тот третий день нашей работы на крыше он разглагольствовал перед охранником Мертом Энтуислом.
Хэдли получил замечательное известие и теперь ныл по этому поводу. Такой он был человек, черствый и неблагодарный, весь мир, считал он, против него в сговоре. Мир украл у него лучшие годы жизни и будет счастлив украсть оставшиеся. Всяких я повидал на своем веку тюремщиков, даже, можно сказать, святых – это я о тех, кто способен видеть разницу между своей жизнью, пусть жалкой и беспросветной, и жизнью других, над которыми государство поставило их надсмотрщиками. Эти тюремщики понимают, что боль – она тоже бывает разной. Остальные же или не понимают, или не хотят понимать.
Байрон Хэдли на этот счет не заморачивался. Он был способен, развалясь на майском солнышке, исходить желчью, кляня привалившую ему удачу, а рядом, в трех метрах от него, работяги корячились с тяжеленными ведрами, до краев наполненными кипящей смолой, обжигая себе ладони и считая, что против обычной маеты это еще отдых. Тут можно вспомнить известный тест, позволяющий определить твое отношение к жизни. Так вот, на этот тест у Байрона Хэдли был один ответ: «полупустой». То есть стакан, наполненный до половины, для него всегда был полупустой. Ныне и присно, аминь. Ему дашь прохладный яблочный сидр – он скажет: уксус! Ему позавидуют, что жена всю жизнь ему верна, – он хмыкнет: да кому она нужна, уродина!
В общем, сидели они, а Хэдли разглагольствовал, да так, что нам все было слышно. Лоб у него успел сгореть на солнце. Одну руку он положил на ограждение, которым была обнесена крыша, другую – на рукоять револьвера 38-го калибра.
Так что мы вместе с Мертом Энтуислом узнали его историю. Когда-то старший брат Хэдли сбежал в Техас, и четырнадцать лет от этого сукиного сына не было ни слуху ни духу. Решив, что он окочурился, все благополучно вздохнули. И вдруг десять дней назад им позвонил из Остина адвокат. Оказалось, брат Хэдли умер уже как четыре месяца и не бедным человеком. («Везет же всяким придуркам!» – заметил младший брат покойного, олицетворение благодарности.) Разбогател он на операциях с нефтью, сколотив состояние почти в миллион долларов.
Нет, Хэдли не стал миллионером – такое могло бы даже его сделать счастливым, хотя бы на время, – однако брат завещал кругленькую сумму в тридцать пять тысяч каждому члену семьи в штате Мэн, сколько их там ни окажется на данный момент. Поди плохо. Вроде как на тотализаторе подфартило.
Но, как сказано, для Байрона Хэдли стакан был всегда полупустой. Битый час он плакался Мерту, что федеральные власти захапают львиную долю обрушившегося на него золотого дождя.
– Останется, дай бог, на машину, – сокрушался он, – а дальше? Налоги, страховка, ремонт, бензин, и эти замучают: «Папочка прокати! Папочка, давай опустим верх!»