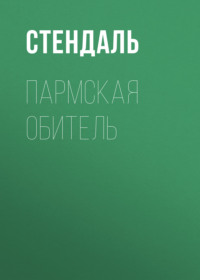Kitobni o'qish: «Пармская обитель»
Предисловие автора
Повесть эта написана зимой 1830 года, в трехстах лье от Парижа; поэтому в ней и нет ни единого намека на события текущего, 1839 года.
За много лет до того, в те времена, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, очаровательном итальянском городе. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями.
В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой; они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника велел принести из кофейни Педроти превосходного zambaione1. Засиделись мы главным образом из-за того, что слушали историю герцогини Сансеверина: кто-то из гостей упомянул о ней, а хозяин ради меня рассказал ее всю полностью.
– В той стране, куда я еду, – сказал я своим друзьям, – не найти такого общества, как у вас, и, чтобы скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть.
– В таком случае, – сказал племянник каноника, – я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при пармском дворе, происходивших в те времена, когда там полновластно царила герцогиня. Но берегитесь! Эту историю трудно назвать назидательной, и теперь, когда у вас во Франции мода на евангельскую непорочность, она может создать вам славу настоящего убийцы.
Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.
Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня – итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодушны и небоязливы, говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь временами, но тогда оно становится страстью, именуемой puntiglio2. И, наконец, они не смеются над бедностью.
Вторая неприятность касается автора.
Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров, но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем наделять их высокой нравственностью и обаятельными качествами наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, являются почти полной их противоположностью. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.
23 января 1839 года.
Часть первая
I
Милан в 1796 году
15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая перешла через мост у Лоди, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, свидетельницей которых стала Италия, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, – так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходившая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.
В средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины. А став верноподданными, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе постоянного поклонника, – иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные нежданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года целый народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия» и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, – совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозою, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.
В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, которые охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Свобода нравов достигла крайних пределов, но страсти были явлением редким. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом гибели даже в здешнем, земном мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии, мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом – торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.
В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. Художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови рекой потекла пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем неизвестно в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь с него сделали гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.
В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.
Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался в армии самым старым человеком. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы – изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы; недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший играть на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены; зато итальянки научили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.
Офицеров по возможности расквартировали по богатым домам: им очень нужен был отдых. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, человек молодой и довольно бойкого нрава, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще эта часть одежды так кстати не приходилась человеку. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расползлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также подобранной на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были привязаны к башмакам весьма заметными веревочками, и когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откушать с маркизой дель Донго, бедняга до смерти смутился. Вместе со своим вестовым он провел два часа, остававшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец страшная минута настала.
«Еще никогда в жизни я не был так смущен, – говорил мне лейтенант Робер. – Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, – добавил он, – была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела «Иродиада» Леонардо да Винчи, – казалось, это был ее портрет. По счастью, эта сверхъестественная красота так поразила меня, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.
Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в крепкие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза в тот день – для храбрости, как она сто раз мне потом объясняла, – взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго; впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни испытаний.
Джине было тогда лет тринадцать, а на вид – все восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпение и досаду. Словом, я был в глупейшем положении: я должен был сносить презрительные взгляды – вещь для француза невозможная. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за два года в генуэзских горах, где нас держали старые дураки генералы. Там давали нам, говорил я, три унции хлеба в день, а жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не проговорил я и двух минут, как у доброй маркизы уже заблестели на глазах слезы, и Джина тоже стала серьезной.
– Как, господин лейтенант? – переспросила она. – Три унции хлеба?
– Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не выдавали, и так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.
Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, свое единственное шестифранковое экю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.
Неделю спустя, – продолжал свой рассказ лейтенант Робер, – когда стало совершенно ясно, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо, из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равна его трусости, то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».
История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих храбрецов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.
Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого соображения: этот народ скучал целое столетие.
Некогда при дворе Висконти и Сфорца, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.
С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвение всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старые нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.
Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции на нужды французской армии.
Маркиз дель Донго, раздраженный картиной такого ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. В былые времена замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, большую часть которого можно видеть из окон. Это был родовой замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; там сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда, уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотою в восемьдесят футов и толщиною в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью – тридцатью лакеями, которых считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их бранью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.
Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.
Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали casa del Dongo4, как говорят в Италии, и стараться уменьшить их, что вынуждало ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также с лицами незнатными, но весьма влиятельными. Между тем в семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и родовитого, но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок – вышла замуж за графа Пьетранеру. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был суб-лейтенантом Итальянского легиона, что усугубляло негодование маркиза.
Прошло два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория, стараясь придать себе вид прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бездарные генералы, поставленные ею во главе Итальянской армии, проигрывали битву за битвой на тех самых веронских равнинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонато. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией на простой телеге.
Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев), потому что, на их счастье, этот возврат к мракобесию действительно продлился только тринадцать месяцев – до сражения при Маренго. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамелюками – участь, заслуженная им по многим причинам.
Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз дель Донго. Крайне реакционные взгляды маркиза, вполне естественно, поставили его во главе его партии. Члены этой партии, люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Этот генерал, человек довольно благодушный, поддавшись их уговорам, решил, что суровость – самая искусная политика, и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии.
Вскоре их сослали в бухты Каттаро, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное, голод быстро расправились с этими «негодяями».
Маркиз дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаредность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетранера: она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, вместе с ним умирала с голоду во Франции. Добрая маркиза дель Донго была в отчаянии; наконец ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который супруг отбирал у нее каждый вечер и запирал в кованый сундук, стоявший под его кроватью; маркиза принесла мужу в приданое восемьсот тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы восемьдесят франков. Все тринадцать месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги.
Признаемся, что, по примеру многих серьезных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге не кто иной, как Фабрицио Вальсерра marchesino5 дель Донго, как говорят в Милане. Он дал себе труд родиться как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном г-на маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового состояния дель Донго являлся старший сын маркиза, Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио – два года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, неожиданно перешел Сенбернарский перевал и вступил в Милан – еще один исключительный момент в истории: вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Опьянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести: этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие в бухтах Каттаро патриоты; возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, исхудалые узники, с большими удивленными глазами, представляли собою разительный контраст с ликованием, гремевшим вокруг них. Для наиболее скомпрометированных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркиз дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после Маренго стали устраивать в Casa Tanzi. Через несколько дней после победы французский генерал, на которого была возложена обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе при Маренго, изменившей судьбу Италии и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей: все поглощены пророчеством святого Джовиты, главного покровителя города Брешии. Это вдохновенное прорицание гласило, что благоденствию Наполеона и французов настанет конец ровно через тринадцать недель после Маренго. В оправдание маркиза дель Донго и других злобствовавших владельцев поместий надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через тринадцать недель, но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва плохо поняли предсказание святого покровителя Брешии; речь шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало.
Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта, среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и не учился ничему, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являвшемуся шедевром художников XVII века, – это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, неизменно разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась юному Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа позволение съездить в Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки; деньгами ее ссужала невестка, добрая графиня Пьетранера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения, вице-короля Италии.
Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольном изгнании, позволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умненький мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность; она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в учении и получит к концу года награды. Вероятно, для того, чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии, были, однако, изгнаны из страны по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всесильной придворной дамой. Он не подумал жаловаться на отлучки Фабрицио, и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетранера в сопровождении своего супруга, дивизионного гвардейского генерала, и пяти-шести сановных особ из свиты вице-короля посетила коллегию иезуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства.
Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарские офицеры, и он в двенадцать лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная изяществом своего племянника, попросила принца назначить его пажем, что означало бы примирение семейства дель Донго с новой властью. На следующий день графине понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости – согласия отца будущего пажа, но в согласии, несомненно, было бы отказано, и очень бурно. Выходка сестры всполошила фрондирующего маркиза дель Донго, и он под благовидным предлогом вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, прося прислать к ней племянника; письмо ее осталось без ответа.
Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в умении ездить верхом: граф Пьетранера, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады.
Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расставании с тетушкой и ее великолепными гостиными, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперся в своем кабинете со старшим сыном, маркезино Асканьо: они сочиняли шифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену; отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего законного преемника, как вести двойные счетные записи доходов, получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже с сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканьо для шифровки депеш, в пятнадцать – двадцать страниц каждая, которые посылал два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркиз воображал, что знакомит своих законных государей с внутренним положением Итальянского королевства, и, хотя это положение было совсем неведомо ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему: маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, переходившего в другой гарнизон, и в своем донесении венскому двору старался по крайней мере на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать, преглупые, отличались одним достоинством: они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту камергерский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного австрийского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши иначе как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху.
Маркиза пришла в восторг от миловидности своего младшего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу графу д’А***, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, она совершенно не могла. Расспросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством.
«Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно, нашел бы, что у него совсем нет образования, а ведь теперь нельзя выдвинуться без личных заслуг», – думала она.