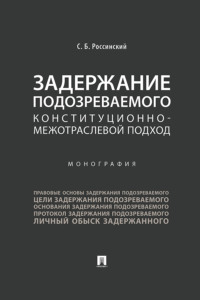Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: «Задержание подозреваемого. Конституционно-межотраслевой подход»

ebooks@prospekt.org
Информация о книге
УДК 343.125
ББК 67.410.2
Р76
Автор:
Россинский С. Б., доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рецензенты:
Грибунов О. П.,доктор юридических наук, заместитель начальника по научной работе Восточно-Сибирского института МВД России;
Дикарев И. С.,доктор юридических наук, директор Института права Волгоградского государственного университета.
УДК 343.125
ББК 67.410.2
© Россинский С. Б., 2018
© ООО «Проспект», 2018
От автора
В 2019 году исполняется 20 лет с того момента, когда автор этих строк, находясь на практической работе в органах предварительного следствия, впервые решил попробовать свои силы на поприще научно- исследовательской деятельности и начал собирать материалы для будущей кандидатской диссертации. И одним из первых научных источников, изученных нами, стала вышедшая незадолго до этого Монография моего Учителя профессора Виктора Николаевича Григорьева «Задержание подозреваемого» с напутственной надписью.
С тех самых пор интерес к различным аспектам теории, нормативного регулирования и практики задержания лица по подозрению в совершении преступления не покидал нас ни на минуту. Несмотря на то что указанные проблемы все это время находились вне основного вектора наших научных исследований, автор неоднократно возвращался к попыткам их анализа и осмысления. И надеялся, что когда-нибудь сможет обобщить все свои разрозненные идеи и суждения, «поселить их под одной крышей», интегрировать в рамках единого научного труда.
В 2012 году увидела свет небольшая работа «Права граждан при задержании», написанная нами по заданию Министерства юстиции РФ и Ассоциации юристов России в рамках совместного проекта по правовому просвещению населения. И хотя данная публикация не имела строго научной направленности, ее подготовка в очередной раз заставила обратить внимание на множество вопросов, возникающих в этом сегменте уголовно-процессуального регулирования, и задуматься об их рассмотрении на более серьезном уровне.
Проблематика задержания подозреваемого традиционно вызывала повышенный интерес со стороны специалистов в области уголовного процесса, криминалистики, административного права, оперативно-розыскной деятельности. Не последнюю роль в возникновении этих научных тенденций сыграли особенности советской модели уголовного судопроизводства, номинально признающей главенствующую роль суда, но тем не менее фактически сориентированной на приоритет предварительного расследования. Многие сложившиеся в советский период научные школы действовали на базе научно-исследовательских и учебных заведений Генеральной прокуратуры СССР, МВД СССР, КГБ СССР, а их представители имели в прошлом стаж практической работы в правоохранительных органах, что и обусловливало преимущественно досудебную направленность проводившихся исследований.
Но несмотря на изменение политического климата и пересмотр концептуальных подходов к соотношению судебной и следственной власти, невзирая на возникновение большого количества новых научных школ, на возрастающую научную активность представителей судейского корпуса и адвокатуры, к проблемам задержания подозреваемого продолжает проявляться повышенный интерес.
Тем более, что в последнее время различные доктринальные, законодательные и прикладные аспекты задержания подозреваемого получили новый импульс для своего развития ввиду проводимых в Российской Федерации реформ, направленных на постепенный поиск собственного пути дальнейшего развития уголовного судопроизводства, с одной стороны, отвечающего существующим международным стандартам и передовым общественно-политическими достижениям мировой цивилизации, а с другой – учитывающего национальные традиции и богатый опыт, накопленный в этой сфере за многие годы. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, построенный на характерных для демократического государства правовых идеях, закрепляя важнейшие юрисдикционные гарантии, содержит множество принципиально новых положений, коснувшихся практически всех аспектов деятельности органов дознания и предварительного следствия, в том числе и задержания подозреваемого.
Последние годы ознаменовались выходом в свет нескольких фундаментальных монографий, затрагивающих проблемы задержания подозреваемого в уголовном судопроизводстве; им же посвящен и целый ряд диссертационных исследований.
Вместе с тем многие вопросы теории, нормативного регулирования и практики применения данного правоограничительного механизма так и не получили своего окончательного разрешения, продолжая оставаться предметом бурной полемики. В этой связи представляется целесообразным осуществление дальнейших научных изысканий, направленных на изучение феномена задержания подозреваемого в общей системе правового регулирования Российской Федерации в целях развития правовой доктрины, совершенствования законодательства и оптимизации деятельности органов дознания и предварительного следствия. Все эти обстоятельства и обусловили подготовку настоящей монографии.
В монографии получили дальнейшее развитие некоторые вопросы, затрагиваемые в прежних работах автора, в частности, в книгах «Обыск в форме специальной операции» (2003), «Результаты “невербальных” следственных и судебных действий как вид доказательств по уголовному делу» (2015), «Механизм формирования результатов “невербальных” следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве» (2015), «Следственные действия» (2018), в вышеупомянутом пособии «Права граждан при задержании» (2012), в авторском учебнике «Уголовный процесс» (2009), а также в ряде статей и иных научных публикаций.
Настоящая монография не является учебником, учебным пособием или научно-практическим комментарием, предполагающим очередное изложение общеизвестных истин. Ее содержание носит сугубо научный характер; в книге освещаются наиболее сложные, дискуссионные методологические и праксиологические проблемы, связанные с реализацией механизмов задержания подозреваемого, которые еще не получили окончательного разрешения. Монография сориентирована на подготовленного читателя, специалиста, знающего и понимающего тонкости уголовно-процессуального права и хитросплетения следственной практики.
Автор выражает признательность заместителю начальника по научной работе Восточно-Сибирского института МВД России доктору юридических наук Олегу Павловичу Грибунову и директору Института права Волгоградского государственного университета доктору юридических наук Илье Степановичу Дúкареву за положительную оценку монографии, данную при ее рецензировании.
Благодарен коллективу издательства «Проспект» за предоставленную возможность выхода монографии в свет.
И наконец, хочется высказать слова признательности всем остальным ученым и практическим работникам, оказывавшим содействие и помощь автору в его научных изысканиях.
Глава 1. Методологические и правовые основы задержания подозреваемого
§ 1.1. Сущность задержания подозреваемого в уголовном судопроизводстве
Вопросы сущности задержания подозреваемого и его места в системе уголовно-процессуального регулирования традиционно привлекали внимание ученых-процессуалистов и являлись предметом многочисленных монографий, статей, диссертационных исследований. Причем вплоть до настоящего времени в теории уголовного процесса по этому поводу так и не сложилась единая позиция, что приводит к целому ряду научных дискуссий.
Анализ существующих (по крайней мере, известных нам) точек зрения позволяет выделить два основных подхода к сущности задержания подозреваемого. Представители первого из них относят задержание к мерам уголовно-процессуального принуждения, полагая, что оно заключается в кратковременном лишении лица, подозреваемого в совершении преступления, права на свободу и личную неприкосновенность посредством его содержания в специализированным учреждении – изоляторе временного содержания (ИВС). Некоторые «ростки», зачатки подобной позиции, можно распознать даже в работах дореволюционных юристов: И. Я. Фойницкого1, В. К. Случевского2, Н. Н. Розина3 и др. Хотя ввиду отсутствия задержания подозреваемого как самостоятельного, обособленного института в системе уголовно-процессуального регулирования того времени их суждения были еще весьма неопределенными, сделанными как бы вскользь, в контексте рассмотрения первого этапа заключения под стражу.
В советской и ранней постсоветской уголовно-процессуальной доктрине о задержании как о мере принуждения писали М. А. Чельцов4, Ю. Д. Лившиц и А. Я. Гинзбург5, А. Д. Соловьев и И. А. Гельфанд6, Д. С. Карев7, З. Ф. Коврига8, Г. А. Абдумаджидов9, И. М. Гуткин10, В. Н. Григорьев11, И. А. Веретенников12 и многие другие авторы.
Однако наибольшее развитие, «второе рождение» данная точка зрения приобрела в последние годы в условиях действия нового уголовно-процессуального законодательства РФ, благодаря прямому указанию на задержание подозреваемого как на меру уголовно-процессуального принуждения в п. 11 ст. 5 УПК РФ13 и включению соответствующих норм в 4-й раздел Кодекса. Подобные взгляды можно встретить в работах Б. Я. Гаврилова14, Л. В. Головко15, М. Е. Токаревой16, Л. Л. Зайцевой и А. Г. Пурса17, В. Н. Авдеева и Ф. А. Богацкого18, С. С. Черновой19 и целого ряда других специалистов. Эта же точка зрения ранее неоднократно высказывалась и нами.
Второй подход предполагает рассмотрение задержания подозреваемого как следственного действия, придает ему поисково-познавательную направленность и связывает его цели с собиранием (формированием) доказательств. Активными сторонниками данной точки зрения являлись А. Н. Гаврилов, С. П. Ефимичев, В. А. Михайлов и П. М. Туленков20, И. Е. Быховский21, А. Я. Дубинский22, С. А. Шейфер23 и др. Среди современных авторов такая позиция прослеживается в работах В. М. Быкова24, А. А. Тарасова25, Е. С. Комиссаренко26, а также в отдельных публикациях по криминалистике27. Некоторые ученые придерживаются более умеренных взглядов и позиционируют задержание подозреваемого как меру принуждения, лишь частично содержащую элементы поисково-познавательной направленности, схожие по своим задачам со следственными действиями28.
На сегодняшний день ввиду изложенной выше четкой позицией законодателя, включившего задержание подозреваемого в систему мер процессуального принуждения, указанная научная дискуссия в определенной степени потеряла свою актуальность. В свое время мы даже позволили высказать по этому поводу несколько резкое суждение об отнесении задержания подозреваемого к числу следственных действий как о явном анахронизме29. И тем не менее дальнейшие исследования привели нас к убеждению, что точка зрения о задержании подозреваемого как о следственном действии не так уж и беспочвенна ввиду целого ряда обстоятельств, требующих более глубокого осмысления.
Подобные позиции частично обусловлены отсутствием единообразных научных и законодательных подходов к самой категории «следственные действия». И если представители так называемого узкого подхода (Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин, И. Е. Быховский, А. Б. Соловьев, С. А. Шейфер и др.) рассматривали в качестве следственных действий только механизмы поисково-познавательной направленности, то другие ученые (М. А. Чельцов, И. М. Лузгин, А. М. Ларин, И. Ф. Герасимов, Г. Г. Доспулов) понимали под ними любые процессуальные формы деятельности органов предварительного расследования30.
Последний (широкий) подход вполне дает основания причислить к следственным действиям и задержание подозреваемого как форму реализации государственно-властных полномочий органами дознания или предварительного следствия. В частности, И. М. Гуткин, называя задержание подозреваемого следственным действием, прямо указывал об употреблении этого термина в широком значении31.
Вполне возможно, что именно эта идея в свое время и была использована законодателем при формулировании диспозиции ст. 119 УПК РСФСР 1960 года32, прямо причислявшей задержание к числу неотложных следственных действий. Примечательно, что к этой правовой норме до сих пор апеллируют многие авторы, ратующие за поисково-познавательную направленность задержания подозреваемого. Видимо, своеобразным наследием данного подхода является и содержание ст. 92 УПК РФ, предписывающей оформление процессуального решения о задержании подозреваемого не постановлением, как в случаях применения других мер принуждения, а именно протоколом (более подробно этот вопрос будет освещен в § 3.1 настоящей Монографии).
Таким образом, представляется, что для формирования единой позиции о сущности и юридической природе задержания подозреваемого в первую очередь необходимо расставить все точки над «i» в многолетнем споре о сущности и системе следственных действий.
Хотя это позволит лишь «заложить первый камень» в решение поднимаемой научной проблемы. А наибольшая сложность в данном вопросе вызвана другим обстоятельством – отсутствием доктринальной и правовой определенности относительно того смысла, который вкладывается в саму категорию «задержание подозреваемого». Ведь системный анализ различных положений УПК РФ и иных корреспондирующих ему нормативных актов, регламентирующих задержание подозреваемого, позволяет констатировать, что в них содержится совершенно разный «правовой контент». Так, предусмотренная п. 11 ст. 5 УПК РФ законодательная дефиниция определяет задержание как меру процессуального принуждения. Кстати, в данном контексте задержание может рассматриваться и как процессуальное действие, выраженное в кратковременном нахождении лица под стражей (применение меры принуждения)33, и как принятие соответствующего процессуального решения (избрание меры принуждения).
С другой стороны, категорией «задержание подозреваемого» охватывается целый комплекс процессуальных действий, урегулированных гл. 12 УПК РФ, куда наряду с составлением протокола входит допрос подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ), его личный обыск (ст. 93 УПК РФ), направление уведомлений (ч. 3 ст. 92, ст. 96 УПК РФ) и т. д. Под таким углом задержание подозреваемого уже вряд ли может быть представлено исключительно как мера процессуального принуждения. В его структуру включаются и отдельные поисково-познавательные элементы, обуславливающие возможность собирания (формирования) новых или проверки имеющихся доказательств, о чем в своих работах как раз и писали И. Е. Быховский, С. А. Шейфер и другие авторы. Ведь допрос подозреваемого предполагает формирование его показаний. Результаты личного обыска, которые, кстати, почему-то должны быть отражены прямо в протоколе задержания (ч. 2 ст. 92 УПК), – это доказательства, предусмотренные ст. 83 УПК РФ; здесь же могут быть обнаружены и изъяты потенциальные вещественные доказательств или «иные»34 документы.
Из смысла закона вытекает еще одно, более широкое значение категории «задержание подозреваемого», которое наряду с процессуальными действиями и решениями охватывает и отдельные фрагменты непроцессуальной деятельности, а именно: фактическое задержание и доставление. Являясь по своей правовой природе оперативно-розыскными или административно-правовыми мероприятиями, сегодня они в определенной степени имплантированы в сферу уголовно-процессуального регулирования ввиду необходимости обеспечения международных и конституционных ценностей, а также реализации принципа неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве (ст. 10 УПК РФ). Например, с момента фактического задержания начинает исчисляться 48-часовой срок применения данной меры принуждения, а задержанный приобретает право на телефонный звонок, на получение квалифицированной юридической помощи и др. С момента доставления исчисляется трехчасовой срок, установленный для составления протокола, и т. д.
В подобном контексте задержание подозреваемого рассматривается целым рядом ученых-процессуалистов. В частности, И. Л. Петрухин включал в задержание подозреваемого: а) фактическое задержание на месте; б) доставление; в) проверку оснований задержания; г) составление протокола задержания; д) возбуждение (или отказ от возбуждения) уголовного дела и водворение задержанного в камеру для задержанных, а военнослужащего на гауптвахту (или освобождение от задержания); е) уведомление прокурора о задержании.
По мнению автора, с задержанием связаны и последующие этапы движения уголовного дела: а) проведение следственных действий как продолжение проверки обоснованности задержания; б) первый допрос задержанного; в) предъявление задержанному обвинения; д) избрание меры пресечения35.
Близкие по смыслу суждения выражаются В. Н. Григорьевым36, И. А. Веретенниковым37, Е. С. Березиной38 и некоторыми другими исследователями. Кстати, схожие позиции высказываются и в криминалистической литературе, где задержание традиционно рассматривается как объект криминалистической тактики. В данном случае подробно анализируются тактические приемы и технологии подготовки задержания подозреваемого, осуществления его захвата39, подготовки и проведения его личного обыска, составления плана его допроса и т. д.40
С учетом последующего помещения лица в изолятор временного содержания задержание подозреваемого приобретает еще одно значение, в котором может быть рассмотрено не как объект уголовно-процессуального регулирования, а как режимное мероприятие, установленное Законом «О содержании под стражей»41. В свое время И. М. Гуткин писал об этом как об административной (исполнительной) части задержания, которая, оставаясь обусловленной процессуальным назначением, реализуется посредством иных (по мнению автора, административных) правоотношений42.
Различные научные взгляды о природе задержания подозреваемого, отсутствие законодательного единообразия в этом вопросе сильно затрудняют нахождение «общего знаменателя», то есть выработку унифицированной научно-практической позиции относительно сущности и определения его места в системе уголовно-процессуального регулирования.
По сути, задержание не предполагает единой, однородной правовой природы, а подлежит рассмотрению и осмыслению как многогранная, многоаспектная доктринальная и правовая категория, имеющая не одно, а несколько различных значений, ипостасей, обусловленных разными формами правоохранительной деятельности и соответствующими им сферами правового регулирования.
Вместе с тем, близкие по смыслу позиции просматриваются в работах других ученых. Хотя при этом они носят лишь фрагментарный характер, не образуя цельной методологической базы. В частности, А. А. Леви пишет о возможности рассмотрения задержания с уголовно-процессуальных позиций – как меры принуждения и с криминалистических позиций – как следственного действия43. О неоднородности правовой природы задержания подозреваемого пишут В. Н. Григорьев44, И. А. Веретенников45 и некоторые другие авторы.
Имеющиеся в теории уголовного процесса и криминалистике подходы к сущности и правовой природе задержания подозреваемого не должны противопоставляться друг другу; каждый из них всего лишь более или менее удачно характеризует разные проявления одного и того же сложного организационно-правового феномена, именуемого задержанием подозреваемого. Представляется, что сущность задержания подозреваемого выражается по крайней мере в четырех различных значениях (ипостасях):
– задержание подозреваемого – это мера уголовно-процессуального принуждения (узкий процессуальный подход);
– задержание подозреваемого – это процессуальная комбинация (широкий процессуальный подход);
– задержание подозреваемого – это тактическая операция (криминалистический подход);
– задержание подозреваемого – это совокупность режимных мероприятий (уголовно-исполнительный подход).
Остановимся на каждом из них более подробно.
1. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения – это предусмотренное уголовно-процессуальным законом и применяемое на основе специального решения субъекта уголовной юрисдикции46 принудительное средство внешнего воздействия на поведение участвующего в уголовном деле лица, чье ненадлежащее поведение создает или может создать препятствия для расследования и последующего судебного разбирательства уголовного дела. Для задержания подозреваемого характерны все признаки, определяющие сущность мер государственного принуждения в системе уголовно-процессуального регулирования47; его основания, участники, сроки и порядок применения строго предусмотрены УПК РФ.
Исключительный уголовно-процессуальный характер задержания подозреваемого отличает его от близких по содержанию принудительных мер, применяемых в иных сферах правоохранительной деятельности. Так, ст. 27.3 КоАП РФ48 предусматривает административное задержание физического лица в целях обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Часть 3 ст. 67 Кодекса торгового мореплавания РФ49 и ч. 3 ст. 67 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ50 наделяют капитанов судов правом изолировать лиц, действия которых не содержат признаков преступления, но создают угрозу безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества. Целый ряд положений уголовно-исполнительного законодательства РФ регламентирует задержание лиц, злостно уклоняющихся от исполнения уголовного наказания (ст. 30, 32, 46, 58 и др. УИК РФ51), и т. д. Более того, практике известно множество случав, когда административное или иное задержание плавно перетекает в задержание уголовно-процессуальное, а задержанное лицо – остается под стражей. Еще Д. Я. Мирский писал, что вопрос о применении к задержанному мер уголовно-процессуального или административного характера часто решается лишь после доставления в правоохранительные органы и проведения соответствующего разбирательства52.
Однако эти формы государственного принуждения не нацелены на достижение задач уголовного судопроизводства, и поэтому осуществляются в принципиально ином правовом режиме, установленном не УПК РФ, а другими законодательными актами. В этой связи Генеральный прокурор РФ специально обращал внимание на необходимость пресечения прокурорами случаев задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основании протоколов об административных правонарушениях53.
Задержание подозреваемого, как и любая другая мера уголовно-процессуального принуждения, применимо лишь к участнику уголовного судопроизводства, чье ненадлежащее поведение препятствует или может препятствовать нормальному течению уголовно-процессуальных правоотношений. По смыслу закона таким участником может являться только подозреваемый. Однако исходя из потребностей следственной практики задержание вполне допустимо и в отношении обвиняемого.
В современной теории уголовного процесса под задержанием обвиняемого понимается неотложная мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания на основе вынесенного следователем постановления на срок не более 48 часов с момента фактического лишения свободы обнаруженного обвиняемого в целях обеспечения судебной процедуры избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу54. Подобный механизм необходим, например, в случае фактического задержания скрывавшегося лица, которому обвинение ранее было предъявлено заочно, и необходимости его доставления в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «А причиной его введения в орбиту уголовно-процессуального регулирования – пишет О. И. Цоколова – послужила трудноразрешимая ситуация, возникшая в связи с запретом “заочного” ареста»55. Однако, как справедливо отмечается в литературе, институт задержания обвиняемого еще находится в стадии формирования, поэтому должен применяться в порядке правовой аналогии56.
В современных публикациях по уголовному процессу выделяется еще одна форма – задержание осужденного при исполнении приговора, которая, по мнению авторов, представляет собой новую, малоисследованную категорию и нуждается в самостоятельной правовой регламентации57.
Возможность применения процессуального принуждения лишь к участнику уголовного судопроизводства вовсе не означает, что он должен стать подозреваемым до своего задержания. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ лицо становится подозреваемым одновременно и в связи со своим задержанием. Однако непосредственно находиться под стражей и испытывать на себе все связанные с этим негативные обстоятельства человек может, лишь пребывая в данном статусе.
Задержание подозреваемого, как любая другая мера уголовно-процессуального принуждения, применяется на основании специального решения субъекта уголовной юрисдикции. Согласно ч. 1 ст. 91 УПК РФ правом вынесения такого решения обладает орган дознания, дознаватель или следователь58. Толкование указанной правовой нормы в системном единстве с другими положениями уголовного-процессуального закона также позволяет распространить эти полномочия на руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК РФ), начальника органа дознания (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ) и начальника подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).
Законодатель не наделяет правом задержания подозреваемого суд или судью, поскольку ввиду несовместимости современных механизмов реализации судебной власти со статусом подозреваемого эти правовые возможности все равно не имеют никакого смысла и принципиально нереализуемы. Следовательно, задержание является исключительно внесудебной мерой уголовно-процессуального принуждения, что и обуславливает его максимальный 48-часовой срок. Некоторым исключением из данного правила является установленный ч. 7 ст. 108 УПК РФ механизм судебного продления времени задержания подозреваемого на срок не более 72 часов для представления сторонами дополнительных доказательств обоснованности/необоснованности избрания меры пресечения арестантского характера. Однако он имеет несколько иное, отличное от гл. 12 УПК РФ процессуальное предназначение. Хотя законодатель и называет такую процедуру продлением задержания, фактически в данном случае имеет место усеченный вариант судебного (!) заключения под стражу.
Еще раз обратим внимание, что, являясь мерой процессуального принуждения и будучи направленным исключительно на обеспечение надлежащего поведения человека и создание условий для решения задач уголовного судопроизводства, задержание подозреваемого (в контексте рассматриваемого узкого процессуального подхода) не может считаться следственным действием и включаться в систему следственных действий. В этой связи необходимо отметить, что в своих работах мы традиционно придаем категории «следственные действия» наиболее узкий смысл, предполагающий их поисково- познавательный характер и нацеленность на получение или проверку доказательственной информации59.
Иной, широкий подход, отождествляющий следственные действия с любыми процессуальными формами работы следователя, стирает границы этой категории и фактических сводит на нет существование следственных действий как самостоятельного доктринального объекта и автономного правового института. При подобном понимании следственные действия становятся равнозначными любым процессуальным действиям.
Хотя, для справедливости, необходимо обратить внимание, что не только отдельные ученые, но и сам законодатель в ряде случаев использует широкий подход к следственным действиям. Например, в ст. 215 УПК РФ под окончанием следственных действий понимается завершение любых действий следователя, составляющих содержание предварительного расследования. Статья 157 УПК РФ в своем системном единстве с п. 19 ст. 5 УПК РФ под неотложными следственными действиями подразумевает всю процессуальную деятельность органа дознания до момента передачи уголовного дела следователю. Как отмечалось выше, этот же подход был заложен и в ст. 119 УПК РФ, которая причисляла задержание подозреваемого к неотложным следственным действиям и, таким образом, давала ученым легальное основание для подобных, на наш взгляд, совершенно неверных высказываний.
Некоторые авторы, признавая исключительный поисково-познавательный характер следственных действий, тем не менее, включают в их число и задержание подозреваемого. Обычно подобная позиция аргументируется необходимостью изложения в протоколе задержания различных обстоятельств, которые впоследствии могут иметь значение для изобличения лица в совершении преступления.
В зависимости от конкретной ситуации, при которой гражданин был задержан, – пишет А. В. Гриненко – особое значение может иметь информация о его поведении в момент задержания. Поясняя свой тезис примером, автор отмечает, что, если человек был застигнут в момент совершения кражи, имеет существенное значение не только сам факт наличия у него имущества, но и его удаление от места совершения преступления в пространстве и от момента совершения кражи во времени60.
Только при оформлении протокола задержания – полагает А. А. Тарасов – процессуальную фиксацию получает факт обнаружения конкретного человека в конкретном месте в конкретное время (нередко в месте совершенного только что преступления или поблизости от него) и основания собственно задержания, то есть фактического захвата этого человека, указанные в уголовно-процессуальном законе. Заканчивая свою мысль, автор отмечает, что причастность человека к преступлению – это предмет дальнейшего расследования. Однако набор первоначальных действий, дающих основания предположить такую причастность, имеет место именно при его задержании, в протоколе которого соответствующие сведения и фиксируются61.
Один из самых авторитетных специалистов в этой области С. А. Шейфер в ряде своих работ приводил уже ставший притчей во языцех пример о задержании в ночное время сотрудниками милиции при выходе из магазина человека с транзисторным телевизором, двумя фотоаппаратами, тремя магнитофонами и электрогитарой. Ученый полагал, что отображение всех этих сведений в протоколе задержания позволяет придать им надлежащую процессуальную форму и доказательственное значение. Тогда как в противном случае они могут быть зафиксированы рапортом сотрудника органа внутренних дел, который в отличие от протокола процессуальным документом не является62.
Относясь с большим уважением и к самому профессору С. А. Шейферу, и к его единомышленникам, мы, тем не менее, вынуждены констатировать некоторую некорректность их суждений по данным вопросам. Придавая задержанию подозреваемого поисково-познавательный характер, они смешивают совершенно разные аспекты и формы правоприменения: фактическое задержание и последующее составление протокола, не хотят учитывать многогранности этого правового явления (о чем мы писали выше), не обращают внимание на разницу между задержанием подозреваемого как мерой принуждения (в уголовно-процессуальном смысле) и задержанием подозреваемого как комплексом правоохранительных действий (в криминалистическом смысле).