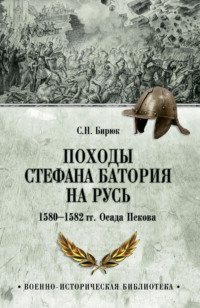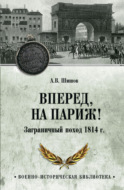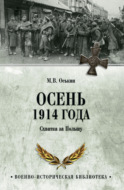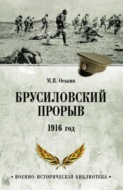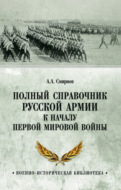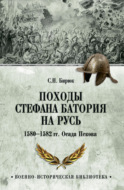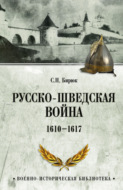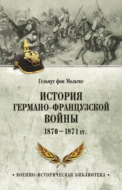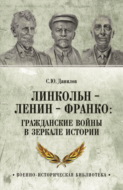Kitobni o'qish: «Походы Стефана Батория на Русь. 1580-1582 гг. Осада Пскова»
Amat victoria curam – Победа любит старание.
© Бирюк С.Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Вместо предисловия
В 1558–1583 годах развернулся вооруженный конфликт России с немецким Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским и королевством Польским, Швецией при участии наемников из многих западных стран – Священной Римской империи, Венгрии, Пруссии, Италии, Франции и даже Шотландии. Этот конфликт в историографии получил название «Ливонская война».
Желая развить русскую торговлю, Иван Грозный хотел получить выход к Балтийскому морю, чему препятствовал Ливонский орден, устроивший торговую блокаду Русского государства. В январе 1558 года русская армия вторгается в Ливонию и быстро устраняет это досадное препятствие. Польско-Литовскому государству, претендовавшему на территории Ливонского ордена, русскими войсками был нанесен ряд поражений – наивысшей точкой успеха было взятие Полоцка в 1563 году. В 1577 году русская армия овладела почти всей Ливонией, но в 1579 году новый польский король Стефан Баторий отвоевал Полоцк, в 1580 году захватил Великие Луки и в 1581 году осадил Псков. Только под Псковом было остановлено победное шествие армии Батория.
1
Армия Речи Посполитой
Численность армии и расходы на ее содержание
В 1576–1600 годах вооруженные силы Речи Посполитой состояли из двух отдельных армий: коронной и литовской. По подчиненности различали государственные, частные и местные войска. Организационно они делились на национальные и иностранные, а также на постоянные, временные и ополченческие. Большая часть вооруженных сил состояла из национальных войск, составлявших 80 % кавалерии и 50 % пехоты. Иностранцы набирались в основном в пехоту и лишь частично в кавалерию. В Литве иностранные войска были очень малочисленны.
Постоянные войска Короны включали роты и хоругви кварцяных, размещенные в Червонной Руси, Подолии и на Украине. В первые годы правления Стефана Батория численность кварцяных составляла от 1400 до 2300 человек конницы и 200–550 человек пехоты. В период Русско-польской войны 1577–1582 годов в пограничных крепостях кварцяные войска составляли в среднем около 1000 всадников и 400–500 пехотинцев. В остальные периоды в среднем насчитывалось около 200 всадников и 500 пехотинцев. В угрожаемый период численность кварцяных увеличивались до 2000–4000 в кавалерии и более 500 в пехоте.
Литва держала на восточных границах постоянные гарнизоны общей численностью до 2000 человек. Польско-литовские гарнизоны в Ливонии обычно не превышали 3000 конницы и пехоты, но с 1583 года их численность была сокращена вдвое – до 1000 пехоты и 500 кавалерии1.
Войска ополченского типа Короны представляли выбранецкие формирования, реестровые казаки и шляхетское посполитое рушение (дворянское ополчение).
Численность выбранецкой пехоты номинально составляла около 3000 воинов, но при Батории было мобилизовано около 2000, а при Сигизмунде III – 1200–2300 воинов. В Литве выбранецкие войска были введены только в 1595 году.
Прежний отряд низовых казаков численностью 300 человек был распущен, и Баторий в 1578 году набрал новый, насчитывающий 500 человек, под командованием черкасского старосты Михаила Вишневецкого. Эти казаки были освобождены от налогов, в также получали жалованье и сукно на пошив обмундирования. В 1581 году на войну были призваны все низовые казаки в количестве 1500 человек.
Общее дворянское ополчение являлось главной силой в случае прямой угрозы государству. Однако, несмотря на его теоретически большую численность (около 50 000) и обязательный периодический «смотр», боеспособность была низкой. Первоначальные попытки реформировать его в 1576–1577 годах, разрешив королю разделить его на части в зависимости от военной обстановки, не увенчались успехом. Баторий так и не созвал его ни разу. Только в русинских землях продолжалась практика созыва местного дворянского ополчения для борьбы с татарами. В Литве войска ополченского типа включали поселившихся там татар. Пожалованные земельными наделами, они служили за свой счет в качестве легкой конницы, численностью в 500–600 всадников. За счет земельных наделов несли службу и так называемые «городовые» казаки, размещенные в крепостях на восточном пограничье Беларуси. Литовское дворянское ополчение принимало активное участие в походах против Русского государства в 1576–1582 годах, а в 1579 году его численность достигла 11 370 человек (10 550 конницы, 820 пехоты)2.
По мнению Дариуша Купиша, частый созыв ополчения Литвы во время войн с Русским царством позволил ему сохранить несколько более высокую боеспособность, чем у ополчения Короны. Однако его недостатками были недисциплинированность и не самое лучшее вооружение, особенно в рядах небогатого дворянства3.
Белорусский исследователь А.Н. Янушкевич дополняет, что в ходе боевых действий 1558–1570 годов: «Шляхетское ополчения являлось малоподвижной структурой, неспособной оперативно реагировать на ситуацию на фронте. Вызывала вопросы боеспособность шляхтичей, которые за длительное время «простоя» попросту разучились воевать. Сборам постоянно сопутствовали уклонение со службы, сокрытие реальных размеров почтов, насилие по отношению к местному населению по пути к месту сбора»4.
Обязанности, связанные со сбором дворянского ополчения в Великом княжестве Литовском, возлагались на всех землевладельцев (а также татар, казаков и др.) и были точно определены в литовских статутах 1529 и 1566 годов. Размер воинской повинности определялся на основе так называемой службы (поместий и усадьб), поэтому литовское дворянское ополчение часто называли земской службой. Начиная с 1566 года от каждых 10 поместий должен был выставляться один всадник с полным вооружением. Как и в Короне, участники военного похода объединялись в поветовые (уездные) хоругви под руководством местных хорунжих, а затем в более крупные соединения во главе с воеводами. В отличие от Короны, ополчение Великого княжества могло делиться на более мелкие части, подчинялась Великому гетману Литовскому и в особых случаях могла созываться без обращения к сейму. Предполагается, что в каждом из трех русских походов Батория участвовало около 10 тыс. литовских войск5.
Крупные контингенты наемных войск набирались только в периоды больших войн за счет чрезвычайных налогов, утверждаемых сеймом. Во время русских походов Батория численность наемных войск достигала 20 000 солдат в коронной армии и 5000 солдат в армии Литвы. Контракт обычно заключался на полгода, после чего часть солдат увольнялась по окончании активных боевых действий, чтобы в следующем году, если война продолжится, вновь быть нанятой на службу.
Наемные войска, содержавшиеся за счет сейма и четверти доходов с королевских владений, составляли ядро вооруженных сил. Однако это были не единственные наемные войска в стране. В период междуцарствия их заменили местные и провинциальные войска. Это произошло уже в 1572–1573 годах. В январе 1576 года в Малопольше и Великопольше была набрана наемная армия под командованием Станислава Гурки и Станислава Циковского в составе 2870 солдат (1715 кавалеристов и 1155 пехотинцев). В крупных городах для их защиты имелось ополчение гильдий, дополняемое наемными войсками в случае угрозы. Последние были в значительном количестве, особенно в Гданьске.
Большую роль в вооруженных силах Речи Посполитой играли частные армии, в т. ч. придворные отряды короля. Эти отряды содержались королем за счет доходов королевской казны. В 1576 году Баторий завербовал 1000–2000 польских гусар и несколько сотен венгерских пехотинцев. Также в Литве у короля были свои хоругви, но они были включены в наемные войска. Очень многочисленные и боеспособные частные отряды выставляли магнаты. Во время русских походов Батория магнаты Короны привели до 5000, литовские – до 10 000 воинов. Богатые дворяне формировали личную дружину (почт) из собственных крестьян и слуг6.
Ежеквартальные расходы на содержание наемного войска из 2200 человек кавалерии (гусары, казаки, конные стрелки) и 500 человек пехоты составляли при Стефане Батории около 30 000 злотых, т. е. 120 тыс. злотых ежегодно. Поступления за квартал составляли 90—100 тыс. злотых, что было недостаточно для полного содержания даже столь немногочисленного войска. Разница в расходах на содержание национальных и иностранных воинов была значительной и составляла около 30 % в кавалерии и 40 % в пехоте.
Неудивительно, что Баторий стремился максимально увеличить численность национальной пехоты. Ведя войну против Гданьска, в мае 1577 года король получил налоговые поступления от шляхты, собравшейся на генеральные сеймики в Коле, Нове Място, Корчине и Варшаве, и «subsidium charitativum» – добровольный сбор от духовенства, собравшегося в Петркуве. В результате в июле Баторию удалось набрать войско численностью около 4000 кавалерии, 2000 пехоты и 20 пушек.
Благодаря интенсивной военной пропаганде Баторий добился от варшавского сейма в 1578 году согласия на сбор чрезвычайных налогов в течение 2 лет в неслыханной ранее сумме в 30 грошей с владения, что должно было составлять около 1 млн злотых ежегодно. Фактически оно получало около 600 000 злотых из Короны и 100 000 злотых из Литвы.
В ходе трех походов, предпринятых последовательно в 1579, 1580 и 1581–1582 годах, удавалось собирать на главном театре военных действий более 40 000 воинов, половину из которых, однако, составляли частные отряды, ополчение и казаки. Процент этих формирований достигал 20 % в Короне и 80 % всех сил в Литве. На каждом из второстепенных направлений насчитывалось в среднем около 10 000 человек. Главные силы имели 70 пушек (из них 40 тяжелых), 30 000 ядер, 5000 центнеров пороха (400 тонн) и техническое оборудование. В огромных обозах было около 40 000 слуг, возниц, крестьян-«мостовиков» из Литвы и других людей, составлявших тыл армии.
Наиболее активные военные действия проходили в течение шести месяцев лета и осени. До 20 000 воинов (с декабря 1581 года у Пскова оставалось 20–24 000 воинов), то есть все государственные силы, были оставлены для локальных операций зимой и весной.
Примерная сумма военных расходов Речи Посполитой в период 1578–1582 годов составила до 4 миллионов злотых. Они были покрыты налоговыми постановлениями сеймов 1578 (двухгодичного), 1580, 1581 (двухгодичного) и 1582 (общего сеймика) годов.
Для войны с Турцией Баторий планировал довести численность армии в 1583–1584 годах в 85 000—95 000 солдат с большим количеством артиллерии, боеприпасов и технического оборудования. Ежегодные расходы на ее содержание должны были составить около 6 миллионов злотых, поэтому предполагались налоговые реформы, включавшие ревизию имущества всех сословий и введение постоянного налога7.
Организация армии
В последней четверти XVI века при вербовке наемных войск продолжала действовать система «товарищества» – выдача королем ротмистрам жалованных грамот (листов пшиповедных) для набора хоругвей. По сравнению с периодом правления последнего Ягеллона грамоты стали более подробными, содержали информацию о вооружении, жалованье, наборе, походе, провианте, наградах за боевые заслуги и прочее. Как и раньше, ротмистр, принимаемый на службу, выбирал себе товарищей (десятников), которые уже прибывали с готовыми почтовыми (десятками). Иностранные войска обычно нанимали целыми полками, поручая эту задачу на основании письменного договора (капитуляции) полковникам (оберстам). Те, в свою очередь, выбирали капитанов (ротмистров), которые сами или с помощью своих заместителей набирали солдат целыми ротами. На место сбора полковник прибывал со всем полком8.
Король по-прежнему был Верховным главнокомандующим и администратором всех вооруженных сил Речи Посполитой, а его заместителями были великие гетманы Короны и Литвы, занимавшие теоретически эквивалентную должность. На практике решающий голос доставался тому, кто в данный момент имел в своем распоряжении больше вооруженных сил на одном театре военных действий. Разница между ними заключалась в том, что власть коронного гетмана распространялась только на наемные войска, за исключением ополчения, в то время как литовский гетман командовал как ополчением, так и наемными войсками.
Пожизненное пребывание в должности великого гетмана, применявшееся на практике до этого времени, получило силу закона в Короне в 1581 году. Законы 1590 и 1593 годов привели к значительному росту значения этой должности. Всю власть гетмана можно разделить на три части: 1) военная власть, включающая в себя руководство подготовкой к войне, выдвижение кандидатов в ротмистры, командование во время военных действий, роспуск армий, развертывание их на местах, введение организационных изменений, забота о состоянии и снабжении крепостей и цейхгаузов, 2) административная и фискальная власть, ограничивающаяся контролем за выплатой жалованья и ценами на продовольствие, продаваемое армии; 3) судебная власть с правом издания военных артикулов и проведения судов, причем обжалованию подлежали только его решения, касающиеся споров между гражданским населением и армией.
С 1566 по 1578 год имелся третий гетман – Ливонии, подчинявшийся непосредственно королю. Он был назначен снова около 1583 года, но имел власть только над Ливонской земельной службой.
Полевые гетманы были тесно связаны с постоянным наемным войском. В Литве это были пограничные гарнизоны и постоянные полевые войска. В Короне полевой гетман постоянно командовал и управлял кварцяным войском практически самостоятельно, и только в моменты повышенной опасности на юго-восточной границе в дело вступал великий гетман с более крупными силами. Полевой гетман назначался королем, но по предложению великого гетмана. Последнему подчинялись, равноправные между собой: придворный гетман, командовавший придворным войском, казацкий гетман со своим заместителем (поручиком) и старший над пушками, которому подчинялась артиллерия, но только административно.
В Литве после упразднения Ливонского гетманства в 1579 году была создана должность «исполнителя» великого гетмана Литовского в Инфлянтах (Ливонии), командовавшего местными гарнизонами, но просуществовала она только до 1582 года. Иноземные полки имели своих командиров, которые, подчиняясь великому гетману, сохраняли значительную автономию.
Полевые писари ежеквартально проводили инвентаризацию лошадей и снаряжения кавалерийских хоругвей, ежемесячно – пеших рот и выплачивали им жалованье. Текущие списки личного состава подавались казначею и служили основанием для выплаты причитающихся сумм. Отдельные виды войск имели своих полевых писарей: кварцяные, реестровые казаки и придворные – по одному, наемные войска коронной армии, временно завербованные, во время русских походов Батория имели трех полевых писарей, причем немцев и венгров имели собственных. В Литве был только один полевой писарь, а в Ливонии – отдельный полевой писарь.
К должностям штабного и служебного характера относились окольничие и причетники в Короне и в Литве. В их обязанности, выполняемые только во время военных действий, входили разбивка военных лагерей, поддержание порядка в лагере и заведование обозами.
На время похода гетман также назначал несколько судей, по 1–2 от каждой нации. Роль жандармерии выполнял профос со своими помощниками и палачом.
Также следует упомянуть старшего над пушками кварцяного войска, чиновников, распределявших войска по квартирам, главного хирурга, проповедников и т. д.9
В рассматриваемом периоде посты занимали:
великий коронный гетман – Николай Мелецкий (1579) – Ян Замойский (1581–1605);
великий гетман литовский – Николай Радзивилл «Рыжий» (1576–1582) – Кшиштоф Радзивилл «Перун» (1589–1603);
полевой гетман короны – Николай Сенявский (1575–1584) – Станислав Жолкевский (1588–1618);
полевой гетман литовский – Кшиштоф Радзивилл «Перун» (1572–1589);
ливонский гетман – Ян Ходкевич (1566–1578), Георг Фаренсбах (1583–1602);
придворный гетман короны – Ян Зборовский (1576–1582);
казачий гетман – Михаил Вишневецкий (1578–1584)10.
Как и в предыдущий период, на ротмистре лежала ответственность за своевременный сбор хоругви в соответствии с условиями, изложенными в листе пшиповедном, а также за дисциплину и обучение солдат. Из-за задержек со сбором утвержденных налогов возникли трудности с выплатой аванса за экипировку и своевременной выплатой жалованья. В такой ситуации ротмистр был вынужден выдавать солдатам из собственных средств пособия на оплату их службы, которые впоследствии вычитал из жалованья. По этой причине король обычно назначал ротмистром не просто опытного воина, но того, у кого было много денег.
Помимо ротмистра, командный состав хоругви состоял из его заместителей – лейтенанта («capitaneus») и прапорщика («vexillifer»). Лейтенант либо помогал командиру в выполнении его обязанностей, либо выполнял их полностью сам. Очень часто он фактически командовал ротой, выполняя различные боевые задачи. Однако звание ротмистра нельзя считать номинальным. В важных боевых действиях ротмистры обычно находились рядом со своими хоругвями и непосредственно командовали ими в бою. Лейтенанты замещали их, например, когда хоругвь стояла в охранении или когда находилась на отдыхе. В последних случаях ротмистры в основном разъезжались по домам. Прапорщик отвечал за штандарт хоругви11.
Численность гусарских хоругвей устанавливалась королем чаще всего в 150 всадников, иногда (обычно в казачьей коннице) в 100, а в исключительных случаях в 200, 300 или 50. Что касается численности почтов товарищеских, то листы пшиповедные устанавливали верхний предел для почтов ротмистров в 24 всадника и вообще рекомендовали иметь как можно меньше почтовых («famulorum») и как можно больше товарищей («commilitonum»). Наиболее типичные хоругви во времена Батория насчитывали: 150 всадников, в т. ч. 30 товарищей и 120 почтовых, 100 всадников – с 20 и 80 соответственно, что давало в среднем 5 всадников в почте (включая товарища). Общее количество хоругвей – 50, в т. ч 30 по 150 всадников и 20 по 100 всадников. Наиболее часто встречались почты по 3–7 всадников в гусарии, 2–5 всадников у казаков, 3–5 в аркебузирах, набиравшихся системе «товарищества». В почт ротмистра всегда входили 2–3 трубача, 1 барабанщик и 1–4 заводных (дополнительных) лошади при слугах. Кроме того, каждый почт обычно имел 1 телегу со снаряжением и продовольствием, а также слуг для обслуживания. Таким образом, в среднем на одну хоругвь приходилось около 20–30 повозок и как минимум вдвое больше слуг12.
Пехотные роты формировались – как и конные хоругви – на основе листов пшиповедных, содержащих аналогичные общие указания. Основное отличие заключалось в численности почтов, которые назывались десятками и состояли из девяти рядовых пехотинцев (почтовых) и одного десятника (товарища). Как правило, в ротах насчитывалось 200 пехотинцев, хотя на практике иногда наблюдался значительный разброс, особенно среди выбранецкой пехоты.
Командный состав пехотной роты состоял из ротмистра и его заместителя лейтенанта («superintendenta»). Они оба действовали на лошадях. Ротмистр обычно имел при себе 1–2 вооруженных слуг на лошадях. Кроме того, в роте имелись прапорщик («vexllifer»), барабанщик («thimpanista») и иногда пищальщик («szyposz»). В общей сложности в роте численностью 200 человек было 18 десятников («decuriones») и 178–179 пехотинцев. Численность венгерских полков на польской службе варьировалась от 500 до 3000 человек.
Отдельного, изолированного штаба не было. Только в роте, которой командовал полковник, было несколько больше хорунжих и военных музыкантов. В полку же имелась группа специалистов («artifices»), насчитывавшая от восьми до дюжины солдат, включая хирурга, жестянщиков, портных, цирюльника, хранителя и различных слуг.
Венгерские пехотные полки делились на роты по 100 гайдуков в каждой. Роту возглавлял ротмистр, у которого был заместитель – лейтенант («vicecapitaneus»), если он одновременно являлся командиром полка. Как правило, рота состояла из 1–3 прапорщиков, барабанщика, 9 десятников и около 90 рядовых. В десятках, из которых состояла рота, было, как и в польской пехоте, 9 рядовых и десятник.
Казачья пехота была организована в 1578 году по венгерскому образцу. Это был один полк в 530 пехотинцев (с 1583 года – 600). Формально им командовал гетман запорожских казаков с военным писарем при нем. Фактическим командиром был поручик с 30 телохранителями. Остальные 500 пехотинцев были разделены на 5 сотен, которыми командовали сотники, а те, в свою очередь, на десятки (куреня), возглавляемые атаманами (десятниками).
Полки немецкой пехоты насчитывали 1000 (Эрнест Вейхер в 1576 году) или 2000 пехотинцев (Кшиштоф Розражевский и Георг Фаренсбах в 1581 году). Организационно они делились на 5–6 рот по 400–500 солдат в каждой. Вышеупомянутые полки носили характер организационных единиц.
У них было два типа штабов. Высший полковой состоял из полковника, писаря, 8 гвардейцев, вахмистра, слуги вахмистра, провиантмейстера, писаря и помощника провиантмейстера, капеллана, квартирмейстера, профоса, слуга писаря и 2 пеших профосов, палача с помощником, хуренвайба (управляющего женщинами), оружейника, трубача и 2 барабанщиков – всего 29 человек. В штаб рот входили капитан со слугой, лейтенант со слугой, прапорщик со слугой, сержант со слугой, писарь, хирург, фурьер (руководил маршем роты), фурьер (снабжал роту продовольствием), 2 старших солдата, 2 жандарма, 2 писаря, 2 барабанщика и оружейник (21 человек)13.
В артиллерии руководство канонирами, их помощниками и мастерами в различных арсеналах осуществляли цейхварты. Административная власть осуществлялась старшим над пушками. Во время войны один пушечный мастер обычно отвечал за 2 пушки, но у него был помощник, подававший порох, ядра и выполнявший вспомогательные работы. За военно-инженерное дело отвечали несколько иностранных инженеров в звании капитан. Кроме них, имелись еще 1–2 шанцмейстера с саперным подразделением, численностью 50 шанцкнехтов.
Постоянных тактических подразделений, кроме хоругвей и рот, в то время еще не существовало. Вместо них формировались специальные тактические объединения, которые впоследствии стали называться полками. Они состояли из различных видов кавалерии и пехоты с добавлением артиллерии, численностью от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Их командирами были высшие военные сановники, сенаторы или ротмистры, назначаемые королем или великими гетманами.